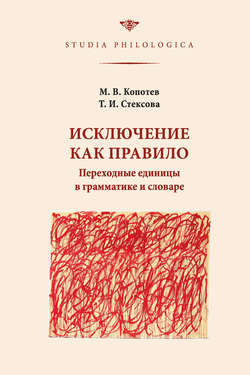Читать книгу Исключение как правило: Переходные единицы в грамматике и словаре - Михаил Копотев - Страница 7
Введение
Теоретические предпосылки
Оглавление«Идиома – это то, с чем мы можем превзойти Хомского» (D. Hays, цит по: [Иорданская, Мельчук 2007: 243]). Шутливое определение, пересказанное И. А. Мельчуком, обозначает теоретическую доминанту исследований идиом в современной лингвистике: именно этот материал довольно плохо описывается в рамках генеративного синтаксиса (ср., впрочем, [Fraser 1970; Machonis: 1985; Tronenko 2003]). С другой стороны, эти явления стали одной из самых изучаемых областей в рамках когнитивной лингвистики. Эта часть посвящена обсуждению более общих, теоретических подходов, которые позволят поставить тему этой книги в более широкий контекст современных когнитивных исследований.
Под современной когнитивной лингвистикой понимают направление, изучающее возникновение, освоение и использование языка в прямой связи с деятельностью человеческого сознания. При множестве различных подходов и теорий, существующих в рамках когнитивной лингвистики, общим является признание языковой способности частным случаем когнитивного навыка, понимание грамматики как концептуализации и, наконец, утверждение, что языковой навык возникает из ситуации использования языка. Предлагаемое исследование опирается на несколько теорий, разрабатываемых в рамках когнитивной лингвистики. Ниже кратко охарактеризованы те из них, которые в наибольшей степени повлияли на настоящее исследование (обзор работ по современным подходам к синтаксической идиоматизации см. [Penttila 2006: 23–63]).
Грамматика конструкций (CxG)
Подход, названный Construction Grammar (CxG), в настоящее время получил чрезвычайно широкое распространение[6]. Он разрабатывается с конца 1970-х годов Ч. Филмором, П. Кеем [Fillmore & Kay 1993; Fillmore & Kay 1999; Kay 1998], а позже – Я. О. Остманом и М. Фрайд и многими другими (см. [Fried & Ostman 2004]; а также сайт www.constructiongrammar.org). Основная идея CxG формулируется следующим образом:
Главным стимулом для Грамматики конструкций (CxG) служит необходимость разработки системы грамматического описания, в котором маркированные конструкции (более или менее идиоматизированные формы выражения) описываются в рамках той же формальной модели, что и регулярные «ядерные» шаблоны и правила [Кау 1998: 1].
Формализм, заданный рамками теории, позволяет описывать единообразно единицы разных уровней: модальные глаголы, полнозначные лексемы, словосочетания, конструкции. При возможности описать с помощью таких схем любую языковую и речевую единицу основным объектом анализа в работах этого направления стали прежде всего идиоматизированные конструкции, такие как let alone, What's X doing Y, the X-er the Y-er (the more the better) и др. [Fillmore & Kay 1999:9].
Применение этого подхода приводит к выводу, согласно которому все синтаксические единицы являются конструкциями, то есть любая синтаксическая единица накладывает определенные ограничения на переменные, и принципиальной разницы между идиоматизированными и свободными конструкциями не существует.
Следует сказать, что Грамматика конструкций активно развивается в настоящее время, представляя несколько дифференцированных подходов. К «филлморовской» CxG тесно примыкает подход, представленный в серии исследований Дж. Лакоффа, прежде всего в монографии [Lakoff 1987]. Третью главу этой книги, посвященную конструкциям с англ, there, часто называют первым исследованием в рамках CxG. Близкие к работам Дж. Лакоффа идеи представляет Адели Голдберг [Goldberg 1995,2006], которую тоже называют среди основателей CxG. Наконец, Уильям Крофт разрабатывает типологически ориентированный радикальный вариант CxG (Radical Construction Grammar), основным отличием которого является последовательное отрицание композициональности конструкций: по мнению У Крофта, не конструкции образуются путем сочетания более мелких элементов, но эти элементы могут быть вычленены в результате лингвистических процедур из уже готовой конструкции [Croft 2002]. Нельзя не отметить и существенный вклад в это направление русских лингвистов, прежде всего Е. В. Рахилиной и ее учеников, описавших целую серию явлений, ранее ускользавших от внимания исследователей (см. [Рахилина (ред.) 2010; НТИ 2008]). Наконец, следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция к объединению практики исследователей, разделяющих формальные принципы описания в рамках GxC, и смещение в сторону другого популярного направления когнитивной лингвистики – «Модели языка, основанной на употреблении» (Usage-based model, см. ниже).
Грамматикализация vs деграмматикализация
Грамматика – это концептуализация (“Grammar is conceptualization”). Так сформулировал одно из базовых положений когнитивной лингвистики Рональд Лангакер [Langacker 1998]. Этот афоризм обобщил целый ряд существующих подходов и научных направлений в современной лингвистике, посвященных исследованию процессов, которые иногда предлагают объединить в рамках суперграмматикализации [Lindstrom 2004], включающей множество разнородных и разнонаправленных явлений. Исходя из тезиса о транспарентности языковых уровней, исследователи этого направления включают в круг рассмотрения и грамматический, и лексический материал. На основе того, что является результатом процесса – морфологическая единица, лексема или синтаксическая конструкция, можно выделить несколько направлений исследований. Однако в целом стоит помнить, что они принципиально не образуют четко расчерченной системы, регулирующей эволюцию разных уровней языковой структуры.
Одно из направлений, достижения которого послужили фоном для настоящего исследования, принято называть грамматикализацией – термином, который имеет в настоящее время два значения. В широком смысле
этот термин отсылает к области изучения языка, которая сфокусирована на том, как возникают грамматические формы и конструкции, как они используются и как они формируют язык. Таким образом, он выдвигает на первый план связь между относительно нестрогими лексическим структурами и более строгими синтаксическими, морфосинтаксическими и морфологическими структурами [Hopper & Traugott 1993: 1].
В то же время грамматикализация может пониматься и в узком смысле, как один из процессов развития грамматической системы, о котором речь пойдет ниже. В рамках теории грамматикализации наиболее активно обсуждаются три группы вопросов, которые с некоторой долей условности можно назвать грамматикализацией в узком смысле и деграмматикализацией (см. обзоры в [Lindstrom 2004; Майсак 2005; Penttila 2006], на которые мы опираемся в последующем изложении).
Грамматикализация (в узком смысле)
Грамматикализация в узком смысле изучает процессы, результатом которых является появление морфологической единицы, которая восходит к лексеме или – шире – к синтаксической конструкции. Существует несколько определений грамматикализации (см. обзор [Campbell & Janda 2000]), наиболее нейтральным из которых, по-видимому, может считаться определение, данное К. Леманном:
Грамматикализация – это процесс, ведущий от лексемы к грамматическому показателю. Определенное число семантических, синтаксических и фонологических процессов взаимодействуют при грамматикализации морфем и целых конструкций [Lehmann 1982, с. х].
Поскольку грамматикализация в узком смысле является одной из наиболее разработанных областей этого научного направления, приведем ниже основные гипотезы, которые одновременно являются и своеобразными диагностическими инструментами (см. подробнее: [Bybee et al. 1994; Heine & Kuteva 2002]).
– Определение источника. Актуальное значение конструкции, входящей в процесс грамматикализации, однозначно определяет путь, по которому проходит процесс грамматикализации и, следовательно, грамматическое значение, возникшее в результате этого процесса.
– Однонаправленность. Путь в процессе грамматикализации всегда ведет от менее грамматичного явления к более грамматичному.
– Сохранение более раннего значения. Семантические нюансы начальной конструкции могут долго сохраняться и после начала процесса грамматикализации.
– Последовательность сохранения значений. Засвидетельствованные формы могут использоваться для реконструкции более ранних состояний языка.
– Семантическое и фонологическое упрощение. Семантическое упрощение часто сопровождается фонетической редукцией.
– Многослойность. Развитие новых маркеров не зависит от исчезновения или ослабления функций предшествующих форм.
Синтаксическая реинтерпретация
Общепринятое современное определение реинтерпретации принадлежит Р. Лангакеру:
Синтаксическая реинтерпретация (англ, syntactic reanalysis) – это изменение в структуре выражения или класса выражений, которое не приводит к немедленным или существенным модификациям поверхностной структуры [Langacker 1977: 59].
Синтаксическая реинтерпретация нередко определялась в качестве важного механизма грамматикализации (см. [Heine et al. 1991; Hopper & Traugott 1993; Givon 2001]). Однако начиная со статьи М. Хаспельмата [Haspelmath 1998], эти два процесса принято разграничивать. Исследователь демонстрирует разницу между грамматикализацией и синтаксической реинтерпретацией в следующей таблице [Там же: 327]:
грамматикализация
потеря автономности
последовательна
однонаправленна
однозначна
вызвана использованием языка
реинтерпретация
нет потери автономности
непоследовательна
двунаправленна
неоднозначна в начальной точке
вызвана усвоением языка
В целом необходимо сказать, что случаи синтаксической реинтерпретации встречаются гораздо реже и изучены меньше (см., однако: [Langacker 1977; Timberlake 1977; Harris & Campbell 1995; Плунгян 2002; Roberts 2007; Willis 2008]).
Возникновение и развитие основного объекта нашего исследования – фразем разного рода – мы определяем как один из этапов грамматической концептуализации (в смысле R Лангакера), как частный случай грамматикализации. При этом очевидно, что грамматикализация в широком смысле не может проходить одинаково на разных уровнях. Более того, каждый из конкретных процессов может быть «трансграничным», без четких различий между лексемами и аффиксами, грамматикой и лексикой и т. д. В результате грамматикализации могут возникать единицы разного уровня: процесс может завершиться появлением идиоматизированной синтаксической конструкции, а может привести к развитию нового служебного слова, аффикса и т. д. Иллюстрацией этого процесса может служить судьба местоимения себя и суффикса – ся в русском языке: будучи исходно вариативными формами одной лексемы, они прошли разными путями грамматикализации, постепенно теряя ударение, формы склонения и, наконец, лексическую самостоятельность (суффикс – ся).
Учитывая однонаправленность процесса грамматикализации, можно сказать, что синтаксические фраземы представляют собой один из путей исторического изменения единицы: от свободной синтаксической конструкции к идиоме (и – в некоторых случаях – к новой свободной конструкции). В этом смысле они вполне отвечают отмеченным М. Хаспельматом признакам. Например, синтаксические фраземы часто развиваются за счет существенных «материальных потерь» (например, эллипсиса), что приводит к уменьшению их автономности. Они в гораздо большей степени зависят от прагматических условий и морфологических форм конкретных лексем. И это совершенно естественно: если в конструкции не все семантические компоненты заданы эксплицитно, развивается большая зависимость от контекста или от входящего лексического материала. При этом многозначность единиц не только не увеличивается, но часто уменьшается. Как будет показано ниже на некоторых примерах, динамика развития носит градуальный характер.
Еще один важный признак грамматикализации – однонаправленное изменение от меньшей к большей грамматичности – отмечается на наших примерах в полной мере: например, лексически прозрачный условно-следственный двухместный союз если… так, потеряв первый компонент, становится в конструкции Гулять так гулять! по существу чисто грамматическим маркером конструкции, сохраняя лишь «этимологическую» связь с исходным союзом, союзные функции и его условно-следственную семантику.
И наконец, проведенный анализ показывает, что изменения происходят в результате использования языка, а не в результате мгновенного изменения существующего грамматического правила. Поскольку грамматикализация – процесс динамический, в следующем разделе мы кратко остановимся на современных подходах к историческим изменениям.
Синхрония vs диахрония
Тезис Ф. де Соссюра «все диахроническое в языке является таковым лишь через речь» [Соссюр 1977:130] за прошедшие сто лет был отвергнут, переосмыслен и снова принят. Множество «обломков прошлого» (по выражению А. А. Потебни) остается в языке в качестве идиом, которые с трудом поддаются описанию в терминах генеративных правил. Эти единицы могут быть рассмотрены как реликты былых состояний или ростки новых явлений, то есть как примеры постоянного языкового развития. Часть таких единиц в результате генерализации формируют то или иное правило, часть – хранится в виде застывших штампов. Представленные ниже исследования синтаксических фразем являются по преимуществу ориентированными на динамические модели в языке, проявляющиеся как на синхронном срезе языка, так и в его развитии. По этой причине целесообразно кратко остановиться на двух подходах, повлиявших на авторов настоящего исследования (обстоятельный обзор теорий языкового изменения можно найти в третьей главе книги [Croft 2000: 42–86]).
Модель языка, основанная на употреблении
Подход, названный usage-based model / approach, был впервые представлен Р. Лангакером в конце 1980-х годов [Langacker 1987, 1988]. С самого своего возникновения этот подход был четко противопоставлен лингвистике Н. Хомского, так что даже его отличительные особенности формулировались в противопоставлении генеративному синтаксису (см. [Langacker 2000]).
1. Максималистская (vs минималистская) теория
Любой носитель языка осваивает не только минимальный набор параметров, но весьма объемный и часто не организованный систематически избыточный набор конвенций.
2. Неупрощенная (vs упрощенная) грамматика Грамматическое описание не должно ограничиваться лишь набором правил, достаточных для описания процедуры порождения. Грамматика не является оптимальной с точки зрения экономии системой и может содержать генерализации разной степени обобщения: и абстрактные грамматические правила (например, правила предложного управления), и наполненные лексическим материалом единицы (например, на основе, в течение и т. д.).
3. Подход снизу вверх (vs сверху вниз)
Подход предполагает, что полная грамматика языка должна включать описание как максимально абстрактных правил, так и явлений ad hoc. Более того, правила являются простой схематизацией конкретного использования конкретных выражений. В этом смысле «низкоуровневая генерализация» (то есть менее обобщающая) является более точным представлением языка, чем генерализации на высоком уровне.
В дальнейшем детальная модель описания с теоретическим обоснованием подходов была разработана последователями Р. Лангакера, прежде всего С. Кеммер и М. Барлоу. Кратко ее можно сформулировать в следующих положениях (см. [Kemmer & Barlow 2000b]):
– тесная связь между языковыми структурами и единицами речи;
– важность частотности употребления;
– производство как неотъемлемая, а не периферийная часть языковой системы;
– внимание к обучению и опыту использования при усвоении языка;
– языковые репрезентации как производные, а не хранящиеся в неизменном виде;
– тесная связь между использованием, синхронной вариативностью и диахроническими изменениями;
– взаимосвязь языковой системы с неязыковыми когнитивными системами;
– важная роль контекста в функционировании языковых систем.
Эти идеи были реализованы в серии конкретных исследований: как в цитированном сборнике [Kemmer & Barlow 2000b], так и в других работах ([Kemmer & Israel 1994; Israel 1996; Barlow 2000; Kemmer & Barlow 2000a] и др.).
6
Этот и другие подходы подробно описаны в работе [Penttila, 2006].