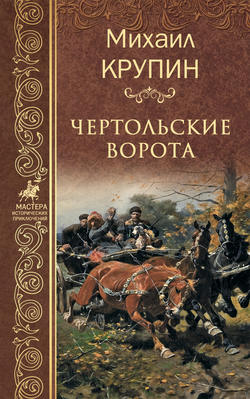Читать книгу Чертольские ворота - Михаил Крупин - Страница 7
Военная потеха. Смотрины
ОглавлениеВ честь годовщины преславной виктории под Новгородом-Северским царь с кремлевскими гвардейцами брал приступом (бояре защищали) снежный городок.
– Эка, значит, не забыл – напоминает, – вчесывались приневоленные важные защитники в затылки.
Дмитрий, точно, помнил хорошо ералаш и срам своих баталий и дабы хоть тут никого не обижать, а замирить прежних врагов глуше, поставил воеводить польско-немецкой штурмующей ротой Мстиславского, а Дворжецкого с Басмановым начальствовать на снеговой стене.
В присловье минувших побед над татарвой и грядущих – над туречиной, воткнули в ледяные своды стрельниц ржавые серпы.
На сторону неверных бояр воевать – из русских приближенных Дмитрия – кроме Басманова ушел, правда, только казак Корела. (Басманов шел своей охотою, себе на уме: играющих бояр нельзя было оставить без присмотра. Корела же не привык цепко следить за каждым шагом своей выгоды, куда попросили – туда встал.)
Сказано было – опричь катанного снега и деревянных слег – не иметь оружия. Но Басманов знал врожденную запасливость и предусмотрительную тугоухость своих подопечных. Стряпчий Петра Федоровича, Гришка Безруков, перебегая по снеговой галерее, ненароком ссыпал в ров Василия Воейкова.
– От холоп! Е… нахалюга! – забарахтался, выплевывая белую мокреть, боярин-чашник.
– Раб сволочной! – загремел с ближайшей башенки и Гришкин господин. – Покараю ужо!
Гришка, всяко каясь, спрыгнул в ровик, одним рывком Воейкова выхватил из сугроба – тот по-дурацки опять завалился, крякнуло гузно о снег. Безруков снова поднял, обшлепал всего рукавицами, тычком посадил на ледяную приступку – сорвал тимовый сапог, тряханул, выбивая из обуви плющенный снег: и лучевым тонким остригием вверх, рукоятью в снег, вылетел фряжский кинжальчик…
– Видал? Теперь отворотись, – развернул плечом Петр Федорович Дворжецкого в другую сторону на башне.
– Сейчас всех обыскать, изъять оружие! – крутнулся было назад тот.
– Вот этого нельзя никак, – навалился бесшумно Басманов, – и ни за что.
– Ну так вооружим и поляков?!
– Пан рехнулся?! И что выйдет тогда?!..
Конные стрельцы Корелы прикрывали крепость. Скопин с конными же дворцовыми латниками, не боящимися ни огня ледышек, ни дубья раскрашенных мечей, налетал. Странно, не с руки донскому атаману было «воевать» с дворцовым распарченным дитятком: не понять, с какого боку можно сечь, а с какого – жирок выплещешь, сусало сцарапаешь, век не расплатишься. Победить мальчишку – славы мало, проиграть – перед всем царством – сраму выше знамени (и поражение-то вероятнее, отряд у Скопина покрепче, так уж задумано возглавлявшим весь приступ царем). И Корела решился сыграть со своим придворчиком одну из тех шуток, какие игрывал с ногайскими темниками в зимних степях.
Корела – в белом облаке с косыми брызгами резаного подковой льда – обогнул мыс и пропал. Скопин какой-то здравой частью за ушами, в подтеменьи, чуял, что не надо от острожка уходить, а – вернувшись, прикрыть плечи бы своей польской пехоты, идущей на приступ. Но кровь, пронятая гулко-дымно морозцем и бастром с гвоздцами, в кружках разосланным всем перед битвой от государя, закруживала сердце – быстро меняла местами руки, пики и сусальные сугробы… и Скопин, еще ничего не решив, уже шел за Корелой в угон. Едва дивный ветер окреп вокруг всадника, тот мигом убедился, что в угон идти – страх-хорошо и, главное дело, нужно. Супостат, ясно, мечтает: как бы убоялся, убежать – потом тристатом воротиться. Ан не мечтай – Скопин не выпустит! Только бы так сразу не нагнать – уж больно хорошо!..
За мыском и дальше – во весь свет берегов – никакого недруга как не бывало… Не под лед же ушел? Сзади понемногу наволакивался гам: не поспевали за зрелищем вяземцы берегом. След конницы Корелы обрывался при перекопыченном широком переходе на месте летнего наплавного моста, дальше снежное поле реки стояло чисто. Переход же был взрыт ровно в обе стороны: не то прошел недавно крестный ход, не то прогнали на кормежку важным ратоборцам неширокое зимнее стадо…
Мягкий, нехороший ледок лизнул сердце Скопина – неужели степняк на московской околице обведет вокруг пальца его – коренного московца? Скопин в тревоге уже чуть не отрядил часть латников назад – помогать брать крепость, как услышал обрывающийся нечаянный стук по ледяным мосткам со стороны Зарядья и тут же различил на горке прячущиеся в скаче за немыми тынами и хитросплетенными липами – две-три казачьи яломки. Скопин всем отрядом вынесся на левый берег – спрямляя стезю, полетел слепящими, с мурашками кошачьих стежек, гумнами и сквозь тяжелые, в рассыпавшихся до небес снегах, сады.
Снова им овладел темный, прохладный восторг. С каждым подвисанием коня над платом наслуда почти не пьяный Скопин видел: сама будущность распахивается пред ним на благий миг – набело, дольно, пустынно и ясно – блестяще. Раскачивается и наполняется недобрым громом снежинок, мучительным и нежным содроганием тысяч подков, заиндевевших в стремлении стрел, каких-то налетающих сухих серо-оранжевых коробок… За парой донских шапок впереди маячили уже шведские кивера, литовские султаны и грешневики шарахающихся дымно-млечными кустами муромских разбойников.
Вот развернулась в лощине щербатая крепостица, кем-то уже взятая врасплох. Скопин метнул коня в пролом. Так и есть: все поляки уже схоронились от него в сапы с заснеженными земляными турами и только выставили узорные крыжи – рукояти кривых великанов-мечей – по ним души ляхов надеялись, когда князь Скопин-Шуйский уедет, выкарабкаться из заглушенных землей и поземкой окопов еще раз на свет божий. Скопин в ярости начал сечь крыжи, перекрывая врагам будущую вечную жизнь. Ахалтекинец под ним, перекинувшись через чугунную флешь, пробил многоярусный наст первыми ногами и бросил Скопина на басурманский крест. Вскинувшись – не охнув, сразу отцепившись от обмершего вкопанно врага, Скопин уже наладился рубиться, как – с расколотой жестянки шелома – в глаза, скорчившись, прыгнула надпись: «блвн» – благоверный «Алекс…» (раскол) «…ий Скопа».
Князь Михаил Васильевич вздрогнул, он вдруг заметил: во всю пустыню кладбища бьет ветер – обнаженные деревья шумят. Бастр был с чем-то… Это вместо католичьих он чьи души удушивал?.. Опускаются собаки на осины, воздух бессмертия под коими стольким пресек.
Трезвея, Скопин задрожал, хотя больше не осязал внешнего ветра, от которого осины и ракиты трубят, – его ветер начинался и заканчивался в нем.
Он оглянулся – по околью не было живой души. Ахалкетинец лихорадочно и безучастно позевывал, задирая верхнюю губу кабаньим пятачком и открывая бледные – в сравнении атласных шапок, непавших с порубленных русских крестов, – тянутые вперед драконьи зубы.
Скопин, сев в снегу на пятки, хотел просить прощенья у всего, может, нечаянно обрушенного им покоя душ. Но, прочтя рубежи их животов, означенные по крестам, Михаил остановился. Кладбище было старо – люди, легшие здесь, начерно прожили вместо великого царства в маленьком княжестве. Скопин тихо застыдился – он не мог просить прощения у тех, кто, пожалуй, даже не оценил бы по достоинству его славного гнева и порыва. Это им должно быть стыдно перед Скопиным, что и жили – тлели без огня большого услужения, и усопли даром: нет бы пали, приближая пресветлый день верха Москвы над Тверью и Костромой. Сам Скопин, впрочем, их не винит, хотя – как знать? – не покарал ли сейчас эти племена его рукою сам летучий архистратиг?
Содрогание гасло в груди Скопина: рать таки была не подлинна, меч липов, ветхие кресты все же не люди… Сами рассыпались.
Скопин выехал с порубленного кладбища трезвым и спокойным. Чуть не шевельнулись жемчужные струйки ракиты, не открылась бесшумно река. Не неба ли началом чуть не стал самый край земли?.. Но нет, река по-прежнему смиренно стыла, преодолена блестящим региментом Стужи. Леса представляли цепь оборонительных засек, только знаменами – рябины по низинам (для тайны багрец заткан белым поярком мохнато). Горизонты упирались в рубежи. Вновь обширная Русь расчленялась стройно и приютно, отчая природа выдвигалась верными чертами: оврагов-то – любые фланги подоткнешь!.. – И вот: пролегла одним, дух взнуздывающим устремлением.
– Тако же добудем тебе, Вашцаржскамосць, и Азов! – возопил на ледовитой башенке расходчик Слонский и пнул в последнем восхищении вздернутым носом сапожка плененный полумесяц. Но рукоять серпа, успевшая вмерзнуть в свод, даже не дрогнула: Слонский, другого ожидавший, так поскользнулся, что с размаху чресел сел на серп, – непопранный, тот выпер у взревевшего расходчика спереди сквозь шаровары.
На этом куту крепости, одоленном государем со товарищи, уже рекой лились напитки: дымные сбитни, разжимающие мягким пламенем нутро меды. В туесках и барабанных чемоданах, охлаждаясь, плавно погасая ратью горлышек – будто вековою белой пылью покрываясь на морозе, ждали своей службы и дутыши-немцы. Но даже земляки их из людей, истинные кнехты, даже франк Жак Маржарет, предпочли на стуже беззаветную войну с московскими настойками рискованным забавам со своими.
При крайних башнях, кажется, еще шла свалка – вот-вот оттуда должна подойти весть об окончательном торжестве Дмитрия… Так и есть: показался на жеребце, с трудом выбиравшем копыта из осыпей в синей сени стен – из льдинок, коверканных снежных ломтей, кубов, пластин, – впереди нескольких ментиков – снеговик Басманов.
– Ну, чего твоим послать-то: полугару али чихиря?!
– Да не надо пока вина, – сдерживая нетерпение иной заботы, смолвил сходящий с коня. Выпрастывая из стремени ногу, Петр Федорович обнял мгновенным из-под-лба оглядом отрядик бояр, давно устоявшийся с чарками возле царя.
Самый бесснежный на сегодня – князь Василий Шуйский, перехватив сей взгляд, пока монарх не разобрал, что Басманову необходим доклад наедине, подался сам к царю и под локоток тишайше повлек его в сторону.
– Прав, прав, Петруша, государь, – зашептал, сокровенным плотным паром топя бисер сосулек на воротнике Дмитрия. – Не рано распойствуем?! У немцев снег в комках был зело тверд – фонарей, вишь, нашим понавешали. Боляры зе… бардзе злы, в тиши бесящи. А ведь лезвее под полой чуть не у каждого. Глаз востри, венцедержец: бы кровавой пирушки не вышло…
Не дыша, к шептуну с другого плеча примыкал по праву долга и Басманов. Узнав, о чем болит душа у князя, он прямо глянул на него, но, теперь уж не смущаясь обществом бывалого злодея, сообщил царю (как бы уже в подтверждение слов Шуйского) ход боя на своем куту, где пешие штурмовики-жолнеры пошли вдруг таскать за ноги с седел бояр. Неприученные к такой простоте игры бояре потерялись внизу вовсе и… ну совать неприятелю в морду. Тот, разумеется, ответил – этак по-гусарски… В общем, Басманов развел от греха заигравшиеся стороны. Но, государь, сворачивай потеху. Стоят-держатся чудом. Спасибо, Андрейка, как из-под снега, вернулся и конями разделил.
– Ни-ни-ни, – близко задышал клубами Шуйский. – Государь, как ни в чем не бывало… Водку – в пролуби, и бросить красивую кость… Все победили. Мстиславский вел шляхту и немца – значит, это и боярская победа тоже. На раскате, перед ратями его вознаградить…
В круг царского ужина приняты были еще Мстиславский и Шуйский. С легкой руки Дмитрия, во всеуслышание расхвалившего своего воеводу за снеговой бой, за князем Мстиславским закрепилось теперь честное название – «Непобедимейший». Причем сподвижники, ходящие ниже Мстиславского по местнической лестнице, при обращении к нему ставили титл сей в конце прежнего полного его величания, а превосходящие родом или чином для обозначения князя теперь употребляли только этот новый титл без ничего.
Да то ли будет ужо, князь-человече? Даже дворняжья выскочка Басманов, немевший прежде уважительнее трав на бармах Годунова, нынче чуть ли Гедеминовича не за уши треплет – на своего естественного царя глядя (царь-то тоже уж больно естествен) – и, с чаркой араха развалясь, наголо царю обсказывает:
– …Давай, говорим, из армат вдарим и выйдем из-за возов. Непобедимейший: нет, бум годить, – вы сопляки палатные (а нам – лет по двадцать, стольники мы), ничего вы в битвенных делах не рюхаете, бум годить, бум ждать, пока весь хан не навалится на нас. – Перегнувшись через стол, Басманов поразгладил светлую бороду князю на обе стороны груди. – Ладно, сидим – перегрызаемся то здесь, то тут с ногайцами – день, два… А на третью но-очь на лагерь наш «нашел великий всполох»! Мстиславский выскочил в одних портках из ятки!.. А дознались потом: это пастушок один сельца Котлы, что осталось как раз под татарином, заранее всех коровенок свел и затаил в яруге. Буренки тою ночью птиц, что ли, каких, собак ли напугались и ломанулись оттоле всем стадом. А ночью ж черта разберешь, Непобедимейший в одних портках и с булавой вопит: «Изо всех орудий – на все стороны!» Тут и с гуляй-города, и из-за обоза наши как пошли из всех пищалей, кулеврин во тьму хлестать, на стене Данилова монастыря тяжелые единороги стояли, и из них – на аллаха! Вот зрелище было очам, я вам доложу… Микулин врал, что только в Лондоне на Масленицу видывал он таковые фельверки… Но света-ет… – Басманов страховито округлил глаза. – Что ж видим, государь? А перед нами в полях – ни татарина. Такую грозу в ночь нагнал им российский стратег – все юрты, припасы нам бросили и от греха в Крым, отдохнуть ушли! А все наследный воитель наш – Непобедимейший!
– Петюнька, поживи-ка твой род с мой, – плевал Гедеминович на смех несмысленный по всем краям стола, речь вел только с Петром. – Послужи-тка детки да внучки твои великим государям, вот правнуку твому и тоже дозволится на глазок пальнуть в степу – «або куда!» – Подумал, строго покосил краешками глаз на притворное замирание веселья окрест. – Тогда и твово одного адского рыка все татарство ужахнется! (Ослобони, оставь, оставь бороду-то – чай, не государева казна)…
Все ж осержался Гедеминыч более по обязанности непривычки. Скромно кутавшийся в новые подарки – чуйки с царского плеча, поедавший сейчас на одну дареную деревню больше, сидел против царя за вечерним коротким столом – сокровенно пытлив и доволен. Влекло бездетного Федора Ивановича к этой лукавой и охальной молоди, как самого маленького смутно приглашает мир больших ребят, и даже усмешка небрежения и помыкания им, младшим, сквозит из старшего мира ему лестным вниманием, он любит своих умных чутких обидчиков, слабо веря, что станет таким же.
– …Эх, Стасика Мнишка нет, – кричит единодержец. – Уж нам рассказал бы, как Непобедимейший на Украине ножнами гусаров молотил!
– Аха-ха! О-хо-хо! Непобедимейший!
– Ну и что ж, что под Новеградом-Северским замялся маленько, – пыжась и сверкнув вдруг винной сумасшедшинкой, вольной сладостью в глазах – Мстиславский. – Зато под Севском – так батюшке наложил по первое число, так наложил, что и он… наклал… И аж до Путивлю летел, не обертаясь! Верно ль я баю, батюшка-государь?
Князю на миг показалось, что под ним разверзаются полы и потолки всех ярусов и погребов до преисподней. Но провалился миг – не успел Дмитрий двинуть бровью, уже хохотали поляки и самые юнцы из русских, смеялся, спрятавшись за кубок, царь, засмеялись старые – ужели над царем?! Да нет, нет, снова, верно, надо мной… – все уже поздравляли Мстиславского со знатной местью.
– Да, да – той зимой игрывали мы полише, – показался из-за кубка Дмитрий, вскоре он, едва застолье оставило князя – занялось само собой, придвинувшись ближе к Федору Ивановичу, напомнил ему: – Слушай, за прошлогоднюю потеху наградить тебя так и забыл?.. Чего спросишь-то?
Еще на руинах снежного острожка царь «старому другу», думцу-воеводе, повелел просить что хочет. Изнуренный боевым волнением и праздничным доспехом князь попросил тогда только немного времени – желание придумать. Но время то давно прошло, желание пекло, и вторую, явившуюся чудом, возможность остужения его, потерять сейчас было никак нельзя.
– Надежда-государь, слово просьбы моей просто, – сказал князь Федор Иванович. – На поле бранном мне деть счастия некуды, а в дому у меня пустота и тоска… – князь все ниже и ниже клонился подле царя над столом, то ли в знак мольбы, то ли в знак тайны. – Окаянец Годунов, не к празднику был бы помянут, по срамокровью своему боялся продолженья моего. Он, дабы по скончанию твово раба имения его прибрать в казну и чад своих от состязателей за трон избавить, заказал мне, горемыке-Гедеминычу, жениться…
– Вот дракон… Да что ж ты сразу-то, Иваныч?.. Это я всем дозволяю, – моргал государь, за искренним сочувствием, как за щитом, с трудом держа и тем только сугубя тихое веселье. – Есть небось уж и зазноба сердцу молодецкому?
– О государь, не смел еще и избирать… Но теперь уж времени вести не буду, мигом приищу, – у Мстиславского уж в памяти летели ворота знатнейших невест, колтки, брошки, рефьи и кокошники над толстыми косами – вкруг милых белых пятен на местах лиц, неизвестных князю – ради стережения поспелых дочерей цветущими отцами.
– А ты, княже, оказывается, еще о-го-го! – хыкнул дланью-лодочкой царь Федора Ивановича в бок. – Братия! – возвеселил голос, – плясать тебе под Рождество кое-на-чьей свадьбе!
Князь опустил глаза от ряда плотных, обрыгивающихся душевно лиц – да отдал бы из них хоть один дочь за последнего из Гедемин-Мстиславских, темных выкидышей древнелитовского племени? Вянут силы его отдаленной родни, да и свои его, те нужные мужские силушки – справить удельцам наследника, поди, не те у старца. Поди, сраму с ним оберешься…
Так получилось, что государь в этот вечер не занимался больше князем Федором Ивановичем – и не слыхал, верно, тихой перемены его сердца. Оно и понятно – слишком отдален, и летами, и во человецех положением, от всех низких тревог.
Князь уходил с пира последним – все оборачивался, то ли поводило согрубить гордыней перед кем-то, то ли скорбно попенять – да чем, кому? (Царь оставил трапезную первым, далеко теперь утек во внутренний покой.)
И тут Басманов, протискиваясь меж князем Мстиславским и дверным ценинным косяком, хлопнул Федора Ивановича по плечу:
– Полно, полно, не плачь, архистрат, шире шаг! Кто не отдаст дочь тому, у кого сам государь будет сватом, а окольничие дружками?!.. Ушлю – куда ты татар не гонял, – добавил, укрыв от подслушиваний рот сбоку отворотом бороды Мстиславского, и подмигнул князю ясно.
Вывалившись перед большими воротами из возка, князь долго на свет снега хлопал глазами: что за Москва это, чьи дворы? – не Трубецких, не Воротынских…
– Непобедимейший, не опознаешься? – из мрака возка вышел младший Скопин следом.
– На… на… но… но… – прозревал боярин, столбенея.
– Верно, верно: Нагих новый двор! – подтвердил Дмитрий, идя от второго возка – линялого задрипанца с шелушащейся кожей на гранях. (Такой каптан был с превеликим трудом сыскан на задах калымажной управы – для удобства частной езды государя по Москве.)
– Но… на…
– Тетку мне, понимаешь, как раз нужно пристроить, – Дмитрий махнул плеткой возчику – бить в ворота. – Во вдовках засиделась за тринадцать ссыльных лет… Сейчас! Присватаемся к тетушке моей…
– Но… но Нагие – и Мстиславские?.. – затравленно оглядывался князь. Всего он ожидал от этой бесшабашной милости, но…
– Родня царева для тебя худа?! – рыкнул над княжьим ухом Басманов и сам крепко попробовал сапожком белую узкую калитку.
– А?.. Что ты, этого нет, – смирился, опомнившись, Федор Иванович. – Два старичка – вот и парочка, куда уж мне о девочках мечтать…
Заходя в распахнувшуюся с вязким чмоком калитку, Гедеминович утешил себя тем, что напрочь поначалу с испугу забыл: невесть откуда выскочившие в опричнину Нагие чертенята, как теперь ни крути, а царской маме племя, тирановой супружнице от шестого ли его – где-то так, седьмого ли брака. Древнелитвин Федор Иванович вздохнул, хоть все одно никуда не дел больные глаза.
– Да князь, это ж смотрины, а не сговор, – подтолкнул в спину царь. – Не поглянется, домой дорогу знаешь.
– Да что за капризник такой, да вытолкаем его сразу? – предложил мальчишка-мечник Скопин.
Троюродный дед Дмитрия, Чурила Нагой, не ждал гостей. Прямой и огромный, вышагнувший в одной мареновой рубахе на крыльцо, он все пятился – перед серьезным шествием великих – вглубь дома, прилежно, мощно кланяясь и все-таки биясь затылком о все притолоки.
Кому-кому, а угличанину Чуриле прекрасно было ведомо, Дмитрий ли – этот престольный парень перед ним, было ясно, что и «Дмитрий» не мог не знать об этом знании Нагого. «Деда Чура» видел, как нужон со всей родней сейчас царю, но то ведь – до первой славы какого-нибудь «казанского взятия», если не заслужить сейчас огромного его доверия. Потому Чурил проворно перенял «домашний», задушевно-распоясанный тон властелина, и при встречах с ним, не допуская ни мига случайного молчания, чреватого прямым чтением правды и кривды в сердцах, без конца говорил, говорил, пересказывал все о себе и семье, зодиях, магарычах и тамгах – что можно и нельзя было. Вот-де я – что там до кровного бессмыслого родства? – и так родней родимого, прозрачен, слеп и глуп…
– Вот задача, Митя, у меня – последнюю дочушку замуж вымечь, – при первой же перемолвке открыл государю Чурил. – Да как бы нечестья не вышло. По однем слухам – на Белоозере к ней в окно часовой стрелец лазал, а по иным – монахи всю излазали… – и-и эх! А как отцу там уследить – сам под надзором сидел! Пытал после – смеется. «Терпится, – спрашиваю, – замуж?» – «Вот еще! И так в неволе кисла с лучших лет, свобода, – говорит, – лучше всего». А давеча вдруг: «Батюшка, коли так тебе надо, так уж выдавай за старичка горбатого, чтобы и мне, на закате дней, свет не застилал»… Уж не знаю, в шутку ли она это – всерьез?..
– Узнай, – посоветовал тогда серьезно Дмитрий.
– Где дочища-то? – спросил он сейчас.
– Да рядом, рядышком она тут, на часовенке… – почти утвердительно молвил Нагой. – Елисей, Терешка, живо за барышней! Людка, гостям предорогим – угощение!..
Но Дмитрий досадливым порывом десницы осадил слуг:
– Да не надо ничего. Сами пройдемся, поклонимся.
Царь, мечник, сыскник и воевода опять вышли на улицу и пошли узкой, чуть размыкающей снега двора тропою к соловой часовенке. Накинув зипун, Чурил, молча что-то кумекая, двинулся следом.
Только он сошел с крыльца, двор, облезлые каптаны с красивыми лошадками в снегах, четыре человечьих стана на тропе и перевал Занеглименья над ними – залило солнце. Все четверо посмотрели на небо, последний перекрестился, первый чихнул, и, яро потемневшие в окружном великом озарении, гости продолжали путь.
– Вот, все молится во славу избавления от узища Борисова… – дышал царям в спины Чурила на лестничных трудных витках. Возле двери в молельню он сделал последнюю попытку перегнать всех и распахнуть дверь, но мечник замкнул лаз хозяину плечом и приблизил строгий перст к своим устам.
Басманов резко – без скрипа – приотворил дверь на вершок и рядом дал место Мстиславскому. Но вскоре обитая юфтью дверь, пропев «иже еси», разошлась шире.
Басманов, Гедеминович, царь, Скопин, чередом переступали порог. Чурила Нагой сел, запахнув армяк, на лестнице.
Вся молельня была просквожена круглыми смутными солнцами – от по-старинке, бычным пузырем заставленных оконец; в вечных сумерках подпотолочья скано тлели оклады – возвращенные от Годуновых, присовокупленные от Вельяминовых; жидкие зернышки в солнечном иле – в прямой, рвистой протоке – нежили светильники.
На требном столике подле Большого часослова, малахитовой сулейки и стопы с оставленной пунцовой романеей, на раскрытых листах «Рафлей» клубились каштанные кудри: молодица-боярышня, в неподпоясанном опашне сидя на лавочке, уронив руки на стол, на руки – без венца и плата на голову – нет, не пьяная, а только розовая – крепко спала.
Каждый из гостей Нагого подходил к ней близко и долго смотрел с той стороны, куда была обращена – закрытыми большими глазами. Из-под завернувшейся паневы видна была выше щиколотки странно-совершенная босая ножка.
Спокойный взгляд Солнышка тоже добрался до краешка боярышниных ресниц – и в ответ они затрепетали. Сразу перепугавшись чего-то, гости кинулись беззвучно вон. Нагой шумно помчался в лесенной теснине впереди – давая дорогу гостям.
– Вот я ей, озорнице, ужо! Вот я ей! – преувеличивал он на ходу, зная, что такой молитвой москвитянки, в общем-то, никого не удивишь, хотя к стопке прикладываются они, конечно, чаще уже в женках. – Не подумайте, государи, чего, – присторожил все же царя и женихов на всякий случай Чурила. – Не пьяница она, а озорница!
Гости спаслись от него только в хоромах, выставив хозяина из облюбованной горницы.
– Как? – спросил подданых Дмитрий.
– Да-а, с мартовским пивком потянет… – протянул, опоминаясь, Басманов.
– А как же… как же тетя-то она тебе?! – все не понимал князь Мстиславский. – Она ж твоех, батюшка, лет, коли не меньше…
– Э, такие ли еще чудеса в родословьях бывают! – подмигнул сыскнику Дмитрий.
– Нет, старуха, старуха, – притворно-опечаленно твердил мечник, – все ж ей не семнадцать лет…
– Осади-ка, не твоего словца ждем, Мишок. Непобедимейший, как?!
Федор Иванович вдруг осип и почти задохнулся. Будто какой-то вестник в нем носился – от ума до сердца – и назад, в перемычке между ними страшно застревая, прорываясь… Наконец думец-князь задышал и прошептал:
– Сдаюсь… Согласен, государь…
– Вот привереда еще! Непобедимейший! – зафыркал Скопин. – Семь пятниц на неделе! Да впору ли сдаваться – ты подумай! Во-первых: старуха! Во-вторых: родом худа!..
Мстиславский, в ужасе глянув на плотно прикрытую дверь, замахал на юношу руками. Перед государем же он теми же дланями умолительно разгладил воздух – расправляя измятую нечаянно, незримую скатерть.
Но сопляк-мечник никак не утихал.
– Ну вот, теперь и Ивановна, да нам надобна, – вздохнул он. – Слушай, Непобедимейший, я тебе невесту сам найду, – вновь оживляясь, Скопин сделал незаметный знак царю, своей компании, – подберу знатную, такую и всякую – расписную под Холуй и Мстеру!.. Дородную, князь! Ся же – тоща-то, смотри, никак не на твой это… вкус-то, князь Федор Иванович, ты же столбовой серьезный человек, болярин вотчинный. Я, знаешь, тебе какую добуду… а уж эту ты мне уступи!
Вотчинный болярин побледнел:
– Ты что это, Минь?.. Э нет, Михайло Василич!.. – восставал, путался. – Меня оженить привезли… И я первый просил государя… Меня сначала…
В прибывающей тревоге князь оборотился к царю – едва он отвернулся от Скопина, тот подавился теплым содроганием. Царь же, напротив, мигом стал суров и отвечал, как только должен добрый и примерный судия:
– Други мои верные. Слуги державства полезные. Тут ведь не на торговой стогне, витязи. Стыд и срам – рядиться меж собой!.. Не знаю вот теперь, как ваше дело и раскидать… – туго надул щеки, но глянул не вовремя на воеводу и Скопина – щеки стало вдруг плющить рывками. – …Уж спросить, что ли, у самой суженой – кого здесь привечают-то: бывалых али малых?
– Ироды!.. Опричники!.. – вскричал, постигнув что-то внезапно, Мстиславский и, не видя боле веселящихся мучителей, забыв горлатный свой раструб на лавке, бросился из терема вон.
– Останови, Мишок…
– Куда там! – сказал, воротясь, мечник. – Вот гонорец литовский! И слушать не стал… Одни санки, ведьмак, угнал!
– Никак – слишком мы?.. – качнул головой, глянув на молодь, Басманов. – Теперь уж сюда не шагнет.
– Женись тогда ты, Мишка? – толкнул Дмитрий Скопина (ехали домой, ужавшись в возке трое). – Красавица, да?
– Да, но нет.
– Что ж так?
– Ну еще… – протянул скромницей мечник. – Из меня-то – муж, отец семейства?.. Это ж надо будет как-нибудь по Домострою жить… Потом, ведь за такой – глаз да глаз… Да ну их, пустяков!
– Мальчонка ты еще! – взлохматил его пятерней Басманов. – Чем Домострой тебе не угодил? Ты хоть читал?
– Как же, в учении еще мечтал намять бока попу Сильвестру за такие наставления… Когда капусту квасить да по каким местам холопов сечь. Вот и вызубри тому подобного пятьсот страниц.
Басманов сочувствующе воздыхал, Дмитрий хмурился и улыбался: он спрашивал у себя, соблазнился бы Нагою сам, кабы не «родственность» и не «все сердце занято», и никак не мог изобразить в сердце мысленно новой свободы. Чувствовал только, что всегда чуть враждебен теперь любой сторонней красоте – за прелесть своей честной наложницы. Вот увидит – и сразу понятно доказывает сам себе, что его царь-девица – от самой своей запредельной причуды до тихих подушечек перст – лучше всех. Та пуста, эта тяжела, та вовсе чужая, та страх-знакомая, эту цепами черти молотили, та краса больно примерна, скучна, все ей отдают вялый поклон… Единственный из нынешних гостей Чурилы Нагого, царь и раньше его дочку видел, и тогда уже сделал не в пользу ее очередное сравнение.
Но – встретившись сегодня с ее спящими чертами – в их цветущем холоде прикоснулся дальней, прежде незнаемой веткой души к чему-то… вечернему, издревле родному, и стало тут на миг ясно и непонятно ему.
* * *
Настя Головина от ключницы узнала, что пришли с царем к Нагим на именины старый князь Мстиславский да Михайла Скопин, наш сосед, и ну сватать обое ихнюю гулену-боярышню – расплевались при царе прямо из-за нее. Но сосед-то наш, слышь, сказывали – победил, старик-то выкинут несолоно хлебавши.
Что-то безобразное, неправильное Насте слышалось в обсказе служанки, даже в том, что Миша теперь назывался просто – соседом, в том, что так запросто передавала ей ключница о его нежданном сватовстве. Словно Настя, как и эта вот холопка, как какой-нибудь нездешний мир, – теперь ему чужая. Словно насовсем от Миши отрешенная какой-то беспросветной городьбой.
Уйдя на материну половину, Настя присела к окну, выходящему на Скопин двор. Огромные, выше сушил, качели остолбенены на зиму снегом. Закат маком цветет. У анбаров под кустами кто-то ходит – вечером сквозь лиловатое стекло не видно – может, собака, может, курица.
Еще по-за-тем летом качели… У нее вдруг онемели пальцы, смешалась голова. Миша, повиснув на веревках, землю деря каблуком, остановил взбешенную скамейку. И смотрел глубоко, близко: что?! что?!
Она – вмиг успокоившись и улыбнувшись – знала, что видно ему сейчас в ее глазах. Лица их тихо начали сближаться, и он, не поняв еще – что тут? – не выдержал и нечаянно провел рубеж ладонью – в просвете между своим и ее лицом. Она улыбнулась еще веселее, синей просияли глаза.
Скопин хотел собраться и сказать что-то по делу, а не по чуду сему, и заговорил было уже, но спутался, заплел слова и, разгадав, что выпутаться невозможно, повернулся и ушел домой. Или, как показалось – куда-то сквозь дом.
– …Батюшка! Вы что это сидите, четки носом ловите?! Отдайте меня кому-нибудь, сейчас! За дедушку Мстиславского – я уже большая, большая, созрела, созрела уже я!
Василий Головин поднял цветную Триодь с пола и заложил книжку четками: в первый миг поверил, что его четырнадцатилетней девчуре и впрямь зачесалось замуж, взял и открылся бабий лютый зуд.
– Пошто ж за Мстиславского-то, доча? – спросил только Василий Петрович, с которым не были накоротке дворовые «сороки». – Вон за палисадом-то – какой жених тебе растет…
– Еще чего, нет уж, нет! – затолкала кулачками отца Настя. – Только не за этот тюфяк, бревно лопоухое!.. Давай! Пусть женихи приедут! Ты же знаешь, как это там делается, чтобы нам не набиваться… Ты – царев печатник, намекни только… Как у Истоминых – соколят будто смотреть! Я тоже не вороной уж пройдусь!.. Ну, на затравку – давай князя Федюшку Ивановича: мол, кличешь – соколят казать!
Печатник захлопнул дверь в сени, за плечи поймал мечущуюся избою дочь:
– Кого я покличу сейчас – соколену одну посмотреть, так это дохторов с Кукуйской слободы. Они-то в ваших выкрутасах понимают…
Лишенная широкого движения Настя начала лишь часто-мелко вздрагивать – ослабевая:
– Прости, тять, ведь я сама не знаю, что… Ты дома-то редко бываешь, мне просто тошно, наверно, зимой… А когда тут еще ты дома, невмоготу просто… – Тыкалась лицом в отцову грудь, большую, как в детстве соседский тын…
– Всю Москву ей призови… – оглаживал Василий Петрович растерянно и равномерно горемычную дочуркину головку. – Тоже – королевна колыванская…
Скопин в это время, идя впереди коня, ведомого слугой, по своему двору, смотрел на поздний огонек у соседей. Скопин подумал, что Артемка, годовалый Настин братец, наверно, мятежничает спать, и прислушался, в невольном ожидании уловить боевой его выкрик. Отдаленный вопль последовал, но – Настин. Скопин встал, как вкопанный, чтобы кряк своих шагов не затмил ни один слабый звук, но, как ни ставил малахай над ухом, Насти больше не слыхал. Всхрапнул в недоумении аргамак – почему повели целиной, а не тропинкой, к которой пристыл твердо хозяин. Сердечно обинуясь, скрипнули петли конюшни. Птица что-то быстро сказала, летя через сад на ночлег. Окна у Головиных погасли.
На другой день, когда Скопин заходил на свой двор с царской службы, ворота соседей еще были отворены, печатник подпирал верею плечом. – Кого караулишь, Василий Петрович? – спросил Скопин.
– Да князька бородатого одного, – улыбнулся приветливо Головин. – Выжлят поглядеть захотел.
– Чего их смотреть-то – им у тебя еще по месяцу нету… – не понимал еще Скопин.
– Зайди и ты, – добавил, как по радушию нужно, сосед.
– Может, загляну… – пробормотал, мрачнея, Скопин, хотя неделю назад заходил глядеть щенков. – Как раз у меня к Федору Ивановичу дело… Да книжку твою про Карфаген и Рим занесу, – сообщил, застыдясь вдруг заходить по истраченной причине.
«Так Непобедимейший сюда решил…» – медленно ходил по топленому светлому надсенью, рассеянно забрал из рук отца римскую книгу.
«Да Наське ведь всего пятнадцать лет… Вымахала, правда, превыше иной тридцатилетней… – Вчерашний звук и поздний огонек объяснились теперь Михаилу. – Значит, как зверюшку? – Налетев, ударили в грудь, отшвырнули в тихий снег пустые летние качели. – Хват!.. И пускай! Сядь, посиди, тебе-то что?!.. Сколько их еще нальется, этих Настек! И подождем!» – пылал, говорил он себе, но кто-то, еще незнакомый, говорил ему – как из бережливого далека – что хватит, уже не назреет таких ни одной.
Когда Скопин вошел к Головиным, князя Федора Ивановича еще не было. Стол был полунакрыт: плошки, солонки, кувшины и травки. На образах и поставцах – новые занавесочки китайского атласа. Насти не было – понятно, прихорашивают где-то. Все идет как полагается. Наськиной матери тоже не видно – Головин сказал, укладывает с мамками Артемку, но Скопин уже не поверил: просто мне дают знать, что затерся не вовремя: ты, мол, хоть сосед – да чужой, и уходи… – И каким-то невнятным и басурманским напевом отзванивало то, что он теперь полностью лишний возле этих стен, где он в первые лета сражался на полу, потом выдерживал осаду за несокрушимой печкой – где со сверчками помогали ему сами домовые, которых Миша и сегодня бы узнал – по дыханию, как и в своем терему, глубокому – навстречу и вглубь человечьего. Здесь в каждом углу плоть непростых насельников, а не одна память, соткана из всех движений возлюбленных хозяев и друзей их хором. И Наськины все деянья здесь, все пожелания, умнеющее сердце, – хоть ее и нет вот в комнате, а – с детства все ужимки, ужасы, смешинки, бедоумные порывы… – как сквозь свет видны.
…Выйти, встретить «суженого» прежде Головина? Попробовать еще раз перед Гедеминычем за шутки у Нагих покаяться?.. С какой стороны-то он прибудет?.. Или тут где-нибудь с ним украдкой переговорить?! – Скопин огляделся. – Да у него зенки под шапку закатятся: куда ни ткнись – я сижу, невест его перебиваю! Да он после такого, чего доброго, пойдет, сразу утопится у себя в родовом пруду…
– А ты сего сегодня кьясненький? – влез на поставец с коленками четырехлетний боярчик Сенечка, старший Артемкин братец. – Миса Скопин, ты пьяный?
Снова вошел с улицы хозяин:
– Что-то не едет князь Мстиславский! Расхворался не то? – чесанул в затылке и опять исчез.
– Вот, коли не видывал, гляди, – внес через минуту в горсти и за пазухой – в комьях – бархатных хортиков да и выложил прямо на скатерть к жамкам и ельцам.
Вдруг вошла Настя – в простом сарафане и шушуне, как раньше, и села против Скопина за стольный уголок… – Здравствуй, Настя, – почему-то привставая, плохо, глухо. Настя ответила еще тише, одними губами. Сидела и улыбалась, глаза только тихи и темны… Миша Скопин с Сенечкой помешивали любопытных хортиков на столе, чтобы не падали на пол и не счекнули посуду; заплакал где-то в своей горенке Артемка.
– Запсалмил, – сказал Головин. – Неуки-мамки никак не приложат.
Настя встала было, но на пороге показалась уж мать – с негодующим ребенком на руках.
– Вот и мы. Спать не хотим. Вы тут гуляете-курнычите, и мы с вами хотим.
– Дади-ка! – весь преобразился Артемка, увидев кутят.
– Гляди-ка, собачек елико! – подпевала мать. – Собачки маленькие, как медведики, гляди… Краше места им не нашел батя твой, туибень!
Артемка утомленно хохотал, тянул пальчики к трясущим хвостами игрушкам. Скопин, глядя на Артемку, нечаянно просветлел. Приняв его у матери, покидал всадника – как над седлом – в руках и понесся с ним вокруг стола за улепетывающим Семеном, взвизгивающим от восторга на поворотах. Не поспевая спастись, Сенька хватал со стола хорта и ужасал им преследователей – подпрыгивая, доставал братишку его мокрым носом над забвенной пастью. Артем заливался, смеялись счастливые родители, заслоняла и Настя руками лицо, но вокруг носа и рук, бесшумно сияя, блестя на просвет, тесно вились слезы. Встала она и тихонько вылетела прочь…
И тогда Скопин, покачивая прикладывающегося в изнеможении к его плечу Артемку, сказал тихо окольничему и печатнику Головину:
– Василий Петрович, я еще мальчишка – своих палат нет у меня, на отцовом подворье живу. Но я государев мечник и выручник Руси всей в будущем, так?.. Что еще… Служить думаю справно, с прибытком себе и тебе. Отдай – сегодня и до конца светов – за мене рабу Анастасию…