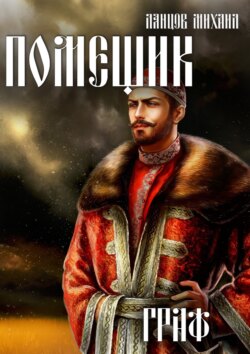Читать книгу Помещик. Том 6. Граф - Михаил Ланцов - Страница 3
Часть 1. Джунгли зовут
Глава 2
Оглавление1556 год, 15 августа, Москва
– Персы! – воскликнул слуга, вбегая в помещение.
– И что персы? – невозмутимо переспросил Андрей, сдерживая свое раздражение, так как от дела важного отвлекли.
– Персы идут! Посольство!
– Слона ведут? – непонятно почему поинтересовался воевода. Скорее в шутку, чем всерьез.
– Кого?
– Такую большую животину с длинным носом и большими ушами.
– А! Да. Ведут. Только они его зовут хвилей[8].
– Хвилей? Хм. Филей может?
– А я как сказал? – удивился слуга.
– Ну да… ну да… Фил… филь. Они ведь действительно его так называют, – покивав, произнес Андрей. Откуда он это знал – неясно. Просто вспомнил. Видимо, где-то слышал когда-то. Наверное, когда пытался разобраться, откуда «слон» в русский язык приехал и что означал[9].
– Так это… – замялся слуга. – За тобой Государь послал.
– За мной? – выгнул бровь Андрей, немало пораженный. На кой бес простой воевода нужен для принятия посольства? Впрочем, спорить не стал. Слуге обманывать не было резона, а ему ломаться. Если Иоанну Васильевичу потребовалось его присутствие, значит, нужно идти. Бросив все текущие дела, он отправился облачаться.
А дела полезные.
Очень полезные дела…
И их требовалось отложить, уступая более приоритетной фигне…
Он ведь с иноземными купцами возился и с их товарами. С испанскими да английскими. Отбирая для полка то, что нужно из всего этого великолепия. Но отбирая по критериям совершенно не типичным для эпохи. Вот, например, аркебузы. Что в них особенного? А поди ж ты. Андрей требовал, чтобы они все были одного калибра. И хотя бы примерно одной длины ствола. Но с длинной ладно, можно и подрезать. А вот пули всем должны были подходить одинаковые.
В принципе, логичное требование. Для современного человека. В XVI веке оно казалось если не абсурдным, то странным. Во всяком случае, в Западной Европе. Каждый боец очень часто покупал оружие себе сам. Так что мастера старались сделать свое оружие особенным, чтобы угодить разнообразному спросу. Да и такого понятия, как «стандарт», попросту не бытовало.
Без всякого сомнения, испанские аркебузы были изготовлены не в пример лучше местных, отечественных[10]. Настолько, что даже невооруженным глазом это было видно и не вызывало сомнений. Их ствол при том же калибре оказывался существенно легче и крепче. Проблема была в том, что калибр этот у них плясал в довольно широком диапазоне, из-за чего Андрею с помощниками сначала пришлось обмерить все «стволы». Потом, опираясь на записи, выделить самый частотный калибр. И уже под него отбирать себе в полк аркебузы, тщательно осматривая ствол.
– Зачем сие? – поинтересовался Царь, наблюдавший за процессом выбора.
– Чтобы не каждый себе лил пули на привале, а специально обученный человек при полку. И не тяп-ляп, а добротно да аккуратно. Если же и пули добрые, и стволы одинаковые, и заряды схожие, то на залпе пули кучно полетят и толку от них окажется много больше.
– В Европе никто так не делает, – заметил Ченслор, который также наблюдал за непонятным делом.
– Тем хуже для Европы, – пожал плечами Андрей.
– Но почему? – удивился Анри.
– Потому что она еще не доросла до уровня, потребного для принятия наследия Рима. Не в виде скульптур и художеств, а в плане рационального мышления…
Андрей ответил слишком раздраженно, поэтому ни Ченслор, ни Анри, и никто иной не стал развивать разговор. И воевода смог вернуться к сложным и кропотливым делам по сортировке и оценке многочисленных образцов огнестрельного оружия. Там ведь не только аркебузы имелись, но и мушкеты, и пистолеты, и гаковницы. Причем аркебузы с пистолетами имелись как с фитильными, так и с колесцовыми замками. К удивлению Андрея, нашлись даже несколько поделок с ранними кремневыми замками. Разными, само собой.
Совокупно – свыше пяти тысяч образцов!
Бо́льшую часть привезли испанцы, но и англичане постарались. И из всего этого разнообразия воевода с огромным трудом отобрал четыреста двадцать одну фитильную аркебузу, сорок восемь мушкетов, тридцать семь аркебуз колесцовых, сто девять пистолетов рейтарских и восемнадцать гаковниц фитильных. Взял бы больше, да увы… не получалось. Слишком большой разнобой. Причем аркебузы колесцовые забрал все из-за замков в паре с обычными аркебузами, чтобы стволы им поменять под общий стандартный калибр.
– Вот как-то так… – тяжело вздохнув, подытожил он, осматривая это отобранное богатство, разложенное перед ним.
– Доволен? – поинтересовался Царь.
– Весьма доволен. Жаль только с этим барахлом еще работы немало предстоит.
– Работы? Какой работы?
– Им все дерево нужно переделать. Стволы к единой длине привести. Замки поправить так, чтобы были одинаковые. Во всяком случае, фитильные. Ну и так далее. Но то дела не сложные. Справимся, мню, Божьей помощью.
Царь покивал, не став возражать.
По парню было видно – знал, что делает. Откуда? Бог весть. Но Иоанн Васильевич уже привык к тому, что Андрей постоянно знал какие-то вещи, недоступные другим. Кроме того, Государь отметил, воевода к красивым и эффективным вещицам не присматривался. Больше морщился. И откладывал все, что годилось лучшим образом для двора и подарков обратно. Почему-то они ему не нравились. Почему? Неважно, так как это позволяло на корню избежать серьезного конфликта интересов…
Так и провозились.
А пятнадцатого августа до Москвы добрались персидские послы. Царь-то о них знал. Но по городу слухов о том не было. В секрете держали, чтобы никто глупость какую не учинил. Вот и вышел сюрприз. В том числе и для Андрея, которому, кроме огнестрельного оружия, нужно было еще много с чем повозиться. Того же сукна своим людям на одежду форменную выбрать. Да с купцами сговориться относительно цены и будущих заказов…
Однако время.
Андрей максимально быстро привел себя в порядок и явился в царские покои, где ему указали быть в свите, поставив среди бояр и прочих думных чинов. Причем поставили не по местническому праву, то есть где-то на задворках, а поближе к Государю. Что вызвало определенный ропот среди остальных. Но не более. Ведь по прямому указанию Царя.
Насколько знал Андрей, в 1553 году должно было случиться первое посольство персов. Но его не произошло. Почему? Бог весть.
Возможно, так все иначе сложилось в этой истории. А возможно, его и не было. Ведь о нем известно только из показаний Генриха фон Штадена, а также пастора Пауля Одерборна. И все. Но они оба прославились тем, что сочиняли байки, старательно очернявшие Московскую Русь. Причем Пауль в 1553 году еще даже не родился и в своих фантазиях, судя по всему, опирался во многом на Штадена и других болтунов, поэтому доверия их свидетельствам было немного.
В посольских же книгах записей о каких-то сношениях с Персией раньше 1588 года нет. Возможно, что-то было утрачено. Но такое грандиозное явление, как официальное посольство Персии в Московскую Русь, без всякого сомнения, отозвалось бы большим эхом по округе. И в самой Руси, и в Литве, и далее. Но этого не произошло…
Так или иначе – в этом варианте истории посольства персов в 1553 году не было. А то, что они явились в 1556-м, стало следствием громких событий, виновником которых оказался Андрей. Не всех, но многих. И, во всяком случае, самых ярких.
Персов сначала встречали на улице.
Слоны… о да, они вели слонов.
И именно не слона, а слонов. Они величественно вошли в Кремль и остановились в прямой видимости от парадного крыльца Грановитой палаты. Что, кстати, достаточно логично. Это какой-нибудь король Португалии может дарить одного слона другому королю в той же Европе. А тут, считай, страна, в которой эти слоны массово употребляются и используются. И одного дарить как минимум странно. И как-то стыдно, что ли. Во всяком случае, когда шах Аббас дарил слонов Михаилу Федоровичу, он их вручил сразу сколько-то штук.
Сама делегация, разодетая в пух и прах, везла Иоанну Васильевичу в дар не только слонов, но и иных диковинных животных. Несколько мелких обезьянок. Пестрых птиц. И конечно же, знаменитых персидских жеребцов.
Показали.
Удивили.
И пошли в помещение – беседовать.
Андрей впервые участвовал в принятии большого официального посольства. И он испытывал смешанные чувства.
С одной стороны – интересно.
С другой стороны – скучно.
Интересно потому, что это все-таки пышная и древняя культура. И у нее имелся определенный колорит и шарм. Тем более что по своему внешнему виду и одеждам персы оказались довольно близки для московского двора – весьма ориентализованного, пусть и на османский манер.
Скучно по той же причине.
Новые ряженые, вид сбоку. Ну и поведение. Что принимающая сторона, что гости разыгрывали малопонятный ему ритуал. И ходили вдоль да около.
Этим страдали и остальные местные, из-за чего его манера сразу переходить к делу казалось им едва ли не хамством. Однако прощалась. Сами же они иной раз могли по полчаса разговаривать ни о чем. Только лишь для соблюдения некоего неписанного регламента. Чтобы выглядеть обстоятельными.
Единственная вещь, которая Андрея действительно тронула, были кони. Знаменитые персидские кони, славную породу которых вывели еще в глубокой древности. Именно на ее основе впоследствии и получили знаменитых арабских скакунов. Легких и резвых. Сам же перс отбирался с упором на максимальную выносливость и по масса-габаритным характеристикам его можно было квалифицировать как крупную лошадь линейной породы, то есть их жеребцы имели массу около 500–550 кг в среднем. Именно эти кони стали в свое время основой для катафрактов и военного могущества Персии. Даже ныне турок персидские кызылбаши громили не на чахлых степных клячах, а на добрых и славных конях…[11]
Одна беда – кобыл в подарке царском не было. Так что заняться разведением этой породы не имелось возможности. Во всяком случае, в чистом виде.
Но такова жизнь.
Персы по какой-то причине считали чистоту породы по кобыле, а не по жеребцу. И кобыл не продавали, не дарили и так далее. Строго говоря, той же арабской породы и не появилось бы, если б не завоевание Персии арабами…
Болтали.
Болтали.
Болтали.
А у Андрея из головы эти кони не выходили. Он в них просто влюбился. Красавцы! И настолько увлекся этими грезами, что даже не заметил, как к нему обратился сам Государь.
Благо, что стоящий рядом боярин толкнул его в плечо.
– Что тебя так увлекло? – с некоторым раздражением поинтересовался Иоанн Васильевич.
– Прошу простить меня, Государь. – поклонившись, ответил Андрей. – Кони. Они просто сказочные. Я весь охвачен восхищением. Шах Шахан древнего Ирана[12] преподнес тебе великолепный подарок.
– А эти большие животины ушастые да носатые тебя не удивили? – смягчившись, спросил Царь.
– Ромейцы зовут их элефантами. В стародавние времена их использовали для войны. Но ныне их мало где употребляют для войны, кроме лесов Индии и прочих южных владений. В остальном все больше как прогулочных, рабочих или вьючных животных.
– Отчего же так?
– Эти животные отличаются умом и удивительной памятью. Злопамятны без меры и могут отомстить обидчику даже спустя годы. Они не любят умирать и войну. Пугливы. Их сила раскрывается в мирных делах. Везут они на себе много, в несколько раз больше любой лошади. Носом могут и бревна поднимать, и кисточкой малевать. Удивительные животные. Но для войны малопригодны. Да и в наших краях вряд ли выживут. Им требуется особый загон для зимы, очень много корма и особые условия содержания. Например, много ходить. Кроме того, они дороги…
Царь замолчал, обдумывая слова.
А переводчик бегло переводил эту беседу персам. Когда же он закончил, посол произнес – с помощью переводчика, разумеется:
– Я удивлен тем, что верные слуги Царя столь наслышаны о моих родных краях.
– Вы спрашивали, кто бил османов прошлым летом, – молвил Иоанн Васильевич. – Так вот он, – кивнул в сторону воеводы.
И завертелось.
Оказалось, что Тахмасп просил передать подарок столь славному полководцу. Если, конечно, Царь не будет против.
Царь против не был.
И Андрей узнал, что Шахиншах дарит ему коня персидской породы и комплект кольчато-пластинчатой брони как для коня, так и для самого Андрея. Плюс щит металлический индо-персидского образца. А также саадак и саблю, дабы парень и дальше громил османов всюду, где настигнет. Причем не простую саблю, а тальвар из отменного булата да с доброй отделкой. Клинок этого оружия имел около 90 см длины и обладал слабо выраженной елманью для усиления рубящего удара.
Комплект достойный.
Комплект полезный.
Комплект под стать самым уважаемым и богатым кызылбаши, стоящими под рукой Тахмаспа.
– Я благодарен твоему, без всякого сомнения, благородному и щедрому правителю. – произнес Андрей, приложив правую руку к сердцу. – Я много наслышан о блистательных военных успехах твоего правителя. Его слава гремит далеко за пределами его владений. А враги его трепещут от одного его имени. Но я служу своему Государю. И смогу принять этот дар, только если вы подарите его ему и он снизойдет до меня в своей милости.
– Андрюша, не ломайся, – хохотнул Иоанн Васильевич.
– Верный пес берет еду только из рук своего хозяина, – вполне почтительно заявил посол.
Андрей кивнул.
Царь еще шире улыбнулся.
Ему польстил поступок воеводы. Мог бы взять. Мог возгордиться. Тем более что вполне заслужено. Тем более что там был один из этих прекрасных персидских коней, которые ему явно запали в душу. Но нет. Сдержался. Посему Иоанн Васильевич принял дар персидского посла и торжественно вручил его парню. А потом начались дела насущные, то есть разговоры про деньги.
Персия хотела продавать Руси шелк-сырец. Точнее, не самой Руси, а через нее в северную Европу. И логика тут была проста.
Шелк производили в Гиляне, что стоял на берегу Каспийского моря, поэтому до Хаджи-Тархана от него везти два тюка шелка стоило не дороже четырех талеров[13]. Дальше по Волге перевезти этот товар с переволокой и далее до Новгорода обходилось еще столько же два раза. Максимум.
А вот перевозка верблюдами по пустыне выглядела не настолько благодатно и обходилась от половины до восьми талеров в день. Там ведь не только одно животное эксплуатировалось. Отнюдь нет. Караван нуждался в охране. Крепкой охране. И людей задействовалось немало. И коней.
От Гиляна до Ормуза в Персидском заливе караван шел за 80–90 дней, из-за чего торговая наценка за шелк никогда при такой логистике не падала меньше сорока талеров за два тюка. Маршрут в Сирию стоил примерно столько же. В плане транспорта. Но там накладывалась еще и торговая наценка османов, которые взвинчивали цены просто до небес, из-за чего португальцам в целом было выгодно отправлять свои корабли вокруг Африки для торговли в Ормузе, нежели закупать шелк у турок.
Вьючные маршруты приводили к тому, что производители шелка получали сущие гроши за свои ценные товары. Как и Шахиншах, взымавший таможенное мыто с очень маленького оборота. Ведь отпускная цена вырастала чудовищно. Особенно при торговле через османов. Что радикально сужало рынок и объем покупателей.
Путь же через Каспий и Русь позволял и шелк-сырец отпускать дороже в Гиляне, и продавать его европейским купцам в Новгороде намного дешевле. Даже с учетом приличных торговых, таможенных и прочих наценок. Как следствие, объем торговли рос. Росли и прибыли. В том числе державных властелинов.
Эту схему в свое время рассказал Царю Андрей. А через него донес посол до Тахмаспа, который и возгорелся желанием одним ударом убить сразу несколько зайцев. Как минимум трех. И османов пощипать, лишив прибылей, и самому казну пополнить, и династию, правящую в Гиляне, сильнее к себе привязать.
Но не шелком единым.
Персия была готова торговать и иными товарами. Преимущественно своими, но и транзитом индийским не брезгуя. Например, бархатом, который в те годы делался из шелка, различными самоцветами, природными красками, слоновой костью, специями, особенно перцем, хлопком, нефтью и сухофруктами, прежде всего изюмом.
Знаменитые же персидские ковры массово начали производить только в XVII веке, и их экспорт носил локальный характер. Хотя и про них поговорили. И про зерновые, что выращивались преимущественно в Междуречье, откуда их было непросто и недешево доставлять к побережью Каспия. И о многом другом.
Со стороны собственно Руси Персию интересовало деловое дерево, лен, меха и светильное масло. Плюс разнообразный транзит вроде шведского железа, голландского сукна и английского олова. Ну и оружие. Персидский посол был очень заинтересован приобретением у Руси западноевропейского огнестрельного вооружения.
Прием прошел если не блистательно, то весьма успешно. Породив немало встречных надежд и ожиданий. Поднимая вопрос не только совместной борьбы с турками, но и прежде всего огромных перспектив взаимовыгодной торговли.
И чем дальше шла беседа, тем больше Андрей был вынужден по просьбе Царя высказываться. Давая краткие сводки по геополитике, географии и прочим подобным вещам. Иоанн Васильевич беззастенчиво пользовался этим локальным вариантом «гугла». Ходячей энциклопедией, которая знала, конечно, не все. Но ОЧЕНЬ много. Особенно по сравнению с местными жителями…
– Ты получил то, что хотел, – произнес Царь вечером, пригласив Андрея к себе. – Испанские пищали да голландские кони. Разве не этого ты желал? А сверху еще и этот дар от персидского Царя. Но лицо кислое. Иной бы сиял, как начищенная монета.
– Я более чем доволен, – кивнул Андрей. – Теперь бы все это не потерять, но приумножить. Кобыл мало. Не один и не два года потребуется, чтобы увеличить поголовье этих славных коней. И даже не персов, а этих вот фризов.
– Ты ведь знаешь, что делать?
– Знаю. Но везде оказаться не могу. Нужны доверенные люди. Разумеющие то, что творят. А с ними беда. Мало. Очень мало.
– Ничем помочь не могу, – отрезал помрачневший Иоанн Васильевич. – Али не ведаешь, что мне самому они надобны как воздух?
– Знаю, Государь. И искренне не понимаю, как ты справляешься. И раньше-то людей не хватало. А теперь еще и торговлишка эта вона какой большой видится. Тот же лес для персов нужно валить и как-то справлять вниз по Волге. По уму. Ежели же самосплавом, в плотах или еще как, то он испортится и станет стоить дешево. Надобно большие струги ставить и на них спускать. Не смоленные струги. Чтобы их и сами разбирать в Хаджи-Тархане, если не на деловой лес, то на дрова. И это только лес. А тут ведь и волоки надобно оснащать должным образом. Чтобы стругам легче и шустрее ходить было. И…
– Помолчи! – перебил его Царь, поморщившись, словно от зубной боли. – Прошу. Помолчи. Мне и так тошно. А тут еще ты с советами. Сделаешь? Берись. А нет – то и говорить не о чем.
– Извини, Государь. Язык у меня длинный. Иной раз сам молотит что-то, будто тряпка на ветру.
– То-то же. А то туда же. Советчик… – произнес Царь, потирая виски. Видимо, он и сам немало голову над этими вопросами ломал.
Он встал.
Прошелся.
– Так ты думаешь, плотами сплавлять не надо бревна?
– Не надо. Они сильно намокнут. А как их потом вытащат из воды, так и рассохнутся, растрескаются и испортятся. Оттого и цены будут малые. Кому эта трухлявая дрянь нужна? А лес ведь это твой. Впустую, получается, его переводить будут.
– А то купцы сего не ведают?
– Отчего же? Ведают. И себе дом они из такого дерева ставить не станут. Но то себе. А то твою волю выполнить. Им ведь особой пользы с торга деревом нет, пока мех хорошо идет. Так, возня одна. Вот на отвяжись и делать станут.
Иоанн Васильевич остро глянул на Андрея. Тот виновато пожал плечами и добавил:
– Ищи кому и что выгодно. Человек – он тварь такая, что ленив и лишний раз палец о палец не ударит, если ему с того выгоды нет.
– А ежели казнь смертная за ослушание?
– Так это и есть выгода. Жить всяко приятнее смерти. Но страх притупляется. Чем дольше топор над шеей занесен, тем меньше его боятся…
Царь помолчал.
Посмотрел на огонек, что бодро горел в масляной лампе.
И наконец, чуть пожевав губами, произнес:
– Ты не серчай на меня. Сам видишь – голова кругом. Мысли свои по торговлишке ты изложи. Но не сейчас. Я едва ли тебя услышу. Напиши их, как обычно ты любишь, разложив все по полочкам. И принеси. Дело-то доброе. Чую. Но ныне не до него. Спать надобно. Устал… очень устал…
8
По-персидски слон [ˈf̆il] – فیل, то есть слуга воспринял это на привычный ему манер. В древнем русском языке звука «ф» нет. Все слова с этим звуком заимствованы или новояз, что было ярко заметно в простонародном говоре еще первой половины XX века. Для XVI века это еще ярче проявлялось вплоть до тотального исключения звука «ф» с заменой его на стандартный кластер типа «хв».
9
Слон – это искаженное турецкое «аслан», то есть лев. Попало в Россию через Польшу, где было ошибочно воспринято и начало свое неверное бытование.
10
Стволы отечественных аркебуз (пищалей) собирались из двух половинок с пробитой по центру канавкой – каналом ствола, которые соединяли кузнечной сваркой (2 шва). Это самый примитивный способ и наименее требовательный к квалификации. Стволы получаются толстые, тяжелые и малого калибра. Испанцы в это время уже перешли на другую технологию (просуществует как массовая до середины XIX века) – они на оправке выковывали полосу металла, собирая ее кузнечной сваркой на смыке кромок (1 шов).
11
Успех кызылбаши, организованных во многом схожим с поместной конницей образом, заключался в большем богатстве выделяемых поместий и доступом к добрым коням линейной породы, из-за чего они выглядели как «помещики на максималках», восседая не только на нормальных конях, но и с добрым воинским снаряжением.
12
Иран – это старинное самоназвание державы, известное с античных времен. Персами их называли только европейцы вслед за эллинами.
13
Здесь цены приводились в рамках международного стандарта тех лет.