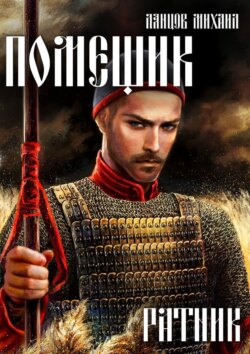Читать книгу Иван Московский. Том 3. Ливонская партия - Михаил Ланцов - Страница 6
Часть 1. Банка с пауками
Глава 4
Оглавление1477 год, 5 апреля, Москва
Пока ещё крестьянин Устин сын Первуши подходил к Москве с каким-то особенным трепетом в душе. Он наслушался баек на тульском торжище, куда ходил с отцом. А потом взял, да и сбежал, чтобы записаться в королевское войско.
Его семья жила очень бедно. Да, крестьяне они свободные, но землицы мало. А он, ко всему прочему, ещё и младший сын, которого в семье считали едва ли не приживалой и лишним ртом. Все, кроме отца. Мать-то померла уже пару лет как, а братишки с сестрицами особой добротой не отличались. Так что он, улучив момент, и сбежал. Отец-то не пускал, а то бы открыто ушёл.
Битва при Вильно в 1476 году в какой-то мере потрепала королевское войско, особенно пикинёров, что приняли на себя колонны швейцарцев и фламандцев. Однако в целом эти потери оказались ничтожны на фоне продолжения развёртывания современной армии по служилым городам, ведь король распустил городовые полки и прочие старые формирования, ставя вместо них на местах войска Нового строя.
Понятно, что оголтелого наращивания численности уже не шло. Но всё одно – вербовка добровольцев не останавливалась и двигалась своим чередом. Под контракт с дачей присяги, разумеется, а не просто внаём. Королю пока что удавалось на волне своих успехов обходиться притоком людей по доброй воле, не прибегая ко всякого рода хитростям и тем более рекрутским наборам…
И вот – Москва.
Устин стоял на Воробьёвых горах и заворожённо смотрел на неё. Столица! И она была огромной! Во всяком случае, в его крестьянском понимании.
Сколько он так стоял – неясно. Но не меньше получаса совершенно точно. Очень уж сильные его переполняли эмоции от увиденного. Однако ничто не может длится вечно. Вздохнув и помяв немного шапку, перед тем как её нахлобучить обратно на голову, Устин пошёл вперёд – к реке, через которую был переброшен понтонный мост.
Так-то Иоанн строил уже нормальный мост. Но строил не значит построил. Работа над ним пока велась, а людям переходить с одного берега Москвы-реки на другой требовалось уже вчера. Так что король в пределах Москвы держал три понтонных моста, которые на ночь размыкались, пропуская накопившиеся кораблики и лодки.
Устин не знал – платный по мосту проход или нет. И не сильно по тому поводу волновался. Платить-то за проход он не собирался. Нет, не потому что жадный. А потому что у него банально не имелось лишних средств для этого.
Однако обошлось. Он прошёл по мосту без всяких проблем. Оказалось, что платным являлся проезд только для торгового люда, да и то – только того, что товар вёз. Простым же пешеходам ход по мосту был предоставлен безо всяких ограничений. Но по узким проходам, что шли по самому краю с обоих сторон. Так что зевакам, желающим бесплатно перебраться, приходилось ждать своей очереди. Всадники же да телеги шли по центру, где было организованное движение, да с разметкой в две полосы. Чтобы, значит, телеги, идущие туда, не мешали телегам, идущим оттуда.
Устин прошёл по мосту и сразу направился к большой московской крепости. Ведь там, со слов прохожих, находился вербовочный стол.
Идти было недалеко. Подошёл к воротам да залюбовался. Вон какая стена. Да, из земли. Но большая, что ух! Такую не перелезть, не пробить ничем. И стража у ворот стоит, поблёскивая металлической чешуёй, что просматривалась под красными накидками с золотым восставшим львом.
Красота.
Львы были на этих накидках такие невероятные, что Устин завис, открыв варежку, отчего чуть пинка не получил от прохожего. Он вроде бы попытался вдарить, проезжая на коне, чтобы парень отошёл в сторону. Но Первушин сын словно бы почувствовал угрозу и легко от неё увернулся. У него такое было – чуйка. Хоть он и молод, а всё одно – много раз она ему в жизни помогала. Столько всадников обогнало, а этот – первый попытался ударить. И парень как почувствовал. Отскочил. Из-за чего его несостоявшийся обидчик, глупо взмахнув руками, и упал с коня прямо в дорожную пыль. А Устин, не дожидаясь разборок, скрылся во дворах города.
Вошёл сын Первуши в Москву. Точнее сказать, прошмыгнул. Однако едва он оказался на улицах города и немного там поблуждал, как услышал пение какое-то странное. Оглянулся. И ахнул. К воротам, тем что к Смоленску вели, шествовал крестный ход какой-то.
Впереди красиво одетый мужчина с крестом. И почему-то босиком. За ним всякие. Но ни одного конного. Даже у кого копытная животинка была – все под уздцы её вели.
Устин отшатнулся, отойдя в прилегающий к дороге переулок. Но недалеко, чтобы видеть всё это действо. Чай, в Туле таких шествий не встретишь. Крестным ходом-то ходят. Чего же не ходить-то? Но по праздникам и не такой толпой. Да и вон какой крест богатый и разряженный носитель. Явственно – человек не простой какой. И с ним тоже не посоха чумазая идёт. Шелка да парча в изобилии. Меха. Оружие дорогое.
Так он и стоял да смотрел, пока крестный ход приблизился да проходить мимо начал, мелькая людишками. Поначалу богатыми, а далее поплоше. Да с подводами какими, гружёнными непонятно чем.
– Мил человек, – осторожно дёрнув мужичка, что поплоше был одет в проходящей процессии. – А чего это? Праздник разве?
– А что? А может, и в самом деле праздник, – улыбнулся тот.
– А…
– Патриарх то! – назидательно поднял человек палец. – Из самого Царьграда идёт! Сказывают, что от басурман сбежал, что помором хотели божьих людей извести. Вот – на поклон к нашему королю идёт.
– На поклон? – удивился Устин. – А чего?
– Как чего? Али ты не знаешь, чего пять али семь годиков назад по землям и весям нашим попов резали?
– Да я мал ещё был, – пожал плечами Устин. – На торжище с отцом не ходил, а он помалкивал.
– А… дурья башка! – усмехнувшись произнёс этот человек, взъерошив сыну Первуши волосы. – В размолвке Патриарх с королём нашим. Предыдущий сказывают, сморить Иоанна свет Иоанновича хотел. А матушку сгубил. Отравил. И отца извёл.
– Как же это?! – ахнул Устин. – Патриарх же! Навет, небось?
– Если бы… – покачал головой этот человек. – Вынудил того, как сказывают, государь басурманский. А тот слаб духом вышел, вот и поддался искушению. Оттого мы уже вон сколько лет не по-христиански живём. Даже король наш и то – супружницу свою не по старому обычаю в жёны взял. Она-то папистка, а он её в христианство крестить не велел. Так обвенчались.
– А что, так можно было?
– Ну раз сам государь так поступил, то можно. Хотя злые языки сказывают, будто бы это не по-христиански и что живёт он с ней во блуде, а не в законном браке.
– Ох… да брось! Как же так? – ошалел Устин.
– Вот так… – пожал плечами этот незнакомец. Хлопнул сына Первуши по плечу и вернулся обратно в процессию.
А Устин так и остался стоять да глазами хлопать. Как и зеваки, что рядом с ним прибились послушать разговор. Всем же было интересно.
– Да… дела… – произнёс какой-то дед, почесав затылок, отчего колпак его войлочный съехал на лоб.
– Неисповедимы дела твои, Господи! – искренне воскликнул Устин и от всей души перекрестился. А вместе с тем и остальные. После чего, недолго думая, паренёк влился в процессию. Всё интереснее, чем вот так стоять на обочине…
Иоанн узнал о том, что в пределы его владений вошёл Патриарх, уже давно. Сразу как тот до Смоленска добрался, так и узнал – голубем сообщили. Но принять решение не успел. Днём позже прилетел следующий голубь, сообщающий, что Патриарх пошёл крестным ходом на Москву.
Разгонять его стало сразу как-то неудобно. Люди бы не поняли. Тем более что истосковались они по священникам, каковых после опустошения 1471–1472 годов мало осталось на Руси. Православных. Да и католические пока просачивались очень вяло. Откуда им было взяться-то? С Ливонским орденом Иоанн не на ножах, но ресурсы его крайне ограничены, да и ближайшие к нему земли Псковские да Новгородские традиционно находились в весьма натянутых отношениях с «дойчами». Туда на проповедь не пойдёшь. Не потому что католик, а потому что ливонец. Поколотят. И это ещё хорошо, если просто поколотят. Торг торгуется – и ладно. Да и по тому торгу обид набежало немало взаимных, особенно за последнее время. А Литва была в основной массе ещё православной. Только кое-какие земли в коренных провинциях считались католическими, но такие там католики, что не пересказать. На взгляд короля, они скорее походили на язычников с надетыми крестиками. Причём крестиками, что сидели на них крайне неловко. Как собака на заборе. Польша же была далеко, и её пасторам было чем заняться в Литве. На юге имелась Молдавия. Так тоже православная. А больше кто?
Да, католические священники имелись на Руси. Но в Москве. И числом едва ли в два десятка. Они обслуживали дипломатические миссии и спутников супруги короля – Элеоноры. Да и ей самой требовался духовник. Но дальше Москвы они не уходили.
А тут – целая толпа мужиков в рясе. Крест подняли. Да и идут так.
И что Иоанну с ними делать?
Так-то понятно, хотелось спустить татар, чтобы порубили их в капусту. Но за что? Формально-то никакого вреда конкретно эти священники не сотворили. А нервное напряжение от старых выходок уже не имелось. Люди как-то их уже подзабыли. А может быть, и нет, но накала страстей уже не наблюдалось, и раздражение у многих заменялось любопытством…
Подошла процессия к самому кремлю. Остановилась. И начала псалмы петь.
– Полчаса уже поют, – мрачно констатировал Иоанн, глянув на песочные часы. – Чего они хотят?
– Так выйди к ним. Спроси, – осторожно предложил митрополит.
Иоанн остро взглянул на него. И ежу было понятно – сговорился, собака. Не мог Мануил решиться на такую авантюру, не подготовившись здесь и играючи лишь «от бедра». Ведь крестный ход встретили и снабдили провиантом. Да и в самом Смоленске всё ладно прошло. С какой радости этих ходоков вообще кто-то пропустил к Москве?
Король немного пожевал губами, испытывая острое желание извлечь свою эспаду из ножен, с которой он не расставался, и снести Феофилу голову. Это было бы сложно. Всё же не тесак. Но ей Богу – он бы постарался. Хотя там даже разок по шее хватит – до позвоночника рассадит.
Видимо, Феофил что-то такое во взгляде Иоанна почувствовал, поэтому опустился на колени и тихо-тихо прошептал:
– Прости, Государь. Но эта вражда стала затягиваться. Я не мог иначе поступить.
– Не мог или не хотел?
– Ты и сам эти слухи слышишь. Народ ропщет. Ты ведь ни к папёжной вере не переходишь, ни христианства не держишься. Нельзя так.
– Я сам знаю, что можно, а что нельзя, – предельно холодно произнёс Иоанн.
– Посланцы иноземные шепчутся. Бояре болтают. Крестьяне ропщут. Нет в том порядка. Опасно так дальше жить. Поговаривать злые языки стали, что-де Антихрист ты. И всем рот не заткнуть.
– Они бы ещё Спасителем меня назвали, – раздражённо фыркнул Иоанн. – Его Вторым Пришествием. Дикари.
– И называют. Ты же воскрес на третий день.
– Рассказывай, – раздражённо прорычал король, отмахнувшись от этого бреда.
– Что, Государь?
– Всё рассказывай. Что задумали?
– Только лишь помириться…
– Лжёшь, собака! – всё-таки выхватив эспаду, прорычал Иоанн. – За дурака меня держишь?! Мануил восстание в Константинополе организовал. Разгром там страшный учинил. Что, просто так? Просто чтобы помириться? Сам-то веришь в этот бред?!
– Государь…
– Правду говори, пёс! Правду! Что удумали?!
Спустя полчаса мрачный и раздражённый король Руси выехал из ворот навстречу крестному ходу с богатой свитой сопровождения. Подле него сидел на коне Феофил с хорошим таким бланшем на пол-лица. Не удержался Иоанн. Приложился. Но митрополит светился как новенькая монетка и ничуть не стеснялся своего украшения.
Вперёд вышел Патриарх Мануил, ведя на цепи Дионисия – бывшего Патриарха, при котором и Иоанна пытались извести, и мать его с отцом сгубили. Причём Дионисий не упирался. Он смиренно брёл, понурив голову. А как речь зашла, так и повинился, что недосмотрел. Недосмотрел, но не отдавал приказы. Они с Мануилом в один голос заявили, что всё это проказы Виссариона Никейского, ныне покойного, что крайне удобно.
А дальше пошли подношения. Такие подношения, от которых Иоанн даже дар речи потерял, не веря в то, что видит их. Как, впрочем, и остальные.
Они положили перед конём короля саккос и лорум Константина XI[17], последнего Василевса, а также его меч и прочие многие личные вещи. В том числе и доспех, что Мехмед сохранил себе на память. Потом возложили поверх стемму и пурпурные котурны Юстиниана Великого. Скипетр, два церемониальных меча, два копья ритуальных и два щита эмалированных, что приписывались ими Константину VII Багрянородному.
Когда закончились собственно инсигнии и прочие ценные вещи Василевсов, начались всякого рода духовные артефакты. Например, жезл Моисея, меч царя Давида, рука Иоанна Предтечи, фрагмент Животворящего Креста и так далее.
Вся толпа, что стояла на площади и наблюдала за происходящим, уже минут через десять опустилась на колени и крестилась. И спутники Иоанна многие так же поступили. Для них, для людей, которые на полном серьёзе верили в Бога, не то чтобы прикоснуться, а даже увидеть столь сокровенные вещи – уже чудо.
А потом, после церковных артефактов невероятной для верующих ценности, пришёл черёд обычного бабла. Мануил прекрасно понимал, что нужно умаслить не только толпу, ради которой все эти реликвии он и нёс с собой, но и короля, а он был весьма и весьма прагматичным человеком. Перед Иоанном Патриарх выставил четыре сундука с самоцветами, да жемчугами, да ювелирными изделиями всякими, которые похитил во дворце Мехмеда и кое-каких крупных храмах. А потом ещё дюжину сундуков с монетой. Простой и бесхитростной монетой. По большей части, конечно, серебряной акче[18], но имелось и золото – целый сундучок султани[19] – полного аналога флоринов. И сундучки, надо сказать, получились очень немаленькие. Каждый несли на специальных носилках по восемь мужчин, принимая их с подвод. Иначе не поднять.
Ну и книги Мануил не забыл.
Он отдал распоряжение и вперёд вывели два десятка подвод, заполненных книгами.
– Здесь мудрость многих веков Римской Империи! – торжественно он возвестил. – Девять сотен и семь десятков книг и ещё три сверху! Всё самое лучшее, что удалось спасти из древнего города Константина после разграбления его неверными! И две сотни семнадцать книг на языках арабском да персидском. Что есть мудрость, накопленная в песках.
Иоанн смотрел на эти подводы и не верил своим глазам. Золото, самоцветы с жемчугами, мощи и духовные артефакты невероятного славы, инсигнии – всё это меркло перед подводами, что привёз Мануил. Ему хотелось всё бросить и побежать к книгам. И сесть их разбирать, смотреть… Но он сдержался.
Тем временем Мануил извлёк из позолоченного чехла большой пергамент. Развернул его и начал читать. Это было решение Поместного собора Константинопольского Патриархата. Итог его заседания, из-за которого Мехмед и решил их разогнать.
Вдумчиво Мануил читал. Громко.
А рядом стоящий русский, десять лет как ушедший на Афон, переводил. Предложение озвучивал Мануил на греческом. Предложение – этот священник, но только уже по-русски. Он же переводил все слова Патриарха и ранее, ибо глотку имел лужёную и грудную клетку мощную, отчего голос его зычно разносился над округой.
Под финиш, на сладкое, осталось признание Комнинов последним законным и честным домом, что правил Римской Империей. И Иоанна его главой, ибо в нём текла кровь не просто Великих Комнинов из Трапезунда, а ещё тех – августейших. Как и кровь ещё более древней и не менее честной да славной Македонской династии. Через что следовала банальность – Иоанн свет Иоаннович оказывался единственным законным наследником Римского престола[20]. О чём Патриарх не забыл упомянуть. А потом перешёл к перечислению тех людей, что под решением Поместного собора подписались. Хороший такой список. И подписи внизу. И печати привешены свинцовые. Всё честь по чести.
– Твою мать… – тихо прошептал Иоанн себе под нос, ощущая, как у него кудряшки на заднице шевелятся. – Это же надо так вляпаться…
А перед ним, насколько хватало обзора, стояли на коленях люди. Все. И Патриарх, и его спутники, и обитатели Москвы, и гости.
17
В некоторых исторических исследованиях он числится не Константином XI, а Константином XII. При этом Константином XI в них считается Константин Ласкарис, провозглашённый византийским императором 13 апреля 1204 года, бежавший в тот же день из Константинополя ввиду его захвата крестоносцами и никогда фактически не правивший Византией.
18
Акче – серебряная монета Османской Империи. Начала чеканиться в 1327 году. К 1477 году имела вот уже более столетия стабильный вес 1,15 грамм.
19
Султани – первая золотая монета Османской Империи. Начала чеканиться в 1454 году в ознаменование взятия Константинополю. Вес 3,43–3,51 грамм, лигатура 1/6.
20
Самоназвание Византии на латыни: Imperium Romanum Orientale (Восточная Римская Империя). По-гречески ещё проще – Βασιλεία Ῥωμαίων, то есть Василея Ромайон, или Империя Римлян без указания на восточность.