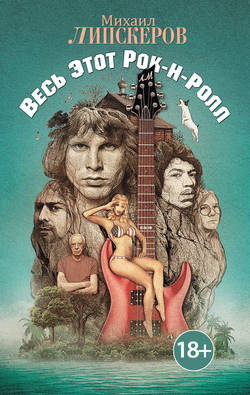Читать книгу Весь этот рок-н-ролл - Михаил Липскеров - Страница 7
Линия Липскерова
ОглавлениеНе очень знаю зачем, но я взял билет в СВ. Хотя могу объяснить. В походе на остров Буян в поисках материнского молока, помноженного на паровозный гудок, не хочется видеть много народа сразу. С третьего пути я взошел в двенадцатый вагон «Красной стрелы», следующей по маршруту «Замудонск-Столичный – Санкт-Замудонск». С первой остановкой через три часа с копейками в Замудонск-Тверском. Проводник с ликом философа Ивана Ильина сообщил, что в купе я буду один.
– Как перст, – зачем-то добавил он, беря мой билет рукой с единственным пальцем. – Якудза. Такеши Питано, – представился он, поклонился в пояс и с возгласом «Кия!» ушел исполнять свои многотрудные обязанности.
Интересно, как он будет разносить чай с одним средним пальцем на руке. А ведь я еще второй не видел. А как он крестится, я вообще не представляю. Зато показать кому-нибудь «фак», как два пальца обоссать… Хотя вот с этим у него будут проблемы при одном-то пальце. Ну до чего же антиномичен мир!
Не успел я расположиться на полке, чтобы глянуть на перрон Ленинградского вокзала, как в дверь раздался стук. Вполне себе формальный, потому что, не дожидаясь моего ответа, дверь уехала, и в купе вошел странноватый для «Красный стрелы» чувак. На первый взгляд понять, в чем заключалась странность, было сложновато, но после того как чувак представился: «Великий князь Замудонск-Тверской Михаил», я понял. На чуваке было длинное, золотого цвета пальто, расширяющееся книзу. Именно в таком пальто Иван Грозный грохнул своего старшенького, положив конец Рюриковичам и открыв путь Романовичам, последнего из которых грохнул один из Лениновичей. У нас на Черкизовском рынке таких пальто не было. Не наловчились еще питайцы шить золотые пальто. А когда чувак его снял, то оно не упало на пол, как у всех нормальных чуваков, а само по себе повесилось на вешалку – единственный палец проводника, на сей раз не угрожающий миру вселенским «факом», а торчащий из стенки купе.
– А тебя как звать-величать, раззвиздяй добрый молодец? – спросил великий князь, снимая фальшак шапки Мономаха.
Фальшак полетел на тот же палец, который для его принятия увеличился в размерах и приблизился ко мне. Князь тем временем снял зеленый бархатный клифт до колен с серебряными застежками и кожаными вставками и расшитую серебряной нитью кумачовую рубаху. «Фак» недорубленного якудзы Такеши Питано вырос еще больше, чтобы принять княжеские шмотки, и грозил впечатать меня в стенку купе, граничащую с завагонным пространством России.
Да, палец хорош. Тут и говорить нечего. С таким пальцем никакая импотенция не страшна.
– Михаилом Федоровичем, – запоздало ответил я из-под круто пропахшей великокняжеским по́том рубахи.
– Понятно. Мишанька, значит… А меня можешь звать-величать «княже». Куда путь держишь, Мишанька?.. К нам, значит?.. В Вудсток… На остров Буян… К камню Алатырь… Знаем такой. Достопримечательность наша.
И князь посмотрел в окно на черную ночную Русь. И я посмотрел на черную ночную Русь. Потому что, если великий князь Замудонск-Тверской Михаил смотрит на черную ночную Русь, то какое такое право я, мелкий смерд Мишанька, имею не смотреть на черную ночную Русь?! А никакого права и не имею. И увидел я за окном в маленьком закутке Руси сельцо Вудсток, море-окиян, а посреди – островок Буян с часовенкой. И себя перед входом в часовенку. Стою, слегка наклонившись ко входу, за которым таится вожделенный камень Алатырь. Красивый до невозможности! (Это я – о себе.) Голова, как я уже говорил, слегка наклонена вперед вместе с целеустремленным взглядом. Могучий торс тянется за головой, но слегка повернут. Ноги согнуты. Левая рука протянута ко входу, а правая отведена назад с маленькой летающей тарелкой. Голый. Офигенно красивый! Вот бы Людочку Козицкую туда. А то: «Вы ж понимаете, Михаил Федорович, мне двадцать шесть, а вам – шестьдесят… Нет, с этим у вас все в порядке…» Сучка. Еще бы не в порядке! Вон фиговый листок размером с пододеяльник. Стоп! Почему вообще у меня на болте фиговый листок? И почему я – голый? И весь белый! И на постаменте. Кто ж на меня на постаменте посягнет? Осквернение. Вандализм. Хотя вон две чувишки голенькие косяки кидают. Одна эдак зазывно ручкой свое прикрывает, а вторая так вообще – настежь. Рук нет. Но нельзя рябинам к дубу перебраться. На постаментах стоят. Альбиноски мои.
– Мишанька, ты чего? Вернись…
Я вздрогнул и отвернулся от окна. Проводник, держа в одной руке поднос, второй, беспалой, неизвестным науке образом расставлял на купейном столике сулею, братины, кубки… (сейчас загляну в Яндекс… нашел…) горшки, блюда, все из злата и серебра. Кроме ложек. Те были деревянные. Подделка под хохлому. Почему подделка?.. Потому что где Великое княжество Замудонск-Тверское, а где – Хохлома. Где-где… Да и не было в те года Хохломы. Вот ведь Россия… Хохломы нет, а подделки уже есть.
– Ты, Мишанька, чего пить будешь?
– Да я, княже, вроде как бы завязамши. Да и голова болит.
– Крепко завязамши?
– Крепче не бывает!
– Понятно, Мишанька. Повторяй за мной: «Туго-натуго завязано, семь раз сплюнуто, восемь раз запечатано, бей-бей, не разбей, пей-пей, не пролей».
Я, завороженный магией (по-русски колдовством) древнерусского волшебства (по-русски ворожбой), доставшегося князю от предков-предков-предков-предков и от того первого, который этой присказкой снимал первое на Руси похмелье со второго по порядку предка, а для первого предка – первого потомка, потому что если бы второй предок (первый потомок) не опохмелился, то не появился бы третий, потому что при сильном похмелье процесс воспроизводства нации сильно затруднен, он просто-напросто и на хрен не нужен, потому что в состоянии сильного похмелья то, что висит между ног, и хреном-то назвать опрометчиво, потому что хрен он и есть хрен. Он (заглавное «О» – это не опечатка, это – знак уважения) даже и висит гордо, а в похмелье… так – сплошной мочеиспускательный канал…
Так, с чего я начал это, запутавшееся в собственных «потому что», движение мысли?.. А… со слов «я, завороженный…» А к чему я его начал вообще? С чего я со стези нарративного повествования свернул на скользкий путь ассоциативного блуждания по дебрям собственного дискурса в состояние похмелья пращуров предков древних русичей с… (опять заколдобило!).
– Пей-пей, не пролей! – вывел меня из постмодернистского транса князь и достал саблю.
– Наливай, княже!
– Так, Мишанька, я с тебе спросюю, что ты будешь пить, а ты мне отвечаешь, голова болить. А я с тебе не спросюю, что в тебе болить, а я с тебе спросюю, что ты будешь пить. Пильзенское пиво чи вино, а может быть, шампанское, а может, ничево. Насчет «ничево» – это я пошутил, – сказал князь, закончив бегать вприсядку по потолку купе. – Это такой у нас великокняжеский юмор. Дык, Мишанька, ты чё? Мишка, чё, да я ничё, я не знаю ни про чё, то ли люди чё сказали, то ли выдумали чё… – И князь звезданулся с потолка.
«Надо будет этот текст Надьке показать…» – подумал я.
Очевидно, вслух подумал. Потому что князь плотоядно спросил:
– Какой Надьке?
– Либо Бабкиной, либо Кадышевой. Приличные башли можно слупить.
– Ну покажи. Башли, пинезы, гривны, гульдены, луидоры за текст – фифти-фифти. Короче, деньги-франки и жемчуга стакан пополам.
– Харе…
– Вот были люди в те времена… Понимали, что алтын гривну бережет. И куда ныне подевалась былая русская практичность? Когда каждую копеечку. Когда бусы – на золото. Когда за пулю – жизнь. Брали. Не то что. Золотом платим. За оружие. Из которого нас. Убивать будут. Продали Россию русские патриоты.
А князь меж тем срубил горлышко саблей. Жалко, винтажная сулея…
– Я бы, княже, водочки выпил.
– Отчего ж не выпить тебе водочки, Мишанька, выпей водочки…
– «Московской», – уточнил я.
– «Московской» нельзя, – построжал князь, – у нас – междуусобица. Выпей лучше нашей. «Тверской». Именно «Тверская» приснится князю Димке.
– Какому Димке? Сыну Всеволодову?
– Ему. Он родом из хазар, – сказал князь, наливая мне в златой кубок водки. – Первого в их роду Менделем кликали. А самого первого – Вениамином. А первейшего – Абрамом. Но это между нами. А я ганзейского винца хлопну, – непоследовательно продолжил князь и из той же сулеи наплескал себе темного густого вина. – Ну, Мишанька, выпьем за Алатырь-камень, что в часовенке на острове Буяне посреди моря-окияна в сельце Вудсток Великого Замудонск-Тверского княжества. Выпьем за то, чтобы камень Алатырь исполнил все твои желания. Ибо на кого еще надеяться русскому человеку. Да и хазарскому тоже…
И князь вылил в себя кубок темного ганзейского, хитрованисто поглядывая на меня понаверх кубка.
Ну и я выпил. Водочки. «Тверской». И захорошел. Настолько захорошел, что про камень Алатырь забыл. Да и какие желания могут быть, когда выпьешь? Только еще выпить и закусить. А когда оно все тут, то чего еще желать можно? Возвышенного… Девок… Царства небесного на земле… «Гамлета» второй акт начать… Сынкам своим, кобелям здоровым, внимание оказать, которое им за давностью лет уж и ни к чему… Помириться с палестинцами… И… чуть не забыл, попросить прощения за то, в смысле за все!!! И потом сладко плакать от невыносимой жалости к себе. А жалеть-то не за что. Да не в этом дело…
– Да ты закусывай, Мишанька. Малец! – кликнул князь проводника, которого и кликать-то не надо было. Потому что стоял он тут, рядом. На расстоянии запаха свежевыпитого «Шипра».
И осталось дождаться девок, которые на этот запах слетятся. Но это – потом. А сейчас малец держал на отлете фальшак жостовского подноса. Вот ведь Россия: Жостова еще нет, а жостовский поднос есть. Малец сдернул с него деревянную подделку под уральский хрусталь. Вот ведь… Ну да ладно. На подносе лежал небольшой цыпленок с четырьмя ножками. (А в артполку, в котором я служил, цыплята рождались совсем без ног. Ну тут ничего странного нет. Армия в России – аномальная зона. В ней законы природы не действуют. Сплошной артефакт. Сплошной пикник на обочине.)
– Последний птенец жар-птицы, – прокомментировал князь появление цыпленка и взмахом сабли разрубил его пополам. Внутри цыпленка оказался жареный гусь с яблоками. Которые вывалились на поднос после очередного сабельного взмаха. Очевидно, в Замудонск-Тверском княжестве был такой тренаж: рубка жареной птицы. Ан нет. Потому что из разрубленного гуся выявился жареный баран, которого птицей уж никак не назовешь. Из которого последним на свет явился очень большой… А кто, сказать не берусь.
– Бизон, последний, – всплакнул князь. – Больше на Руси бизонов не осталось…
– Так зачем же вы его?..
– Да на Руси и без бизонов всего до… Можно, конечно, из стволовых клеток народить нового бизона. Но жареные стволовые клетки не восстанавливаются.
И мы снова выпили и закусили. Жареными стволовыми клетками последнего на Руси бизона. А чего?.. Когда на Руси и без бизонов всего до… Вот, правда, от Руси до России мало что сохранилось, а уж что сохранилось, прикончили в СССР. И в новой России черную икру из нефти гонят. А когда закончится нефть, то все вопросы к «Лукойлу», «Роснефти» и Юрию Шевчуку.
А потом, как водится у нас на Руси, помолчали. Сыто и глубокомысленно. С уважением к себе.
– А вот скажи-ка ты, Мишанька, что мне делать с Кремлем? – бросив русые кудри на грудь молодецкую, молвил князь.
И я ничуть не удивился. В минуты первого алкогольного пришествия мысли посещают нас умопомрачительные. И никто не удивляется, с чего бы это после второго стакана в бойлерной экс-сапожник Каблук ставит вопрос о поголовном расстреле католиков. Почему и зачем, это – другой вопрос. Это другим решать. Вон Кибальчич в Петропавловке в ожидании повешения поставил вопрос о полетах в космос. И пожалте, через сто лет – Гагарин. И это – на трезвую голову! А уж выпивши, приходишь к выводу, что всех католиков действительно… А почему? Ты приходишь к нему исповедаться, что по ошибке трахнул приходящую воспитательницу старшего внука, хотя намыливался к приходящей няне младшего. Ну и как ты будешь исповедываться католику, когда он баб по божественному повелению не использовал? А педофилия не считается. Чего он понимает? А ничего. А уж если некому в храме выплакаться, то зачем такой храм? Вот и расстрелять всех вместе с храмами. Но дороги к ним оставить.
Так что вопрос князя меня не удивил. На него можно было бы и не отвечать, но как не уважить человека княжеского достоинства, с которым только что сожрал последнего птенца жар-птицы и последнего бизона.
– Кремль… – отвечал я, бросив, в свою очередь, два седых кудря на какую-никакую, а грудь. – …Кремль, княже, надо строить.
– Уже построил, Мишанька. Проблема с собором святого Шемяки. Внутри Кремля. За ради этого я и ездил в Замудонск, столицу Великого княжества Московского. Зодчих, мастеров соборного дела подыскать.
– Нашел? – уже из вежливости спросил я, отпивая из сулеи вискарь White Horse. – В России никогда проблем с зодчими не было: хоть Растрелли бери, хоть Монферрана.
– Да я русского хотел, Мишанька…
– Так бери русского. Вон сколько по России от них красоты сохранилось! Какая сохранилась.
– Да нетути, Мишанька, русских зодчих по Руси.
– Мать твою, княже, как это нет? Вот тока что были, а ща – нету?..
– Да есть оно, есть, – глотнув медовухи, вздохнул князь. – Тока слепые все. Обычай у нас такой. Как какой зодчий что путное, так ему. Оттого на Руси и Общество слепых зодчих пришлось завести. А так вполне себе зрячая страна была.
– Тогда без иноземца не обойтись.
– И иноземец был. Из стольного города Парижу. Прибыл к нам на ловлю счастья и чинов. Он и взялся собор в Кремле возводить. А чтобы из соседних князей идею кто не сплагиатил, строили исключительно по ночам. Строительный люд был слепой от рождения, инвалиды детства то есть, а для охраны из моей дружины исключительно близоруких отобрали, чтобы секреты строительства по изменническим соображениям к соседним князьям не утекли. А днем стройку от чужого глаза рыбацкими сетями укрывали. Из-за чего в Волге русалок развелось видимо-невидимо. И блуд по Великому княжеству пошел великий. Ну, пошел и пошел. Все довольны: мужики, что на скорую руку с каким-никаким женским полом перепихнутся и что другие мужики не с их женками перепихиваются. А бабы довольны, что ихние мужики не с чужими бабами путаются. Да и им периодически при стирке в Волге от болтающихся тут и там водяных услада поступает. Ну да ладно. В Духов день, по святцам у нас на Духов день День города приходится, открывать собор стали. Народ со всего Великого княжества собрался, так что все городки и села обезлюдели, и их без обычного шума и блеска пограбили баскаки, намылившиеся грабить Великое княжество Литовское. А тут они у нас награбились и в Орду возвернулись. Так Замудонск-Тверской от монгольского нашествия Европу спас.
И князь умилился рейнским все из той же сулеи.
– Так, а с собором-то что? – заинтриговался я заинтригованно.
А князь опять бросил русые кудри на могучую грудь. Раскидался, глупышка, так совсем без волос останется. А потом отбросил русые кудри с могутной груди на могутные плечи и молвил:
– А вот что, Мишанька, заместо собора святого Шемяки в центре Кремля поставили Нотр Дам де Твери. А поверху с крыльями и хвостами – каменные замудонск-тверские шалавы, коих французишка во время зодчества плотоядно пользовал…
И князь опять восхотел буйну голову бросить, но передумал. И так уже по Руси где какая несуразица, то кажный раз вопрошали: «И где у них головы были?»
– И напрасно Анька, Ярославова дочь, из Парижу депешу слала: где, мол, мой зодчий, а то, мол, из Кельна запрашивали. На предмет, знамо дело, Кельнского собора. Ну а мы знать не знаем, ведать не ведаем. Самая, Мишанька, лучшая тактика на допросах. И морду глупую состроили. Ну это-то как раз дело нехитрое. Сам знаешь, стоит какому русскому о чем подумать, о космосе, к примеру, или о хилиазме…
– О чем, о чем?
– О хилиазме. Учение о Царстве Божьем на земле… так лицо такое глупое!.. что Анька, баба русская по натуре, сразу просекла, что здесь понтов не поймаешь.
– Ну а с зодчим французским что сделали? Глаза, что ли…
– Мы что, москвичи? – обиделся князь. – Москвичи – народ мягкий… Мы его на восстановление тверских городишек и сел, пожженных баскаками, бросили…
– Ну?!
– Что «ну»? Сам увидишь по пути в Вудсток. Ну и у Радищева можешь читануть. «Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй». Вот что парижанин натворил! Геккереном его кликали. Ну и позжей потомок его, сам знаешь, что учудил. Было у нас наше все, а теперь – ни хрена нашего. Сплошная «Бесамемуча».
И князь в очередной раз швырнул русыми кудрями. Да с такой силой, что взметнулась перхоть серым облаком и покрыла блюда с яствами. И только, как из океанских волн, виднелось горлышко сулеи. То ли с посланием от какого-нибудь Робинзона Крузо, то ли со стариком Хоттабычем. Ан нет! Не с посланием и не со стариком Хоттабычем. А с двумя девицами потребительского характера, кои, подчиняясь свирели беспалого проводника, из сулеи выструились и сели к князю и ко мне на колени. То есть ко мне на колени, а к князю – на его великокняжеский елдак. Тоже, наверное, на звук свирели выпрыгнул. Такой вот меломан. А девки были близняшки, потому как представились: «Мелани» и «Мелани». Это они по фамилии представились. Это фамилия у них такая была непривычная. Да и имена не сказать чтобы на каждом шагу. Та, которая у меня на коленях сидела, звалась Прекрасной, а та, которая на великокняжеской шмурыге прыгала, имя носила вовсе заковыристое: Пре…муд….ра…яаааааа… А!А!А!А!А!А!А! А! И трусов на ней не было. Потому и звалась Премудрой. А Прекрасная такое имечко носила, потому что могла только радовать взор. А похотливости и участия не было ни в ее взоре. Ни еще где. Так что сидела и сидела.
К тому времени перхоть осела. Князь отхлебнул из сулеи и потребовал у беспалого культурного увеселения. Тот сел на свободную вешалку, превратил свирель в гусли и пропел быль-былину-былинушку о мужике из городишка Калязина, обладающего силой мужской необыкновенной.
– И женку свою пользовал неумеренно, и другими женками тоже не брезговал. Настолько не брезговал, что мужики женок однажды к козлу нашему с оглоблями пришли. Уж что они хотели ему доказать, молва не донесла. По некоей стыдности процесса. Которая состояла в том, что наш мужик мужиками с оглоблями тоже не побрезговал. При помощи оглобель. Отсюда и пошла на Святой Руси присказка: «Кто к нам с оглоблей придет, от оглобли и погибнет». И что интересно, вопреки старинному русскому обычаю умирать в младенчестве, семя мужика умирать отказывалось и дало обильные всходы числом двести шестьдесят восемь штук. Что в очередной раз доказывает, что хрен хрену рознь. Это у отдельных он – друг, товарищ, брат и кое-кто еще. Но в Калязине это было не принято. И только один младенец по имени Мокша погиб. Но это отдельная история. Такая вот. Однажды после войны с тевтонами пришлось заключать с ними вечный мир на четыре седмицы. И женки калязинские, все до единой, отправились к тевтонам на молотьбу. Сроком на четыре седмицы. И наш мужик сильно затосковал. И на третью седмицу отодрал каменную бабу, взятую в качестве трофея у хазар, которые, в свою очередь, взяли ее у скифов с раскосыми и жадными очами, раскурочив варварскую лиру, и вместо братского пира с Западом получили вшивую распальцовку. А отодранная каменная скифская баба понесла и через седмицу, такой беременный срок у каменных скифских баб, статистикой не подтвержденный, потому что статистики такой никто не вел, потому что где взять для репрезентативного опроса тысячу шестьсот отдрюченных калязинским мужиком скифских каменных баб… Так вот, через седмицу эта бабель разродилась почему-то деревянным ребятенком, которого, в отличие от остальных детей семени мужика, носивших имя Шурка для безразличия половой принадлежности, чтобы мужик не мучился, вспоминая, кого и как, прозвали Мокшей. И тут после молотьбы возвернулась женка великого осеменителя калязинского и всея Руси, и ей только деревянного ублюдка не хватало, и она Мокшу сожгла, чтобы «духу его не было, чтобы шворень у тебя отвалился (это она – своему), сволота окаянная». Но шворень у сволоты окаянной не отвалился, что он тут же и доказал своей, еще не оправившейся от тевтонской молотьбы женке. И она враз как-то похорошела, посвежела и оказала любе своей окаянной, сволоте ненаглядной услугу, почерпнутую от тевтонов. От чего и мужик захорошел совсем уж хорошо, а женка его через девять месяцев – такой беременный срок у людей, любой Левада подтвердит, – родила мальчонку, которого назвали Михаилом. Потому что сразу видно, что человека Мишкой зовут. И через годы междуусобных войн стал он Великим князем Замудонск-Тверским… Который во второй раз подряд стал шворить Премудрую. Генетика, она и эрекции касается. Сперма отцов кипит в наших шворнях. Как знамя ее!.. Сквозь бури!.. Года! Стоять и стоять вечно будут русские шворни! Ежели не сопьемся, однако.
И так текли недолгие часы моего пути в город Замудонск-Тверской. И вот уже замелькали (красивое слово «замелькали», интересно, я сам его придумал, или оно уже где-то было?) станции Подзамудонья. Князь облачился в очень корректную тройку брательников Кармани. Торчащий из стены купе «фак» улетел в служебное купе, а обеих Мелани, как Премудрую, так и Прекрасную, князь за ненадобностью выкинул в окно, в набежавшее лобовое стекло встречного поезда «Санкт-Замудонск – Замудонск-Столичный». От изумления встречный соскочил с колес, хильнул через лес и дол, видений полный, и вместо родного Ленинградского вокзала прибыл на родственный Ярославский. Где его встречали люди в штатском. (Я ни на что не намекаю, просто фиксирую, что прибывший из Санкт-Замудонска поезд встречали ожидавшие поезд из Воркуты люди в штатском. До чего ж закромешили людей, что при слове «в штатском» они начинают орать: «За что, начальник?!» и тут же протягивают руки для наручников.)
Вот ведь, как накаркал, князя по прибытии встречал «Форд-Фокус» с людьми в штатском, которые заломали князя и похотели нацепить на него наручники. Но у них не сложилось. Ибо крайне трудно непривычным людям надеть наручники на трехногого пса.