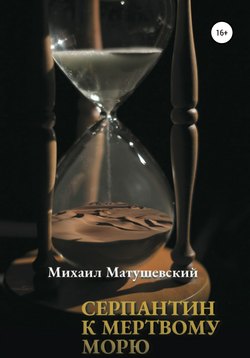Читать книгу Серпантин к Мертвому морю - Михаил Матушевский - Страница 2
Обратный путь возможен
Оглавление«Обратный путь возможен. На досуге…»
Обратный путь возможен. На досуге
места и даты перебрав сто раз,
не повторить лишь запахи и звуки
воды весенней и осенних астр,
не повторить начал наивных строчек,
которым измеренья – век и миг.
Обратный путь и легче, и короче,
но опыт – невесёлый проводник.
Он запускает вновь по глади моря
с размаха плоский камушек и вслух
прыжки его считает, с чем-то споря.
(В который раз не вышло больше двух).
Пускай не вечная! Да и к чему иная?
В ней до колен закатаны штаны,
и платье моря бриз приподнимает
играючи, за пенный край волны.
«В конце ли, в начале? Скорей в промежутке…»
В конце ли, в начале? Скорей в промежутке
наслоенных лет золотые минутки.
И вспомнишь, и только узнаешь свой след
в знакомом пространстве, а времени – нет.
Ремонт ещё свеж, но отклеился плинтус,
шумит непогода, как в ухе тиннитус,
принять бы любви, как от сердца лекарство, —
рецепт дорогой, выпадает нечасто.
Но вот ты свободен, как в юности дембель.
И время, и место – декабрь, децембер,
светильник рождественский, Ханука, ёлка.
Всё связано светом. И только? И только.
«Лошадки деревянной иго-го…»
Лошадки деревянной иго-го,
малиной поцарапанное лето.
Вчера мне не приснилось ничего,
как будто я ещё не прожил это.
Мне не приснилась ранняя весна,
где нет вещей, а только мы в квартире,
и след дыханья в сумерках окна,
как от картошки, сваренной в мундире.
Но постепенно наполнялся дом
звучаньем, и болели дети корью,
заботами он полнился, потом
привычками. Сказать ещё? – Любовью.
Она переполняла наши сны,
а после снова становилась явью…
Там фотоплёнкой мы сохранены
и стихотворной рукописной вязью.
В другом краю – другие небеса,
другой азарт, и, по привычке, края
ещё не ждёшь, счастливые глаза
рукой от блеска моря прикрывая.
Но вот я к быту новому привык
и моду отрицающим фасонам,
и день за днём коробится язык,
тот и другой, смешением неполным.
Вдруг лиц родных приснится череда,
а фона нет, предметов нет, и только
шьёт тахрихим без выкройки беда —
безвыходно точна её иголка.
Хранимое всё суше и мертвей,
как детские в конверте тонком пряди,
как тень живых, всегда учебных дней
с оценкой «плохо» на полях тетради,
а марш на перемене или вальс
в соседней школе – уж не осудите…
Под «Поле-полюшко» построили не нас,
нарушив сон словами на иврите.
«Берег, отмель, осока, за ней камыши…»
Берег, отмель, осока, за ней камыши,
дальше – дымка и лес.
В этот час никогда, никого, ни души,
пульс слышнее, чем плеск
этой длинной, прозрачной, прохладной волны,
уходящей в песок.
До отказа прижата пружинка вины,
отбывающей срок.
А вина, как вино, только входит во вкус,
тянет свой метастаз.
Не вернуть никого, да и я не вернусь,
где до слёз – школьный вальс,
там, где дочь выпускница, тревожен подъезд,
и встречать по ночам…
Бог не выдаст – но выдал, как вырубил свет,
так что поздно к врачам.
И на этой земле, что в пределе кругла,
обнаружишь свой край.
Ровно галька дробит блеск морского стекла,
к пальме льнёт попугай,
разглашая восточных базаров азы:
«На глазок здесь цена!»
И пружинно качают две чаши весы,
на одной – имена.
На другую что бросить и как удержать
неживое – живым?
Продолжай забывать, начинай вспоминать
буквы, почерк, нажим…
Замедляя словами теченье минут,
где мы вечно близки,
где они, закругляясь, к началу бегут
в море впавшей реки.
«В детстве по дворам ходил точильщик…»
В детстве по дворам ходил точильщик,
от его кругов летели искры,
ничего из этого не сыщешь,
всё сгорело весело и быстро.
А пластинок чёрными кругами,
за иглой, срываясь на диезах,
музыка блуждала вечерами
по открытым окнам и подъездам.
Оказалось, возраст – это хворост,
он, сгорая, светит, но не греет.
Оказалось, память – это хворость,
рваные носки на батарее…
Снова майский дождь стучит по жести,
быстро пересказывая, вкратце,
повесть от рождения до смерти,
с затяжной иллюзией – остаться…
Камешком упасть и проявиться
на воде, в кругах волнистой глади.
Лес прощальный грустен, как больница
с близкими, темнеющая сзади.
Что ещё останется в помине,
кем вернёшься, побывав отцом и сыном?
Может быть, точильщиком в пустыне
с головой засыпанный хамсином.
«Кружением ножниц навстречу бумаге…»
Кружением ножниц навстречу бумаге
художник проявит чернеющий профиль
в сверкании дня и синкопах сиртаки.
Всё лишнее срезано. Час мой не пробил?
На белой картонке расчёт подытожив —
наив отпускной, след небрежного клея…
Всё просто и плоско, но в целом похоже,
и острым углом завершается шея.
А чайки стригут синий воздух над морем,
над музой уснувшей, укрытой загаром.
К чему бы, к чему эти строки в миноре,
как будто прожитое прожито даром?
С собой не забрать, но и здесь не оставить
все с предохранителя снятые «завтра».
Трава прорастает в камнях и в октавах
ступеней кружащего амфитеатра.
В ознобе ожогов чего не припомнишь…
Сметана густа, как любовные бредни, —
холодная, нежная первая помощь,
поскольку, вообще, не бывает последней.
«Свет пронижет облака…»
Свет пронижет облака,
самолёт сверкнёт, как спица,
и летит, летит пока
где-нибудь не приземлится.
Март. Распахнуто пальто —
рукава в разлётах вальса.
… Знаешь, в воздухе никто
до сих пор не оставался!
Только, где ни окажись,
всюду поздно. Пух и перья —
тянет в брешь размером с жизнь —
и масштаб здесь, и потеря.
А пока – считай до ста,
начиная от мизинца…
Пусть качают небеса,
спи, пока не приземлимся!
Мы отсюда и сюда,
где давно был берег илист.
Был же след, и – нет следа.
Мы ещё не приземлились.
«Не ищу и вдруг увижу прошлогодний снег…»
Не ищу и вдруг увижу прошлогодний снег,
я его узнаю сразу, как ушедших всех.
Нет, не сразу, но у камня, там, где холодок, —
будто бомж, комочек серый продержаться смог.
Нас несёт, и стонет евро (загнанный) экспресс,
и сливаются платформы, куст, деревья, лес.
Справа Гармиш-Партенкирхен, сетью снегопад
оставлял на объективе хлопья в сто карат.
Хвоя, домики, гирлянды – празднично, бело.
Что древнее, чем простое это ремесло —
драгоценные крупицы день за днём толочь?
Зим пятнадцать миновало, а пейзаж точь-в-точь:
слева тянется равнина, холмики-стога́.
Возвращенье ли, вхожденье в те же берега,
в ту же рамку, в то же фото, точно под обрез,
с теми, счастлив я который, но которых без?
Напоследок нет рецепта, нет заветных слов,
ослепит на повороте золотистый сноп.
Ты сидишь, глаза прищурив, будто снег идёт
и, похоже, повторяешь тот же самый год.
«В который раз мы выше облаков…»
В который раз мы выше облаков.
Открылся моря край и горы, и лощины,
в них деревушки россыпью домов,
в одном из них не смерть, так именины.
Во взгляде, достающем до земли,
и любопытства, и сочувствий мало.
В линеечку летящие нули —
наш самолёт, в котором тихо стало.
Всё цело, но как будто вырван клок
у времени, зацепленного взлётом.
Оно потеряно, как с именем листок,
где две последних цифры с давним годом
нас помнят ночью вьюжной и пустой,
с погасшей буквой «Г» на «ГАСТРОНОМЕ».
Мы обнялись. А век уже другой,
всё дальше от земли, всё невесомей.
«Всё знакомо окрест, вплоть до пыли на зелени…»
Всё знакомо окрест, вплоть до пыли на зелени,
с переменами мест убываешь из времени.
Возвращаться не след, где веление щучье,
ворох старых газет и киоск в захолустье,
где стоят на окне в банке гриб и алоэ…
Всё другое вовне, и во мне всё другое.
Впрямь пора из гостей, задержался, неловок.
Фейерверк этажей между трассами пробок.
Потерял то, что мог. Остальное – раздарено.
Всё возможней итог, подведённый неправильно
и судьбой, и рукой. Но прощание – временно.
Вечен свет боковой на картине Вермеера
по лицу, по письму, от решёток витражных.
Кто писал и кому? Да не так уж и важно.
Отжитого компост проницаем для времени,
чем оно прорастёт, свет впитавши из темени,
что напомнит, вернёт под музейные шёпоты?
Объектив наведу – вот мгновенья и прожиты.
Да и слово зане вслед им тает, как дельта…
А что было в письме, знал художник из Дельфта.
«Что стихи!.. Дыханья след…»
Что стихи!.. Дыханья след,
вот он есть и сразу – нет.
Но в глазу окалина
строк – незабываема.
Лёжа в ягодной траве,
вспомнишь строчку или две,
жмуришься от блика…
Хочешь? – Земляника!
«Что было прожито…»
Что было прожито,
о том – написано
пером раздвоенным.
Какая разница,
раз плюсы кончились,
а время минуса
волной нахлынуло,
в песке не гасится.
Всё получается,
да плохо дышится.
И что-то помнится
не то, обрывками…
То вязь иврита вдруг,
то буква «ижица»,
а куст малиновый
созрел оливками.
За театром оперным
(приснятся запросто)
касанья дерзкие
шестыми чувствами…
Злой пограничник мне
поставит в паспорте
отметку с грохотом!
Проснусь. Не пусто ли?
Как имя идола,
или Вершителя,
с его причудами
дарить и зариться?
Родное имя лишь —
вот свет наития…
А остальное – так…
Какая разница!
Удача – ветрена,
несчастье – базово.
За ними, выживший,
летит вдогонку
клин слов затерянных
и всяко-разное,
смывая прошлое,
как хрип в воронку.
«Забыта местность та и выцветшее лето…»
Забыта местность та и выцветшее лето,
хоть живы адреса, где не живёшь,
где вслед за двухкопеечной монетой,
упавшей в пропасть гулко, сердце тож
летело, вырываясь за пределы
ему доступных в клетке скоростей.
В лесу осыпавшихся дней, через пробелы,
спокойнее всё видится, верней.
В далёкой блажи запахов и звуков,
ушедших голосов, где слышен твой,
мы неуместней, чем мотив мазурок
перед последней встречей с пустотой.
Я забывал. Так тщательно, так долго,
что прошлое пробилось впереди…
Я помню, сколько раз моя футболка
надорвана от ворота к груди.
В который раз и письменно, и устно
растворено дыхание в словах.
До лампочки, что свято место пусто,
куда пустей раскаянье впотьмах.
И вот июль горит разъятым георгином
над формулой любви, что вновь темна,
где врезаны в скамейку перочинным
ножом теперь чужие имена.
«Поехать зимою за Волгу…»
Поехать зимою за Волгу,
приблизить чернеющий лес,
как книги поставить на полку
неровно, с названьем и без.
Вот только я реже и реже
теперь откликаюсь на зов
свиданий и лыжных пробежек,
случайных побед и призов.
Мне чаще мерещиться стало
в дождливых узорах стекла,
как птица там дятел стучала,
как рыба, плеснувши, плыла.
Качели взлетали до хвои,
в просветах – озёрная гладь,
байдарки мелькают, а двое
разглядывают печать
на пне, что оставили годы,
прошедшие как-то без них,
колец волновые разводы
и этот заверенный миг,
не вечный (и в этом отрада),
но вот подступивший опять.
Я всё беззащитней. Не надо
меня без меня вспоминать.
«Время тикает, катится, мчится…»
Время тикает, катится, мчится,
уходя, возвращается вспять,
забывается, тянется, длится,
чтобы в реку свою же нырять.
Время рвётся, латает прорехи,
тает струйкой песочной легко,
нас к себе приручая навеки.
Или мы приручаем его?
Время судит, прощает и учит,
знает цену безоблачных лет,
под мелодию Besame mucho
всё меняет щелчком кастаньет,
безучастно считает потери,
сладко шепчет «не всё решено».
Время лечит, отметив те двери,
где потом убивает оно.
«Этот римский распластанный синий…»
Этот римский распластанный синий,
в ток кровей попадая и лимф,
через кляксы зелёные пиний
совершенно не требует рифм.
Всех империй живучей руины
их имён и великих минут,
временные пройдя карантины
станут равными Цезарь и Брут.
Здесь, в траттории «Виа-Венета»,
всё пьянит – и стихи, и вино.
Искра божья летает по свету,
оттого нам нигде не темно.
Звякнут «чао!» и сдача на блюдце
в затихающем танце монет.
Что-то тянет всегда оглянуться, —
горихвостки над крошками вьются.
Новой рифмы к прощаниям нет.
«Лишь то, что вспомнит и диктует Муза…»
Лишь то, что вспомнит и диктует Муза —
«трави канат», «швартовы отдавай»…
Вновь, набирая тьму и рокот шлюза,
свой дальний берег ближним называй.
«Не уходи», звучало там негорько,
под три гудка коротких из трубы,
вдали закладывала свой вираж моторка,
не удаляясь сильно от судьбы.
Тянула «молния» (слегка) аппендицита.
Из тех же лет кого я обниму?..
Сужалась, пеной тающей прошита,
даль за кормой. Мне помнить одному,
как после вахты, взвинчен дизелями,
врывался в явь и, как на слайдах сна,
рассвет июльский плыл перед глазами,
и занавеска билась у окна.
Хранила поммеханика каюта,
из всех искусств – русалку (ар-деко),
мою матроску с пятнами мазута
и тонкий штапель платья твоего.
«Полно рубцов на теле…»
К. Г.
Полно рубцов на теле,
а помнится иное —
всю ночь мы песни пели
и клеили обои.
Моя жена в роддоме,
твоя с детьми на даче.
Цветы сменить на ромбы —