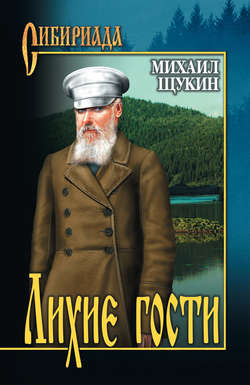Читать книгу Лихие гости - Михаил Щукин - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
9
ОглавлениеРевел безутешно, в два ручья уливаясь, маленький Захарка, когда видел, что Ксюха хочет оставить его одного в избе, а сама навострилась убежать к подружкам. Никаких заманчивых посулов не желал слышать и так орал, сердешный, будто с него черти лыко драли.
– Ой, горе ты мое, – подражая матери, сердилась Ксюха, – навязалось на мою бедную головушку! Ладно, не реви, лезь на закукорки!
Крик малого обрывался, как срезанный. Мигом высыхали слезы. Он ловко вскарабкивался на спину сестре, она подхватывала его руками под коленки и тащила на себе в поле, на речку, на полянку недалеко от дома, где всегда играли ребятишки.
Вот так и вынянчила на своей спине. И еще долгое время Захар называл сестру не по имени, а нянькой.
Жили Луканины в большом селе Раздольном, которое стояло прямо на тракте. Жили небогато, но и не голодали. Хозяин, Евграф Кононович, держал двух добрых коней, сеял рожь и пшеничку, пропадая с весны до осени на пашне, а зимой подряжался по найму в ямщики и мерил на своих подводах бесконечные версты тракта, протянувшегося через всю Сибирь. Супруга его, Таисья Ефимовна, колотилась по хозяйству и с ребятишками, ожидая мужа из дальних отъездов; была работяща, веселого нрава и никогда не унывала, на любую неурядицу в жизни имелся у нее в запасе легкий вздох:
– На все воля Божья.
Судьба Луканиных круто переломилась лет двадцать с лишним назад, в зиму, по-особенному злую на морозы и щедрую на снега. Метели буянили по неделям, наметывая сугробы выше человеческого роста, а затем, без всякого передыха, давил дикий мороз и сковывал влажный снег до ледяной крепости. Езда по тракту превращалась при такой погоде в настоящее мученье. Но деваться-то некуда, подрядился – вези. И тридцать две подводы, груженные китайским чаем, медленно двигались, одолевая сугробы, на знаменитую Ирбитскую ярмарку. Хозяин, купец Агапов, тащивший свой чай из далекой Кяхты, пребывал в великом волнении и тревоге: рушились у него сроки, согласно которым должен он быть на торгах в Ирбите. Сердился, шумел на ямщиков, на постоялых дворах вскакивал посреди ночи и самолично проверял сохранность тюков – извелся купец, до края. И всех, кто вокруг, извел и задергал до невозможности.
Но худо-бедно – ехали. А тут и погода снизошла – утихомирилась: метели в другие края откочевали, морозец при ясном солнышке играл небольшой, ровный. И дальше подводы бежали повеселее.
Евграф Луканин за долгий путь притомился, считал дни, когда этот путь закончится и можно будет повернуть коней до дома. В бане попариться, выспаться в тепле, винца попить в удовольствие, да и пошабашить с ямщиной на оставшуюся часть зимы – хватит, наездился. Но мечты его о скором отдыхе отравляли клопы, лишая сна, прямо-таки зверствовали подлые твари на очередном постоялом дворе. Устав крутиться с боку на бок и чесаться до крови, Евграф поднялся посреди ночи, выругался себе под нос и выбрался на улицу – дух перевести, а заодно и сена коням бросить.
Возы с чаем стояли вкруговую на широкой ограде постоялого двора. Проходя мимо них, Евграф услышал приглушенный говор, невольно прислушался и присел, изогнулся, как гвоздь, будто его сверху по голове обухом ахнули. И больше уже не шевелился, даже дыхание затаил. С другой стороны воза торопливый голос бубнил:
– Ставни на окнах я закрыл, двери сами подопрете… Никто не выскочит… Коней запрягайте и дуйте прямиком к Кривой балке. Меня свяжете, здесь у крыльца бросите. Вот с купцом как? Два ружья у него и спать лег отдельно, в избушке. Клопов, говорит, у тебя на постоялом много. Я и так и сяк, и задом об косяк, а он – ни в какую. В избушке теперь и два ружья при нем, сам видел…
– Не боись, в ножи возьмем твоего купца – не пикнет.
– Главное, чтоб в балке вы до света были. Возы спрятать, и шито-крыто, сидите тихо. Меня ждите.
«Чаерезы! – как опалило Евграфа. – и хозяин постоялого с ними в сговоре!»
Чаерезами звали лихих людей, которые промышляли на тракте тем, что срезали с возов тюки с чаем. Но промышляли они, как правило, по мелочи, а эти, видать, совсем лихие, вон что удумали – целый обоз умыкнуть. Купца – в ножи, ямщики – взаперти, а хозяин постоялого двора, связанный, у крыльца валяется. Будет после уряднику плакаться и разбитую морду для жалости во все стороны поворачивать.
Хитро придумано, комар носа не подточит. Ай да ухари!
Евграф сидел и не шевелился. Только глазами во все стороны – примеривался. Кинуться до постоялого двора и поднять мужиков? Нет, не успеть. Срежут на бегу из ружья, как рябчика, и фамилию не спросят. А тут еще, как на грех, выскользнула из-за тучи луна и сронила свой негреющий свет на ограду – хоть в бабки играй, все видно. Евграф, стараясь не дышать, опустился на четвереньки, затем лег на снег и пополз, извиваясь, как уж на болотине. Бороздил притоптанный снег, вжимался в него и полз к избушке, стоявшей чуть на отшибе, где спал, ничего не ведая, купец Агапов. Дверь, на счастье, оказалась изнутри незапертой, да и купец, как выяснилось, спал чутко, вполглаза. С двух слов все понял.
Как только двери избушки по-воровски неслышно открылись, в чаерезов – в упор – грянули два ствола. Следом звенькнуло окно в избушке, бухнул еще один выстрел, и чаерез, бежавший к крыльцу постоялого двора с колом, чтобы подпереть дверь, с разбегу ткнулся носом в землю.
Дальше началась суматоха. Из постоялого двора посыпались ямщики, чаерезы ударились бежать, за ними погнались на лошадях, но они кинулись в тайгу и – как сгинули. Вместе с ними исчез и хозяин постоялого двора. Агапов, не выпуская ружья из рук, бегал по двору и пересчитывал возы, сбивался со счету и начинал сызнова. В конце концов пересчитал – все возы были на месте, и тюки на возах тоже были в сохранности. Он отыскал среди ямщиков Евграфа, бухнулся перед ним на колени, заблажил:
– Век тебя, парень, не забуду! От разоренья спас! Если б не ты, остался бы с прорехой в кармане! Благодарность тебе, вот, до земли до самой!
И кланялся, прижимаясь потным лбом к утоптанному снегу.
Наградил своего спасителя Агапов щедро, не поскупился: домой Евграф вернулся с двумя возами китайского чая. Таисья Ефимовна, выслушав рассказ мужа, вздохнула:
– И куда нам его, этакую прорву. На всю жизнь хватит – хоть в три горла хлебай!
– Понюшки не разрешаю трогать! – обрезал супругу Евграф Кононович. – Травки заваривай, а то на чаек, видишь ли, растащило!
Спорить Таисья Ефимовна не стала, только головой покачала, безмолвно высказав мужу: да делай ты со своим чаем чего душе угодно, хоть свиней корми…
Евграф Кононович любовно оглаживал тюки, как Таисью в молодости; жмурил глаза и думал о чем-то своем, затаенном. Весной выяснилось – о чем думал. Когда пали дороги и взялись от талой воды непролазной грязью, он раскрыл несколько тюков, пересыпал чай в переметные сумы, навьючил их на своих коней и, перекрестившись, выехал из ворот. Путь его лежал в самые дальние таежные деревни, где зимние запасы давно кончились, а новые по гиблой распутице никто и не думал подвозить. Но там, где не пролезет телега, можно проехать верхом. Вот Евграф Кононович и проехал. Чай – товар легкий, к земле сильно не гнет. А спрос такой, что с руками оторвать готовы, – махом распродал первую партию. Вернулся за второй, за третьей… Всю весну колесил по тайге с переметными сумами, с лица почернел, отощал до края, коней своих довел – одни ребра под кожей торчали, но зато весь чай, до последней щепотки, был продан по такой хорошей цене, какая, наверное, и самому купцу Агапову не снилась.
С этого чайного капитала и попер в гору Евграф Кононович: теперь он выезжал на тракт с грузами уже не на двух конях, а на пяти; затем их стало десять, а через несколько лет и сотенные обозы пошли по сибирской земле – луканинские.
Широко, ухватисто разворачивался мужик. Носился сломя голову по притрактовым селам, нанимал ямщиков, заводил знакомства по начальству, в губернский город все чаще наведывался, чтобы не прозевать выгодный казенный подряд и вовремя ухватить его, сам покоя не знал и другим дремать не велел. Отгрохал в Раздольном двухэтажный дом, работников нанял, хотел еще горничную и стряпуху взять, но воспротивилась Таисья Ефимовна:
– Ты, однако, совсем рехнулся! Да виданное ли дело, чтоб мне чужие бабы стряпали! Не будет здесь никого, пока я хозяйка!
Спорить с женой Евграф Кононович не стал и поехал взад пятки: не желаете помощниц, тогда сами хозяйствуйте. Да и некогда ему было с домашними делами разбираться; у него теперь, считай, вся жизнь в дороге проходила: на двести верст в одну сторону от Раздольного и на двести верст в другую, почти все перевозки грузов и пассажиров находились теперь в руках Евграфа Кононовича. А уж он из своих рук ничего не выпустит. У него все в дело годится. Если постоялый двор завел, значит, при нем и кузня имеется – коней подковать, обод поправить. А еще при постоялом дворе лавка стоит с самым необходимым товаром – мало ли какие надобности могут возникнуть у господ проезжающих. А еще при каждом постоялом дворе у Евграфа Кононовича сидел, как пень при дороге, мастеровой на все руки кустарь: в одном месте посуду ладили, в другом – пимы катали, в третьем – полушубки шили, в четвертом – упряжь конскую… Все, все в дело шло, в одни руки копеечка падала.
Прошло лет семь.
В один из летних вечеров Евграф Кононович, вернувшись из дальней поездки и только что досыта напарившись в бане, пил чай с мягкими каральками и благодушествовал. Хорошо! Шевелил пальцами босых ног и глаза прижмуривал от удовольствия.
Но сладкую минуту отдыха нарушила Таисья Ефимовна. Поднялась наверх и доложила:
– Бродяжка какой-то тебя спрашиват. Надо, говорит, до зарезу, хозяина видеть.
– Ишь ты как – «до зарезу»! А в другое время ему дороги не нашлось! В кои веки роздых себе дал, а ему – «до зарезу»! – Войдя в силу и разбогатев, Евграф Кононович приобрел привычку ворчать и строжиться. Иначе, говорил он, уважать не будут. Но Таисья Ефимовна, как и прежде, на короткой ноге держала себя с благоверным, с ответным словом еще ни разу не замешкалась:
– Ну, ступай и сам ему скажи. А чего я туда-сюда сновать буду, я вам не челнок.
Евграф Кононович еще поворчал, для порядка, и спустился вниз. На крыльце, на нижней ступеньке, его действительно поджидал бродяжка. В годах уже, сивый; на голове, несмотря на жару, татарский малахай, через плечо, на длинной лямке, висит холщовая сумка, шабур грязный и до того истасканный, что дырки просвечивают. Увидев хозяина, бродяжка поднялся и поклонился:
– Доброго тебе здоровья, Евграф Кононович.
– И тебе – не хворать. Чего звал?
– Неужель не признаешь, Евграф Кононович?
Вгляделся в бродяжку попристальней – нет, кажется, не доводилось встречаться раньше.
– Оно конешно, – вздохнул незваный гость, – где же меня теперь, прежнего, узнаешь. Измочалила жизнешка, пятнай ее мухи. Агапов я, был такой купец раньше в Ирбите, чаем торговал. Слыхал про него?
– Вот те на! – Евграф Кононович только руками развел: это ж надо как судьба распорядилась и в каком растрепанном виде довелось своего благодетеля встретить.
Велел Таисье Ефимовне достать чистое белье, отправил гостя в баню, благо она еще не простыла, а после зазвал его наверх, усадил за богатый стол, щедро принялся угощать.
Выпив винца, Агапов жадно накинулся на еду. Сметал все подряд, что на столе было, да так помногу напихивал в рот, что едва не подавился.
– А худо тебе с перееду не станет? – обеспокоился Евграф Кононович.
– Хуже мне теперь ничего не будет. Смерть и та в радость, да вот настигнуть никак не может… – Агапов сморщился маленьким усохшим личиком и тихо, безнадежно заплакал, подшвыркивая носом, как обиженный ребенок.
Была у Агапова причина плакать столь безутешно. Евграф Кононович лишь головой покачивал, слушая печальную историю, которая завершилась холщовой сумкой – в нее Агапов куски складывал, собирая ради Христа нищенское подаяние. Где каменный дом в родном Ирбите, где чайные обозы, где былое уважение и крепкий достаток? Все кануло, все ахнулось, как в тартарары, все рассыпалось в прах. А причина несчастья – в детках родных. Два сына было у купца Агапова, два статных красавца – отцовская надежда и утеха. На них и оставил он свое дело, когда приключилась с ним внезапная болезнь: обезножел Агапов. Каким ветром надуло хворь – непонятно, но скрутила она его крепко: с постели не мог сползти и беспомощным стал, как младенец. А дело-то купеческое ждать не будет, оно не может терпеть долгих перерывов. Вот Агапов и призвал сыновей, переписал на них все распорядительные бумаги, – владейте, дети, умножайте капиталы отцовские.
Владеть – дело любезное. И за три года детки весь капитал профукали: кутежи, бабенки, карты – все удовольствия денежку требовали. Вот она, денежка эта, и летела без счета на ветер. Старший сын в пьяной драке сгинул. В губернском городе, в ресторане, задрался с проезжим офицером, расквасил ему нос, офицер же, видя, что с таким бугаем ему не совладать, выдернул револьвер… А младший сам помер, винищем опился. После очередного кутежа пришли его будить, а он лежит на диване в гостинице – неподвижный уже и холодный.
Сразу же кредиторы слетелись, как вороны на падаль. И оказалось, что оставили после себя сыновья Агапова море долгов. А долги возвращать надо. И возвернули свое кредиторы, забрав подчистую у Агапова все нажитое. Дом и тот с торгов ушел.
От великих переживаний Агапов неожиданно встал на ноги. Сколько всякого лечения и снадобий перепробовал – ничего не помогало, а тут… Не иначе Господь сжалился. Погоревал Агапов и пошел, подаяниями питаясь, искать Евграфа Кононовича Луканина, надеясь у него какое-никакое место найти, чтобы дожить свой век пусть и под чужой крышей, но зато не голодным.
Крепко задумался Евграф Кононович, выслушав горький рассказ Агапова, а затем велел жене позвать Захарку. Тот пришел, встал у порога, плечом в косяк уперся. Высокий большерукий подросток, на верхней губе уже пушок пробился.
– Слушай, Захар, что человек этот рассказывать станет. А что услышишь – крепко-накрепко на носу себе заруби. Так заруби, чтоб на всю жизнь не забылось.
И заставил Агапова во второй раз повторить свою печальную историю.
Учился Захар в ту пору в гимназии в губернском городе и находился по случаю летних каникул в родном доме. Бегал со своими ровесниками на рыбалку, бродил по тайге с ружьишком, читал книжки и начинал заглядывать на соседских девчонок – а чем иным может заниматься гимназер, приехавший на отдых? Он и подумать не мог, что столь вольные каникулы у него – в последний раз.
Горькая история, рассказанная Агаповым, так тревожно легла на душу Евграфу Кононовичу, что он сразу же и решил: в работу надо впрягать Захара, не делая ему никаких поблажек. Пусть сполна знает – как она, копеечка, достается. Тогда и беречь ее будет, а не транжирить. И уже через два дня, исполняя задуманное, отправил сына с обозом в дальнюю поездку. Как щенка в речку бросил, а после стоял и загадывал: выплывет или не выплывет?
Выплыл парнишка! Да еще как выплыл!
Мало того что обоз привел в целости и сохранности, сумел еще Захар и выгодный подряд найти – сено поставить для воинской команды в уездном городишке. На постоялом дворе с офицером разговорился, узнал про нужду военных и сразу же услуги предложил. А сена в Раздольном мужики напластали в то лето под самую завязку, потому как травы вымахали выше пояса. Сильно мужики не торговались, отдали по дешевке, еще и на возы сметали. А уж сами возы по адресу доставить – раз плюнуть.
Евграф Кононович только подивился хватке и сметливости сына, а на следующее лето уже всерьез запряг Захара, доверяя ему нанимать ямщиков, торговаться с купцами, которые грузы отправляли, вести денежные счета. И со всеми делами, которые поручал отец, Захар справлялся быстро и легко, словно играючи.
– Повезло тебе, Евграф Кононович, сильно повезло, – говорил Агапов и прищелкивал языком, будто отведал сладкого кушанья. – Ловкий парень, дальше тебя пойдет. Вон как широко шагает.
– Ага, пойдет, – недовольно бурчал Евграф Кононович, – если штаны не порвет.
Но бурчал он для виду, для строгости, скрывая радость и довольство, что сын у него оказался не из последних, а можно даже сказать, что из первых.
– Не гневи Бога, – вздыхал Агапов, – не ворчи, а радуйся.
Сам Агапов, найдя приют у Евграфа Кононовича, служил ему, как умный сторожевой пес служит своему хозяину: зря не гавкает, но если возникнет надобность – порвет. Евграф Кононович доверял ему, как самому себе. Агапов же, когда отмылся, отъелся и подстриг куделью свалявшуюся бороду, словно заново народился: шустрый, пронырливый, въедливый до самой последней мелочи, готовый сутками напролет сидеть и щелкать на счетах, выверяя каждую копеечку, а уж торговаться он мог до посинения, хоть сутками. Этот жук навозный, говорили про него, из дерьма конфетку слепит, в бумажку завернет и продаст – не поморщится. Когда такие отзывы до Агапова доходили, он лишь смеялся легоньким смешком и ручкой отмахивался, приговаривая: «Я, ребятки, г…м не торгую, я хозяйский интерес блюду».
Вот так, втроем, они и тащили громоздкое хозяйство. Евграф Кононович – в коренниках, а Агапов с входившим в силу Захаром – в пристяжных. Сын продолжал радовать отца по всем статьям. Отрывая время от учебы в гимназии, вел дела родителя в губернском городе, на каникулах – тоже в отцовских хлопотах. Но скоро его жизнь должна была поменяться. Накануне выпускных экзаменов в гимназии Евграф Кононович принял решение: отправить сына в Москву на дальнейшую учебу в коммерции.
Гимназию Захар окончил с похвальным листом. Ехал домой, готовясь обрадовать родителя, думал-мечтал о далекой Москве – и вдруг, посреди ровного течения жизни, как в прорубь ахнулся. За два перегона от Раздольного, на постоялом дворе, где меняли лошадей, догнала Захара страшная новость: родитель его в одночасье преставился. Никогда и ничем не хворавший, выносливый и сильный, как добрый конь, смерть свою Евграф Кононович нашел на строительных лесах. В богатом притрактовом селе Троицком он задумал поставить еще один постоялый двор. Строил его с размахом, в два этажа, просторный; наведывался в Троицкое едва ли не раз в неделю и самолично проверял – все ли делается так, как надо, нет ли какой промашки либо недочета. И вот в последний свой приезд шел по строительным лесам, как раз после недавнего дождика, поскользнулся и не сумел удержаться. А внизу, на земле, бревна навалом лежали. И надо же было случиться, что в одно из этих бревен он угодил виском – в аккурат по самому срезу. Кинулись плотники, подняли его, а он только и смог, сердешный, руку до лба донести, перекреститься хотел – да сил не хватило. С тем и помер, без единого слова.
Таисья Ефимовна пережила его ровно на один год.