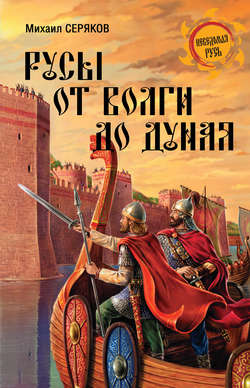Читать книгу Русы от Волги до Дуная - Михаил Серяков - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 4. Русский каганат
ОглавлениеИменно к той эпохе, которую А.Н. Насонов считает временем возникновения «Русской земли» в узком смысле слова, относится известие о Русском каганате. Сообщают о нем «Бертинские анналы», которые под 839 г. рассказывают, что к франкскому императору Людовику прибыло посольство от византийского императора Феофила: «С ними (послами) он прислал еще неких (людей), утверждавших, что они, то есть народ их, называются рос (Rhos) и что король их, именуемый хаканом, направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом послании он (Феофил) просил, чтобы по милости императора и с его помощью они получили возможность через его империю безопасно вернуться, так как путь, которым они прибыли к нему в Константинополь, пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайно дикости исключительно свирепых народов, и он не желал, чтобы они возвращались этим путем, дабы не подверглись при случае какой-либо опасности. Тщательно расследовав (цель) их прибытия, император (Людовик) узнал, что они из народа свеев (правильнее говорить о свеонах, что соответствует тексту оригинала Sueones. – М.С.), и, сочтя их скорее разведчиками и в той стране, и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя (в других переводах «у себя». – М.С.) задержать их до тех пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли они с честными намерениями или нет»150. Дальнейшая судьба этих послов неизвестна, но именно на этом сообщении франкских анналов норманисты во многом и строят свою гипотезу.
Однако, если внимательно проанализировать текст этого сообщения, окажется, что оно далеко не так однозначно, как представляется на первый взгляд. Во-первых, норманисты почему-то совершенно не рассматривают возможность, что свеоны «Бертинских анналов» были авантюристами, просто выдавшими себя за русских послов, чтобы получить дары от византийского императора, не имеющими никакого отношения к народу рос. Во-вторых, как полагал А.Г. Кузьмин, свеоны были «географическим, а не этническим определением» и обозначали не собственно свеев-шведов, а население побережья Балтийского моря и островов151. Однако, даже если предположить, что свеоны в данном тексте действительно были шведами, это свидетельствует скорее против, чем за скандинавское происхождение росов. Утверждение послов, «что они, то есть народ их, называются рос», напрямую перекликается с зафиксированной летописью формулой начала речей послов Олега и Игоря «Мы от рода русского»152 и указывают отнюдь не на племенную принадлежность конкретных послов, а лишь на то, что они являются представителями Древнерусского государства. В высшей степени показательна и реакция франкского императора. Из «Жития святого Ансгария» известно, что в 829 г. к Людовику Благочестивому прибыло посольство свеонов, желавших принять христианство, и к ним были отправлены миссионеры. Теперь же, в 839 г., услышав, что новые шведы называются росами, он немедленно заподозрил в них лазутчиков и задержал до выяснения обстоятельств. Такая редакция Людовика более чем красноречиво показывает, что в качество росов шведы никому на Западе известны не были. Страдавшая от набегов викингов Западная Европа знала скандинавов очень хорошо, и первая же их попытка назваться другим именем сразу же вызвала серьезные подозрения. Следует сразу подчеркнуть, что ни один источник, ни собственно скандинавский, ни русский, ни какой-либо иностранный, больше никогда говорит о том, чтобы скандинавы утверждали, что они принадлежат к племени русов. Для подтверждения своей гипотезы норманисты пытаются использовать и письмо Людовика II византийскому императору Василию I, где говорилось: «Хаганом же, как убеждаемся, зовется предводитель авар, а не хазар или норманнов…»153 Само письмо византийского императора до нашего времени не дошло, но по поводу искусственного этникона Nortmanni А.В. Назаренко предположил, что он являлся частичной калькой греческих названий типа τὰ βόρεια ἔθνη, τὰ βόρεια γένη, «северные народы», οἱ βόρειοι Σκύθαι, «северные скифы», стоявшем в несохранившемся письме Василия I154. Таким образом, Nortmanni письма Людовика II отнюдь не доказывают скандинавскую принадлежность Русского каганата, а являются переводом обобщенного византийского названия жителей Севера и не более того.
С другой стороны, отечественные источники неоднократно фиксируют использование титула кагана применительно к великим князьям Древней Руси. Митрополит Иларион в XI в. так восхваляет крестителя Руси: «Сии славныи от славныихъ рожься, благороденъ от благородныихъ, каганъ нашь Влодимеръ…»155 Говоря чуть далее о сыне Владимира Ярославе, которого он называет христианским именем Георгий, Иларион и его называет каганом: «Паче же помолися о сынѣ твоемь, благовѣрнѣмь каганѣ нашемь Георгии…»156 Надпись на стене Софийского собора в Киеве гласила «СЪПАСН Г(ОСПОД) Н КАГ(А) NА NАШЕГО»157 С.А. Высоцкий относит к великому князю Святославу Ярославичу, правившему в Киеве с 1073 и 1076 гг. Наконец, «Слово о полку Игореве» именует каганом сына Олега Святославича, князя Тмутараканского и Черниговского, умершего в 1115 г.
Исследователей давно интересовал вопрос: почему к русским правителям на протяжении более чем двух столетий применялся чужеземный титул? Впервые это тюркское слово упоминается в китайских летописях в 312 г. Каганами именовались верховные правители тюрок, авар и хазар, а в результате движения на запад этих кочевников данное слово стало известно в Европе. По всей видимости, именно от хазар, держава которых значительное время была самой мощной в Восточной Европе и простирала свою власть на некоторые пограничные со степью славянские племена, этот титул и был заимствован русскими князьями. В вопросе возникновения Русского каганата немаловажными представляются выводы А.П. Новосельцева, приведшего сведения Масуди, который в начале Х в. описал двоевластие у хазар, когда реальная власть у них находилась в руках царя-ишада, а каган, ведя жизнь затворника, был скорее символом, а не носителем верховной власти. Хазарский царь Иосиф в своих письмах вообще ни разу не упомянул кагана. Исследователь полагает, что именно поражение, нанесенное хазарам арабским полководцем Мерваном в 737 г., положило начало перехода реальной власти от кагана к царю-ишаду. Насколько можно судить, процесс этот был не одномоментный. Поскольку правитель русов едва ли стал заимствовать титул, носитель которого не обладал реальной властью, а произошло это, по мнению А.П. Новосельцева, в первой трети IX в. Его принятие еще до призвания варягов означало, во-первых, независимость от Хазарского каганата и претензии на господство в регионе и, во-вторых, предполагало, что под властью кагана русов находятся другие правители ибо данный титул, соответствовавший у тюркоязычных кочевников титулу императора, изначально предполагал такое значение158. После объединения страны под властью династии Рюриковичей их представители перенимают данный восточный титул, который продолжает подчеркивать их независимость от Хазарии, а после ее разгрома Святославом и от Византийской империи.
Рассмотренная история титула правителя Русского каганата указывает на былое соперничество наших предков с Хазарским каганатом. Вместе с тем, согласно приведенному выше фрагменту ПВЛ, к моменту появления Аскольда и Дира киевляне платили дань хазарам. Кроме того, под 859 г. летописец сообщает: «Въ лѣт 859. [И] маху дань Варѧзи изъ заморья. на Чюди и на Словѣнех. на Мери. и на всѣхъ Кривичѣхъ. а Козари имаху на Полѧнѣх̑. и на Сѣверѣ и на Вятичѣхъ. имаху по бѣлѣи вѣверицѣ ѿ дъıма»159 – «Варяги, приходя из-за моря, взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с веси, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по белке от дыма». Рассказывая далее о деятельности киевских князей Олега и Святослава, летописец отмечает освобождение ими от хазарской дани тех или иных славянских племен. О подчинении части славян власти Хазарии говорится и в письме хазарского царя Иосифа, которое будет рассмотрено ниже.
Итак, и отечественный, и хазарский источники сообщают нам, что во второй половине IX в. граничившая со степью часть восточнославянских племен была вынуждена платить дань хазарам, притом что в начале того же столетия Русский каганат претендовал не только на независимость, но и на равноправие с Хазарией в качестве мощной силы в данном регионе. В ПВЛ содержится рассказ и о том, что после смерти Кия, жившего, как полагают исследователи, в VI в., среди восточнославянских племен начались усобицы, чем незамедлительно воспользовались хазары, потребовавшие от полян дани. Посовещавшись, поляне дали от дыма по мечу. Изумленный хазарский каган потребовал разъяснения от мудрецов, которые ответили: «Не добра дань княже мы доискахомся оружьемь одиноя страны, рѣкше саблями. а сих оружье обоюду остро. рекше мечи. си имуть имати и на нас дань. и на инѣхъ странахъ. се же събыться все. не от своея воля ркоша. но от Б(о)жия изволѣнья»160 – «Не добрая дань эта, княже: мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны, – саблями, а у этих оружие обоюдоострое – мечи. Станут они когда-нибудь собирать дань с нас и с иных земель». «И сбылось все сказанное ими, – продолжает русский летописец, – так как не по своей воле говорили они, но по божьему повелению». Летописную легенду о хазарской дани полян одни историки расценивали как разоружение племени, другие – как отказ подчиниться и вызов на бой. На основе своего исследования летописного текста А.А. Гиппиус считает, что «в своем первоначальном виде рассказ сообщал не о подчинении полян хазарами, но о том, как “мудрым и смысленным” полянам удалось избежать обложения хазарской данью, продемонстрировав готовность к сопротивлению. Представление о том, что поляне все же находились под властью хазар на протяжении длительного времени, появилось в летописании лишь на стадии составления Начального свода. Его составитель, моделируя историю Русской земли по библейскому образцу, не мог не уподобить хазарского периода этой истории египетскому рабству Израиля»161.
Противоположной точки зрения придерживается археолог А.А. Комар: «В то же время наличие в Киеве признаков заселения в начала VIII в. – важный момент для хронологизации событий легендарной части летописи, повествующей, в частности, о полянской дани хазарам, ведь именно концом VII – первой третью VIII в. датируются два хазарских погребения из Геленовки и Журавлихи, исследованные к югу от Киева. Как минимум с этого периода летопись оперирует не легендой, а первыми историческими данными о судьбах древнего населения Киева»162.
Как вопрос о Русском каганате, так и вопрос о хазарской дани неизбежно вводит нас в круг весьма непростой проблематики русско-хазарских отношений. С одной стороны, ее сложность обусловлена объективным состоянием источников, их немногочисленностью и противоречивостью. Уже в случае с летописным известием о дани хазарам мечами мы видели существование у исследователей диаметрально противоположных мнений. Однако на эту неполноту источников накладываются другие факторы, еще более затрудняющие ее объективное рассмотрение. В книге «Битва у Варяжских столпов» мною уже было показано, что существование норманизма во многом обусловлено не научными, а идеологическими причинами. В неменьшей степени эти идеологические причины осложняют и рассмотрение русско-хазарских отношений. Сами по себе хазары были не лучше и не хуже других орд азиатских кочевников, в различное время обрушивавшихся на Европу. Однако в отличие от всех остальных кочевников впоследствии верхушка Хазарского каганата приняла иудаизм, что автоматически вводит взаимоотношения Руси с Хазарией в контекст гораздо более сложного вопроса русско-еврейских отношений. Острота хазарской проблематики оказалась обусловлена тем, что исповедовавшее иудаизм руководство каганата какое-то время брала дань с части восточнославянских племен. Соответственно, в зависимости от пристрастий отдельных авторов, Хазарский каганат изображался в черном цвете или, наоборот, в светлых тонах.
Идеализация его началась с В.В. Григорьева, который еще в XIX в. яркими красками рисовал такую идиллическую картину: «Необыкновенным явлением в Средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную, цветущую торговлю и постоянное войско. Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава Хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор ярко блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования»163. Крупный отечественный историк В.О. Ключевский писал: «Хозарское (так в тексте. – М.С.) иго было для днепровских славян не особенно тяжело и не страшно. Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хозар, были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам»164, где хазарская власть заботливо оберегала их от азиатских варваров. Бурное развитие капитализма, в котором еврейские капиталы сыграли далеко не последнюю роль, подспудно диктовало определенной части русского общества мысль, что самое главное – это экономическая выгода, ради которой вполне возможно поступиться и собственной независимостью, в утрате которой не было даже ничего особо страшного. Впоследствии, однако, вся эта гармония была безжалостно разрушено русами во времена Святослава. Нечего и говорить, что хазарофилы, как можно называть апологетов Хазарии, крайне негативно оценивали уничтожение каганата даже в советское время: «…разгром Хазарии имел и очень тяжелые для Руси последствия. Пала стена, сдерживавшая напор кочевников и мешавшая им широкой волной залить Черноморские степи…»165
Хоть капиталистический уклад был ликвидирован в СССР, однако под стремление всяческого возвеличивания роли Хазарии отдельными советскими историками была быстро подведена новая идеологическая база. М.И. Артамонов в 1936 г. объяснял отсутствие обобщающего труда по истории каганата не только объективным недостатком источников: «Причины отсутствия внимания к хазарам коренятся глубже – в узком национализме русской дворянско-буржуазной историографии. <…> Как было русскому шовинизму примириться с политическим и культурным преобладанием Хазарии, выступающей в качестве государства, почти равного по силе и политическому значению Византии и арабскому халифату в то время, как Русь еще только выходила на историческую арену и то в роли вассала Византийской империи. Как можно было допустить наличие у колониально эксплоатируемых царской империей народов своего славного прошлого». Дальше – больше: «Хоть Киевское государство и нельзя считать непосредственным продолжением Хазарского каганата… все же Хазарское государство нельзя не учесть как важнейшее условие образования Киевской Руси в тех конкретно-исторических формах, в какие это государство вылилось как в политическом, так и в культурном своем содержании»166. В своей последней статье, опубликованной уже после его смерти, он вообще заявил, что важнейшее направление славянского расселения на юг, приведшее к основанию будущей столицы Киевской Руси, произошло с милостливого согласия хазар: «Поскольку, как нам представляется, славяне овладели Средним Приднепровьем с согласия хазар и при их содействии, то, поселившись здесь, они оказались данниками Хазарского каганата. <…> Заселение славянами освобожденной от кутригуров лесостепной полосы происходило под эгидой хазар беспрепятственно»167. Едва ли необходимо говорить, что и это заявление является громкой декларацией, не имеющей под собой никакой основы в источниках. В.В. Седов отмечает, что археологически славяне фиксируются в Среднем Приднепровье уже в V в.168, то есть тогда, когда хазары вообще не представляли собой сколько-нибудь значительную силу не только в данном регионе, но и в Восточной Европе в целом. Далеко не всегда согласные с ним по другим вопросам И.О. Гавритухин и А.М. Оболенский также констатируют: «Мы присоединяемся к мнению большинства исследователей, которые считают, что население киевской культуры и его потомки – пеньковские и колочинские племена – в этническом отношении были славянами. Основным результатом исторических процессов конца IV – первой половины V в. на территории Днепровского Левобережья было, таким образом, освоение славянскими группировками наиболее плодородной его части – территории, ранее заселенной народами черняховской общности»169. Что же касается хазар, то даже последовательница М.И. Артамонов С.А. Плетнева констатирует: «Достаточно весомых и убедительных археологических доказательств пребывания хазар в степях в VII в. пока нет. Это был век аварского господства и праболгарского широкого освоения степных пространств Причерноморья и Крыма»170. Само продвижение хазар в Приднепровье эта исследовательница датирует VIII в., однако основывает свое мнение в том числе и на спорной этнической атрибутации Вознесенского комплекса, который одни специалисты считают славянским, другие – тюркским.
По сути, М.И. Артамонов не только воспроизвел, но и усилил утверждение В.О. Ключевского, сделанное им в его исследовании о боярской думе: «В то самое время, с конца VII в., на пространстве между Волгой и Днепром утвердилось владычество хозарской (так в тексте. – М.С.) орды, пришедшей по аварским следам. Славяне, только что начавшие устрояться на своем днепровском новоселье, подчинились этому владычеству. С тех пор как в Хозарию проникли торговые евреи и потом арабы, хозарская столица на устьях Волги стала сборным торговым пунктом, узлом живых и разносторонних промышленных сношений. Покровительствуемые на Волге и на степных дорогах к ней, как послушные данники хозар, днепровские славяне рано втянулись в эти обороты»171. Если эти утверждения делались В.О. Ключевским в 1902 г., то М.И. Артамонов повторял и усиливал их семьдесят лет спустя, насильственно подгоняя археологические факты под свои хазарофильские представления. Весьма показательно, что оба этих историка были не только хазарофилами, но норманистами. Родство обоих гипотез, в которых идеология господствовала над фактами, отметил в свое время еще Б.А. Рыбаков: «Хазарская теория происхождения русской государственности сочеталась с норманнской. Русские земли были поделены на “варяжскую группу” и “хазарскую группу”. Самостоятельному, внутреннему развитию славянских племен не оставалось места»172. Следует также добавить, что и другие археологи отнюдь не соглашаются со столь идиллической картиной славяно-хазарских отношений. Так, например, О.В. Сухобоков на основании своих археологических исследований славянского пограничья со степью в интересующий нас период отмечает прямо противоположное: «Находясь в сфере влияния Хазарского каганата, славянское население Левобережного Поднепровья и Подонья неизбежно отставало в своем развитии от других восточнославянских племен. Это нашло отражение в определенной архаичности древностей роменского и боршевского типов»173.
Однако такая мелочь, как несоответствие фактов их идеологическим построениям, не останавливала отечественных и зарубежных хазарофилов, во что бы то ни стало стремившихся отыскать «доказательства» благотворности хазарского господства для славян. Защитить Хазарию от «русского шовинизма» и «реабилитировать» ее историю в советское время взялся убежденный норманист М.И. Артамонов. В своем итоговом труде он так характеризовал первый этап (до принятия иудаизма) истории каганата: «Даже после падения Тюркского каганата хазары остались верны древнетюркским обычаям и также острой саблей и длинным копьем распространяли свою власть над соседними племенами и народами. Тем не менее в эту эпоху роль хазар в истории была прогрессивной. Они остановили натиск арабов, открыли двери византийской культуре, установили порядок и безопасность в прикаспийских и причерноморских степях, что дало мощный толчок для развития хозяйства этих стран и обусловило заселение славянами лесостепной полосы Восточной Европы»; «Итак, в первый период Хазарское господство для народов Восточной Европы было не обременительно, спасало от нападения злейших врагов – мусульман – и давало возможность личного обогащения…»; «На основании археологических данных можно заключить, что только со времени утверждения хазар в южной части нашей страны и под их прикрытием со стороны степей славянское население расселяется из исконных своих областей в лесах Среднего Поднепровья, Волыни и Подолии, в лесостепную полосу с ее черноземами»174. В другом месте этот археолог суммировал свои представления как о благотворности хазарского ига, так и свою веру в то, что хазары осознанно или нет были защитниками Европы: «Только с подчинением хазарам земледельческие славянские племена получили возможность занять лесостепную полосу Украины, куда их издавна манили тучные черноземы и где для их сельского хозяйства в целом открывались особенно благоприятные возможности при безопасности от грабительских нападений степняков. До IX в. никаких соперников в господстве над Северным Причерноморьем и примыкающими к нему лесостепными областями Поднепровья у хазар не было. Хазарское государство в течение по меньшей мере полутора столетий было полным хозяином южной половины Восточной Европы и представляло собою мощную плотину, запиравшую Урало-Каспийские ворота из Азии в Европу. В течение всего этого времени оно сдерживало натиск кочевников с востока»175. Однако гипотеза «щита», которым якобы Хазария была по отношению к восточным славянам, раскритиковал Б.А. Рыбаков: «Для того чтобы так оценивать итоги войн Святослава и предполагаемую роль каганата, нужно совершенно забыть о конкретных географических условиях южнорусских степей. Разве Саркел и другие хазарские города на Дону могли быть стеной, сдерживавшей печенегов? Саркел защищал только северокавказские степи, оставляя печенегам, уграм и болгарам всю прилегавшую к Руси степную полосу шириной в 300 км. За сто лет до разгрома Хазарии в этой полосе уже хозяйничали угры… Русь сама защищала себя от всех кочевников, в том числе, вероятно, и от хазар»176. С опорой на источники он показал «паразитарный характер государства, жившего преимущественно за счет транзитной торговли».
Зарубежные хазарофилы устами Н. Голба и О. Прицака провозгласили новую грандиозную историческую «истину» о том, что основатель Киева Кий с братьями, равно как и все поляне, были выходцами из Хазарского каганата: «Киев, расположенный на Днепре, был основан как город (вернее, как предполагали, серия городков) не ранее первой половины IX в. Этот факт засвидетельствован археологическими раскопками. К тому времени по Днепру проходила хазарская граница, и возможно, что Киев был первоначально хазарским гарнизонным городом. Постоянная хазарская армия (alʼarsiya), защищавшая западную и северные границы, была укомплектована мусульманами восточноиранского происхождения. Можно ожидать, таким образом, что этот элемент играл решающую роль в превращении пограничного поселения в торговый город»177. Поскольку в своем сочинении Масуди упомянул, что Ахмад бен Куйа был главой наемного мусульманского войска, укомплектованного выходцами из Хорезма, в Хазарском каганате, соавторы довольно логично предположили, что Куйа было имя его отца. Однако дальше пошла уже цепь ни на чем не основанных предположений: возможно, что в течение последнего десятилетия VIII в. и в первом десятилетии IX в. должность главы вооруженных сил Хазарского государства занимал Куйа; возможно, что именно Куйа укрепил крепость в Берестове и разместил там оногурский гарнизон. И из цепи этих предположений, подкрепленных превратным толкованием летописи, делается вывод: «Поэтому ничто не мешает нам полагать, что хорезмиец Кuуа, министр вооруженных сил Хазарии, послуживший прототипом Кия летописей, и был основателем (или строителем) Киевской крепости.
Таким образом, название Киева в его древнейшей неславянской форме с точки зрения лингвистики отражает его хорезмийское (восточноиранское) происхождение. Однако в культурном и политическом отношении оно должно быть признано хазарским (каварским и оногурским) элементом»178. Самое интересное заключается в том, что часть туземной интеллигенции с готовностью подхватила эту совершенно надуманную версию и стала пропагандировать ее в своих статьях.
У нас в стране после крушения СССР идиллическая картина экономического процветания славян под мудрым и необременительным господством иудеев пришлась в буквальном смысле ко двору, если вспомнить национальное происхождение значительной части российских олигархов в ельцинское время, в результате чего часть историков с энтузиазмом подняли на щит дореволюционные идеи. Так, например, начав свою статью с радостной констатации того, что «в последние годы открылись возможности для свободного изучения “экзогенных” факторов русской государственности», В.Я. Петрухин с готовностью подхватил высказывание В.О. Ключевского о том, что хазарское иго способствовало развитию экономики славян, и ни много ни мало объявил его «провидческим». Как это соотносится с известным к тому времени фактом экономической блокады Русской земли со стороны Хазарии, речь о которой пойдет далее, остается загадкой. Он же изо всех сил пытается подвести под свои норманистские и хазарофильские фантазии археологический материал: «Большие курганы Черниговщины, Черная могила и Гульбище, насыпанные с сооружением скандинавских традиций, содержали также “трофеи” – груды вооружения, спекшиеся на погребальном костре: ближайшие параллели такому обряду известны в салтовских – хазарских древностях (вплоть до упомянутых комплексов типа Вознесенки). В камерных гробницах и курганах с трупосожжениями всадников кони укладывались иногда не “по-скандинавски” (в ногах), а “по-кочевнически” (сбоку от хозяина). Древнейшей русью были восприняты многие традиции хазар и других степняков как в одежде, так и в декоративном искусстве, – но особенности обряда заставляют предполагать не просто внешнее влияние, а участие выходцев из степи в совершении дружинных обрядов и, стало быть, включение их в состав русской дружины, что было характерно и для XI в.»179. Этот норманист и хазарофил постулировал и «потребность собственно Руси в культурных достижениях еврейства», и то, что «летописный князь Владимир действительно уподобился Булану еврейско-хазарской переписки»180. Правда, даже В.Я. Петрухин был вынужден констатировать, что фантастическая гипотеза о Кие-Куйя, подвергнутая к тому времени критике другими учеными, «никак не согласуется с киевскими реалиями», но зато вслед за еврейским историком Г.М. Барацем старается обосновать еврейскую этимологию для брата Кия Хорива, утверждая, что имеющиеся обстоятельства позволяют предположить, «что имя “Хоревица” закрепилось за киевской горой в дохристианский период и было заимствовано славянскими жителями Киева у еврейско-хазарской общины, которая приурочивала легендарные топонимы к киевским реалиям»181.
Вернемся к широковещательным заявлениям М.И. Артамонова, в связи с которыми возникает закономерный вопрос: каких именно, по его мнению, «колониально эксплоатируемых царской империей народов» узконационалистическая русская дворянско-буржуазная историография лишала «своего славного прошлого»? Естественно предположить, что ими были хазары. Однако в русских летописях хазары последний раз упоминаются в 1083 г., а в иностранных источниках – в 1245 г., после чего этот народ окончательно исчезает из истории. Этого обстоятельства изучавший историю хазар М.И. Артамонов не мог не знать. Таким образом, колониальную эксплуатацию хазар вменить в вину Российской империи даже при всем желании не представляется возможным. Часть поволжских и кавказских народов, некогда входивших в состав каганата, продолжали существовать к началу ХХ в., однако период хазарского ига в их истории вряд ли можно считать их «славным прошлым». Поскольку происхождение от хазар крымских караимов и кавказских татов представлялось ему маловероятным, единственным оставшимся вариантом оказываются связанные с хазарами евреи. Подтверждает это предположение и то, что позднее, в своем главном труде о Хазарии, описывая Тмутаракань уже после включения ее в состав Древней Руси, М.И. Артамонов писал: «Можно допустить, что именно хазары держали в своих руках торговлю этого города, а вместе с тем, что в какой-то своей части они состояли из евреев, издавна обосновавшихся в нем и после принятия хазарами иудейской религии считавшихся хазарами»182. Уже в нашем столетии П.П. Толочко отмечал, что «международная торговля Хазарии находилась в руках трансэтнического еврейского торгового капитала»183. Вот его-то славу на самом деле и собрался воспеть М.И. Артамонов.
Как известно, собственная государственность у евреев была уничтожена еще Римом в античную эпоху, после чего этот народ был лишен собственного национального государства почти две тысячи лет. Подобное отличие от остальных народов ими переживалось достаточно остро. Понять эти чувства помогает письмо видного представителя еврейской общины в Испании Хасдая, бывшего сановником кордовского халифа, к хазарскому царю. По его словам, евреям после разрушения римлянами их царства и рассеяния их народа по другим странам неоднократно приходилось выслушивать от иноплеменников, что «у каждого народа есть (свое) царство, а о вас не вспоминают на земле». Как только он услышал о существовании могущественного иудейского царства, его «охватила радость, мои руки окрепли и надежда стала тверда». Аналогичное действие эта весть произвела и на других испанских евреев: «Когда они услыхали о моем господине (хазарском. – М.С.) царе, о мощи его царства и множестве его войск, они пришли в изумление. Через это мы подняли голову, наш дух ожил и наши руки окрепли. Царство моего господина стало для нас (оправданием), чтобы раскрыть (смело) уста. О, если бы эта весть получила еще большую силу, так как благодаря ей увеличится и наше возвышение! Благословен Господь, Бог Израиля, который не лишил нас заступника и не упразднил светоч и царство у колен израильских! Да живет наш господин, царь, вовек!» Не останавливаясь перед расходами, Хасдай решил проверить это известие, «чтобы (только) разыскать и узнать истину, (а именно) существует ли (где-либо) место, где имеется светоч и царство у израильской диаспоры и где не господствуют над ними и не управляют ими. Если бы я узнал, что то, что я слышал, верно, я бы пренебрег своим почетом и отказался от своего сана, оставил бы свою семью и пустился бы странствовать по горам и холмам, по морю и суше, пока не пришел бы к месту, где находится господин мой, царь, чтобы повидать его величие, его славу и высокое положение…»184 Возможность записать в свой актив большой и могущественный Хазарский каганат влекла, однако, не только средневековых евреев, но и симпатизирующих им историков последующих времен.
Движимый, по всей видимости, теми же чувствами, что и Хасдай, М.И. Артамонов осуществил свой замысел, написав фундаментальный труд по истории хазар с использованием всех известных на тот период письменных источников и археологических данных, немалая часть которых была собрана и, что самое главное, интерпретирована лично им. Как известно, могущество и слава любого государства во многом зависят от величины занимаемой им территории. Соответственно, хазарофилы стараются представить каганат как можно более обширной империей. Вопрос точного определения границ Хазарии объективно труден в силу того, что сколько-нибудь подробно они описываются только в одном документе – письме хазарского царя Иосифа. Он так описывает границы своих владений на Волге: «Вот их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис, В-н-н-тит, С-в-р, С-л-виюн. Каждый народ не поддается (точному) расследованию и им нет числа. Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуварезму (доходя) до Г-р-гана. Все, живущие по берегу (этого моря) на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне – С-м-н-д-р… С западной стороны – Ш-р-кил, С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суг-рай…»185 Буртас, первый упомянутый народ, мусульманские авторы помещают на Волге между булгарами и хазарами. Волжские булгары также одно время были вассалами Хазарии, однако уже в 922 г. принимают ислам, надеясь на поддержку своих новых единоверцев против каганата. С-вар традиционно понимается как Сувар, город волжских булгар, а арису – как эрзя. Упоминание черемис (ц-р-мис), которых знают только русские летописи, как признавал сам М.И. Артамонов, служит серьезным доводом в поддержку предположения о достаточно позднем возникновении пространной редакции письма Иосифа, благодаря которой в него могли внести те или иные добавления186. В В-н-н-тит, С-в-р, С-л-виюн видят название вятичей, северян и еще каких-то славян. На востоке, согласно утверждению Иосифа, его власть доходила до Хорезма и Гургана, то есть южного побережья Каспийского моря. Самандар – это древняя столица Хазарии на юге, локализуемая в современном Дагестане. Что касается Ш-р-кил, С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суг-рай – то это Саркел, возможно, Тамараха, Керчь и Судак. А.П. Новосельцев отмечает: «Пределы Хазарии на северо-западе из письма Иосифа сколько-нибудь ясно не вырисовываются. Упоминание Саркела, кажется, свидетельство того, что в середине Х в. это был пограничный город. Дальше на запад кочевали печенеги, которые, согласно трактату Константина Багрянородного, выглядят не только самостоятельными от хазар, но и одной из трех важнейших политических сил (другие – Русь и Венгрия) Восточной Европы. <…> Сложен вопрос и о восточной границе Хазарии. Царь Иосиф утверждает, что пределы его государства доходили до Хорезма и Гургана, но в это трудно поверить даже для более раннего времени. Ни один арабский или персидский источник не дает и намека на хазарскую власть не только в Гургане, но и в Хорезме»187. Таким образом, даже если оставить в стороне вопрос о подлинности еврейско-хазарской переписки и дополнений, вносимых в нее впоследствии, очевидно, что безоговорочно доверять хазарскому царю, стремившемуся изобразить себя как можно более могущественным правителем, нельзя. Кроме того, границы Хазарии едва ли оставались неизменными на протяжении столетий и, по всей видимости, менялись в зависимости от политической обстановки. Поскольку вопрос о границах Хазарии на северо-западе имеет весьма важное значение не только для локализации Русского каганата, но и для определения его исторической судьбы, остановимся на этом вопросе подробно.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу