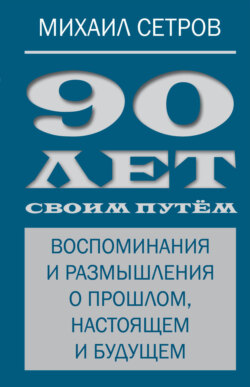Читать книгу 90 лет своим путём. Воспоминания и размышления о прошлом, настоящем и будущем - Михаил Сетров - Страница 6
Детство
Это что за остановка, Бологое иль Поповка…
ОглавлениеПосле смерти Фёдора Ивановича мои родители уехали в Ленинград, а я остался с бабушкой Натальей, матерью отца. Купив пополам со сводной сестрой в дачном посёлке Красный Бор под Ленинградом домик, родители приехали за мной. Жильё здесь было дорогим, и, чтобы расплатится с хозяевами, им пришлось продать дом как в Конечке, так и в Мысу. Поездка запомнилась лишь тем, что мне для развлечения в поезде была куплена большая коробка с открытками, которые я с интересом разглядывал и тасовал как карты. Открытки были красочными, но запомнилась из них лишь одна, чёрно-белая, с изображением берега моря, песчаного пляжа и вдоль него плотной стены лиственных деревьев. Берег был пустынен и в моих глазах представлялся далёким, таинственным и загадочным. Как потом я сумел прочитать её название – это была французская Ривьера.
Переезд с Варшавского вокзала на Московский через Ленинград я не запомнил, видимо просто потому, что спал на руках у отца. Но как тот рассеянный с улицы Бассейной, я бы мог спросить, проснувшись: это что за остановка, Бологое иль Поповка? «Поповка! Поповка!» – кричал кондуктор в вагоне, и мы поспешно выгрузились на перрон ставшей знаменитой благодаря Чуковскому станции Поповка. От неё до нашего нового дома по длиннющей улице, обсаженной высокими елями и потому, видимо, названной Зелёной, мы шли почти три километра. Но зато в каком прекрасном, просто уютном месте находился наш домик! Его адрес: дом 48, Васильевский проезд, Красноборского сельсовета, Тосненского района Ленинградской области.
Но что эти административно-технические названия и цифры значат по сравнению с реальной улицей, названной проездом, но по которой никто не ездит, и она в виде широкой насыпи, покрытой зелёным ковром травы-муравы, тянется на полтора километра вдоль такой же зелёной стены леса – бора, действительно Красного. Мачтовые сосны стоят как бронзовые свечи, осенённые зелёным пламенем могучих крон. Под ними тоже море зелени в виде зарослей молодого сосняка и берёзок. Это слева от дороги, если смотреть в сторону станции. Справа несколько домов, утопающих в садах, а уж в конце «проезда» официальные здания Красноборского сельсовета, в том числе здание библиотеки, больницы, милиции и – кинотеатр в здании бывшей каменной церкви. В другую сторону от нашего дома улица тянется недолго: справа три дома со своими садами и огородами, слева один большой двухэтажный деревянный дом, а за ним ограда небольшой, тоже деревянной церквушки с домиками священника и дьякона. В конце улица утыкается в другой проезд, соединяющий территорию раскинувшегося здесь большого совхоза с улицей Зелёной, которая выходит уже прямо на московское шоссе. Напротив нашего дома бор несколько «оттесняется» от Васильевского проезда двумя прудами – малым, что прямо за дорогой, и большим позади него, несколько слева. По существу, бор здесь заканчивался, упёршись в хозяйственные постройки совхоза, где возвышается высокая башня водокачки. Справа же от малого пруда небольшая зелёная горка – место наших будущих игрищ, как, впрочем, и весь этот бор.
Я и мой приёмный отец Иван Петрович Сетров, 1935 г.
Ольга Фёдоровна времён моего детства
С приездом к нам бабушек наша жизнь стала скудной, потому что зарплаты отца не хватало на проживание 5 человек. Нашей пищей действительно стали только «щи да каша», причём пустые: каша, приправленная только льняным маслом, а щи без мяса и какой-либо приправы. Молоко и даже творог со сметаной у нас появились на столе только после того, как мать привела из Мыса корову, находившуюся у добрых соседей. Корову мать вела пешим порядком (более 300 километров), и это было её подвигом для всей семьи. Вела она её, блуждая по лесам ивесям Псковщины и Ленинградской области, ночуя, где пришлось, и трясясь от страха, что корову отнимут, а её убьют. После этой «эпопеи» у неё стало болеть сердце, и я часто видел, как она пьёт валерьянку.
Нашу жизнь осложнял характер и поведение бабы Саши, которая не просто ссорилась с матерью, но бабушку Наталью даже била, когда родителей не было дома. Отец в эти дела не вмешивался, разбираться приходилось матери, после чего она опять пила валерьянку. Баба Саша считала корову своей, хотя кормить и доить её отказывалась. Но зато считала себя вправе определять, кому и сколько положено молока и сметаны в щах (меня, правда, она не обижала, и вообще я был её единственным любимцем в семье). Чтобы досадить дочери, она пилу и свой полушубок утопила в нашем маленьком пруду на дворе, что обнаружилось после его чистки. Для позорища дочери, несмотря на свою полную обеспеченность, стала с протянутой рукой просить копеечки прямо на перекрёстке Зелёной улицы. Мы, пацаны, без всякого сопротивления бабы Саши забирали у неё с ладони монеты, а потом бежали на станцию и в буфете пили газировку. Она считала себя очень верующей и часто бывала в церкви, куда таскала и меня. И даже познакомила с семьёй попа Игнатия, с дочерьми которого, моими одногодками, я играл в прятки. Она считала, что я некрещёный, и просила Игнатия меня окрестить. Тот отказался, поскольку, дескать, неизвестно, действительно ли я не крещён, да и родителей надо было спрашивать. Всё это продолжалось до тех пор, пока церковь не закрыли. Виновником оказалась склонность и слабость попа Игнатия к молодому поколению слабого пола – его застали с молодой певицей церковного хора прямо за аналоем. Церковь закрыли, а попа расстриг сам церковный Синод. Тут уж им некуда было деться – позорище было большим, тем более что муж певички от позора… повесился. Может быть, с тех пор я и стал сомневаться в боге.
А баба Саша всё продолжала дурить, и не скрывала своей радости, когда умерла от болезни лёгких наша бабушка Наталья. Отец был потрясён смертью матери и ходил сам не свой. И даже в этом стрессе ко мне совершил явную несправедливость – уж не помню, за что, но меня впервые отстегал ремнём. После похорон, видимо помня об этом, он, хотя и не прямо, извинялся передо мной, посадив на колени, всячески ласкал меня и называл своим петушком. С Александрой же становилось всё хуже: у неё явно «ехала крыша», что со злыми к концу жизни чаще всего и случается. Как-то она то ли притворилась больной, то ли действительно заболела – её отправили на соседнюю станцию Саблино в больницу. Но через день её привезли обратно на санях (дело было зимой) и сильно ругались: дескать, «что вы нам прислали сумасшедшую, она здорова и только безобразит». Однажды, глядя на бабу Сашу, я от удивления выпучил глаза: она сидела на корточках под столом и лакала из кошачьего блюдечка молоко. Вызвали психиатра, и тот отправил её в психиатрическую больницу, где она вскоре и умерла. Когда наша семья уменьшилась, в ней установились спокойствие и всё больший достаток, тем более что он рос и во всей стране. Вместо старой, мало дававшей молока коровы купили в совхозе молодую, огромную, с быка, корову немецкой породы. Её звали Машкой, и она давала молока аж 25 литров, но слишком жидкого, так что на рынке в Ленинграде, куда мать возила продавать молоко, его, как не соответствующее стандарту, продавать запрещали. Жирность молока должна была быть не меньше 3,2 %, ну а сейчас можно продавать любое снятое, т. е. фальсифицированное молоко, даже полуторапроцентное. Пришлось из этого обилия молока делать творог и сметану, и уж их сбывать, а для замены Машки купили тёлку, которую звали Мартой и которую я растил, кормя и выпасая.
В школу пошёл рано. Отец очень хотел, чтобы я скорее выучился на инженера (звания профессора у него и в мыслях не было), и потому, ссылаясь в дирекции на моё детдомовское прошлое, отправил меня в школу в 6 лет. Так что в школу зимой я ходил, волоча по снегу свой портфельчик. Читать отец меня научил ещё в дошкольное время. Любимыми моими журналами были «Мурзилка» и «Чиж» (они мне даже снились), а сперва их мне читала мать моих приятелей по соседнему дому, обрусевшая немка, выписывавшая эти журналы для своих мальчишек. Я до сих пор помню рассказ «Оранжевое горлышко» из «Чижа» о перепёлке с её цыплятами. Запомнилась и сказка о чудесном горшочке: я её впервые наизусть прочитал публике. Дело в том, что отец моих соседских приятелей Юры и Бориса дядя Федя работал в Ленинграде на хлебопекарном заводе, и однажды в какой-то праздник повёз нас в заводской клуб на концерт. После выступления артистов ведущий попросил находившихся в зале детей со сцены прочитать стихи или рассказать сказку. Я, тогда проявив не свойственную мне позже смелость, поднял руку и, взобравшись на сцену, лихо прочитал сказку о чудесном горшочке, который по тайному заклинанию варил вкусную кашу.
С чтением у меня ещё в дошкольное время было хорошо. А вот правописание в школе хромало, и оценка «хорошо» появилась очень нескоро; да почерк у меня и сейчас неразборчив. Учительницей в первом классе у нас была чопорная и очень строгая дама, одетая по традиции учительниц гимназии во всё чёрное, с зонтом-тростью. Мои одноклассники её не любили, а сосед по парте Колька на её замечания приходил в истерику и орал: «Ведьма, ведьма!» Вместо неё вскоре пришла молодая учительница, добрая и весёлая. Но запомнилась она только тем, что говорила мне: «Не морщи лоб – скоро состаришься!» Старости я тогда почему-то не боялся, а лоб морщу до сих пор.
Тогда же ко мне пришла первая настоящая любовь: среди всех девчонок класса я влюбился в одну ясноглазую девочку с чёрными косами, которые я уже дёргать не мог. При всей моей забывчивости имён и фамилий её имя и фамилию помню до сих пор: Галя Тарасенко. Что странно, так как моим идеалом красавицы была голубоглазая девушка-блондинка.
Это была почти платоническая любовь. До этого была и не платоническая. Здесь мне приходят на ум слова из песни А. Малинина «Леди Гамильтон»:
И была соседка Клава
Двадцати весёлых лет.
Тётки ахали «шалава!»,
Мужики глядели вслед.
На правах подсобной силы
Мог я глубже заглянуть,
Если Клавдия просила
Застегнуть чего-нибудь.
Моя «соседка Клава», сестра нашей общей подружки Вали, ко мне была более строга и жаловалась моим родителям: «Ваш Мишка, когда я сидела на горке, заглядывал мне за кофточку». Мать только хмурилась, а отец смеялся «Ну, парень! Далеко пойдёт». Я в этом отношении далеко не пошёл и с годами всё больше боялся девушек, хотя ими всегда интересовался. По поводу роста моего «эстетического» образования, по-видимому, сыграли ещё в школьные времена посещения театра, организованные директором нашей начальной школы. Нас бесплатно возили в Ленинград, где в театре Ленсовета мы смотрели сказку «Снежная королева» и «Сказки Пушкина». Моё впечатление было огромным, и я его до сих пор помню как наяву.
Между тем к нам приближалась война: в Испании началась гражданская война, и мы, хотя и в виде добровольцев, в ней участвовали. А мы все тогда бредили Испанией. Вот и отец мой, довольно равнодушный к политике, купил мне синюю пилотку с красной кисточкой впереди. Как-то незаметно прошла весть о смерти Надежды Константиновны Крупской, но взрослые всё же шутили, печаля нас, детей: конфет больше не будет. Дело в том, что одна из крупнейших кондитерских фабрик в Ленинграде была имени Крупской. Конфеты, хоть и не часто, мы продолжали получать (отец раз в месяц с получки приносил мне кулёк леденцов). Печаль, если бы мы только могли знать, была бы: умерла наша покровительница, настоявшая на законе об уголовном наказании за физическое наказание детей.
Совсем война приблизилась к нам, когда она началась с Финляндией. Хотя она шла рядом, но на нас никак не влияла: цены оставались прежними, и никого из знакомых в армию не мобилизовали. А вот Конечек она затронула: наш деревенский сосед Михаил Шматков был ранен в руку и стал инвалидом. Он тогда лежал в ленинградском госпитале и мать с отцом ездили к нему с подарками. Отец даже предложил госпиталю привезти свинью, но начальство от подарка отказалось: дескать, в этом нет необходимости.