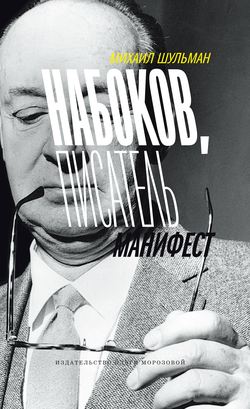Читать книгу Набоков, писатель, манифест - Михаил Шульман - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Безнадежность познания
ОглавлениеОтчего Набоков не хочет выдать нам свою тайну? Бережет ли он наш разум, как Фальтер, уклоняющийся от вопросов Синеусова? Или же он не желает довольствоваться компромиссом семи красок, предоставленных нам радугой – для описания райской птицы? И что значит “не вправе” – значит ли это “в состоянии”?
Как бы то ни было, явление набоковского ориентира предстает нам лишь контурами вытесняемого пространства, как воздушный пузырь в водной среде. Оно в конечном счете непознаваемо. Лишь по контактам с ним можно заключить что-то о его устроении – и только таким опосредованным образом познать его. Кажется, в физике такой объект называется “черным ящиком”. “Ваш покорный слуга никогда не умел одним проблеском выразить то, что может быть понято только непосредственно”[3]. Хотя проза Набокова обусловлена и определена этим отсутствующим в ней “структурным принципом”, как собранные на картине предметы – золотым светом, говорящим о закате невидимого и несомненного солнца, – это явление, эта тайна впрямую не выражается в прозе Набокова. Лишь через поэтику, через образы, через манеру его повествования просвечивает некое знание, дающееся нам в ощущениях, опосредованных догадках, эстетическом наслаждении – даже не в крыле истины, а в тенях от него. Редкие слова так часто и настойчиво повторялись Набоковым, как “тайна”, “таинственный”, “тень”; они, видимо, были в набоковском глоссарии однокоренными; автору этой работы не лень было сделать им перепись в третьей главе “Дара”[4]. Слово “тайна” тем и удобно Набокову, что звучит как пароль, как указание на опасность, – ничем не указывая на ее истинный характер.
В “Даре”, воссоздавая образ отца, Сирин-Чердынцев концентрическими кругами барражирует над этой “тайной” и, может быть, наиболее полно и панорамно ее определяет. “Я еще не все сказал; я подхожу к самому, может быть, главному, – предупреждает он с непреклонностью атлета, в облаке талька подступающего к рекордному весу. – В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговоренность <…>. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек, был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль, – и нет у меня способа объяснить то впечатление, когда я извне подсматривал сквозь окно кабинета, как, забыв работу (я в себе чувствовал, как он ее забыл, – словно провалилось или затихло что-то), слегка отвернув большую, умную голову от письменного стола и подперев ее кулаком, так что от щеки к виску поднималась широкая складка, он сидел с минуту неподвижно. Мне иногда кажется теперь, что, как знать, может быть, удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем, неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого и получалось то особое – и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, – в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи. И странно: может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения научившийся без помощи отца (научившего этому целый полк азиатских охотников) поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу <…>, именно он искренне и без всякого страха и удивления считавший, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав”.
3
Курсив Набокова.
4
три, девять, восемнадцать соответственно