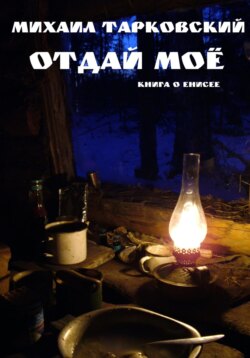Читать книгу Отдай моё - Михаил Тарковский - Страница 3
ОТДАЙ МОЁ
ГЛАВА II. ГУСИ-ЛЕБЕДИ
ОглавлениеГуси-Лебеди – Не-по хозяйски —
Почтарь Елизарыч. —
Папа и бабушка. – Крест. -
Отец приглашает Митю.
1.
Весной ездили на остров за гусями. Кропотливо продуманное Хромыхом предприятие напоминало разгадку загадки про волка, козу и капусту. Сначала на дюралевой лодке в три приема перевезли через заберегу на енисейный лед "буран", сани и долблёную лодку-ветку. Погрузили ветку на сани, подцепили к "бурану" и уехали к острову. Там снова переправлялись через заберегу, но ветка брала одного, и на ней уехал Митя, привязав к распорке конец шпагата, клубок которого держал, распуская, Хромых.
Словно сделанная из разрезанного вдоль веретена, остроносая и острохвостая и как скорлупка тонкостенная, ветка необыкновенна ходка и послушна, и так легка на переворот, что стрелять с неё можно только по ходу. Борта её для прочности распёрты рейками, или, как их зовут, порками. Гребут двупёрым деревянным веслом. Заехав носом на лед, Митя положил весло поперек бортов, прихватил вместе с поркой, чтоб при наклоне лодки весло уперлось в твёрдое. Выгрузившись, он отпустил ветку, и она тёмной утицей унеслась к Хромыху.
Остров уже вытаивает песками. Хромых в чёрных очках и грязном белом халате, похожий то ли на мясника, то ли на санитара из затрапезной больницы, расставляет фанерные профиля гусей и напевает:
Не спеши, мой маленький мальчик,
Нам надо очень медленно жить.
Всё готово, Митя сидит в снежном скрадке, перед ним голубовато-зеленый ледяной залив и на его краю серые крашеные профиля – как живые гуси, кажется вот-вот пойдут. Митя задумывается, взгляд блуждает по сторонам, а когда падает на профиля, сами собой дергаются руки с ружьём. Над белым Енисеем плывет расплавленный воздух, жидкое стекло, и если посмотреть в бинокль – волны крупные, одушевленные, необыкновенно деловитые, и кажется, будто вслед за птицами гонит весна на север какие-то бесконечные прозрачные стада. Клонит в сон, и вдруг налетают гуси, и Митя бьет дуплетом и мажет. Гуси шарахаются, взмыв и затрепетав крыльями, и отвалясь, уходят в сторону, Митя ревет медведем: "О-о-о, беда!" и ему кажется, что гусь, по которому стрелял, летит не так и вот-вот упадет. Второй табун налетает на Хромыха. Страшно хочется, чтоб тот промазал, но гусь после выстрела послушно складывает крылья и камнем падает на зернистый снег, взбив картинный фонтан. Лежит, подвернув голову – плотный, литой, восхитительно дикий, рыжелапый, перо серовато-бурое с каймой.
Костер на южном краю песчаного бугра. Раздувается ветер, свистя в голых тальниках, пылает нажаренное лицо, пепельные тальниковые ветви горят почти без пламени. Стволики как пробирки, набранные из стеклянных кубиков – удар ветра наливает в них ярчайшее красное вещество, которое так же легко выливается, чуть стихнет порыв. Вьётся крупный и плоский пепел. Скрипит песок на зубах. На газете сахар в пачке, чай, кусок красной волокнистой тушенки на ломте хлеба. В протоке звонко и протяжно орут лебеди.
– Этим бы только бакаланить! – Хромых открывает топором сгущенку, отвалив кругляшок крышки и облизав кончик лезвия, – а то некоторые сделают две дырки, и тя-янут резину.
Густая сгущенка медленно растворяется в крепком чаю. У Гены хорошее настроение, он рассказывает байки:
– У кержаков: из аэросаней веялка для ягод. Дед и парень. Дед: "Не туда сыпешь, туда надо". Пальцем показал и палец оттяпало, – рассказывает очень смешно, к развязке глаза все больше оживляются и прорывается неудержимый хохоток, – почтаря знашь у нас, Елизарыча? Артист – поискать. Баба у него уехала в отпуск с ребятишками. Ему недели через три это дело надоело – хозяйство, почта, все такое, короче, телеграмму ей отбил: "Гнездилов умер. Срочно приезжай". Уже не помню, как подписался. Я как раз на угоре стоял: она с теплохода с ребятишками подымается. В платке чёрном. Лица нет. К ограде подходит – там Елизарыч лыбится. Надо было её видеть: побелела, позеленела, и… тре-есть ему по рылу! Короче, заслужил. Бывало поддаст и дразнит ее: а ну зажарь-ка мне, зажарь мне… знашь кого – червяка!
– Что-то я спросить хотел, – сказал Митя, морщась.
– У меня бабка говорила: когда не можешь вспомнить – пошевели кочергой в печке.
– Это от отца у меня. Тоже, как забудет что-нибудь или потеряет – не успокоиться, пока не найдет… – Митя пошевелил в костре палкой – вот, шевелю, – не помогает.
– Плохо шевелишь… Это я у тебя давно спросить хотел. У тебя отец, чо правда уехал?
– Правда. В Британию – Митя произнес небрежно: "в Б – а -ританию".
– С концами?
– Ген, спроси, что полегче. Дай Бог, нет. Он же как в командировке.
– Не печатали что ли его?
– Да всё печатали! Не знаю. Маманя считает это Аллы происки, ну, жены этой… А по-моему сам решил.
– Дети-то у него есть еще? – глядя в костер, спросил Гена.
– Сын. Женечка, – Митя помолчал, закатывая палкой в костёр отскочивший уголек, – мать жалко. Она сама, как ребенок. Боится всего, то микробов, то грабителей…
Вода в задрожавшем чайнике вздыбилась белым туманом.
– Сначала ушел, потом уехал, – задумчиво сказал Гена, сняв чайник тальниковым крючком, – улететь осталось.
Потом молчали, потом Хромых долго рассказывал про конную почтовую службу, что была на Енисее ещё испокон веку и дожила до послевоенных времен. Поселки ещё исстари ставились на расстоянии двадцати-тридцати километров друг от друга и назывались "станками". Почту привозили из соседнего станка, принимали, перекладывали в другие сани, запрягали своих лошадей и везли дальше. В старину еще везли в Енисейск со всего Енисея, с самого Севера рыбу, обоз по пути собирал всё новые и новые подводы. Стерлядки тогда было в Енисее столько, что один раз ставили на яме сеть после ледостава, и она полностью была забита рыбой. Вместе с почтой, с рыбой отправляли с первым попавшимся посылки родным в Енисейск, и ни разу не было, чтоб посылка не дошла. Митя представлял обоз, идущий от Карского моря до Енисейска, сани, заваленные седой проколевшей рыбой – осетрами, чирами, нельмами, омулями, стерлядками. Каждый воз со своим богатством… Каменно-звонкие на морозе, в куржаке, как в щётке, кажется – ударь расколются, как драгоценный минерал, брызнут самоцветным мясом – красным, розовым, рыжим. Обозы шли под Новый год, в сильные морозы, и скрип приближающегося обоза был слышен за многие километры.
– Почта в кожаных сумах была, – продолжал Гена, – отец говорил, кожа отличная – на бродни! История есть, ну… как легенда семейная, про прадеда нашего, что ехал с почтой, и волки на него напали, он их шашкой порубил, и дальше едет. И снова волки, он за шашку хвать- а кровь-то не вытер, к ножнам и прихватило. Сожрали… Так, давай добирай тушенку.
Митя доел тушенку и положил банку в костер, а Хромых выудил её, и нагрев, дорастопив остатки жира, ополоснул круговым движением, вылил остатки жира на кусок хлеба и сказал:
– Вот так бы настоящий хозяин сделал.
Оба осоловев, распластались у костра на песке. Митя так и засопел в раскатанных до пахов сапогах, в толстой куртке, с капюшоном на голове. На лицо садился пепел, его обдавало дымом, жарило солнцем и холодило ветром, и оно было как балык. Засыпая, он чувствовал через пятки, как грубо, тяжело, гулко касаются сапоги земли, и от этой каблучной гулкости, казалось что ноги где-то далеко и теряются. Лежал он в одежде, как в коконе, только лицо в иллюминаторе капюшона холодил ветер, и оно было как намазанное спиртом, и казалось в полусне, так он открыт ветрам, пространствам, незримым в ту пору звёздам, что испаряется через своё лицо, что огромным и бесконечным небом его вытягивает из самого себя, как нарыв, заполняя покоем, вечностью, Богом. И вдруг он понял, что не спит, и ощущает себя необыковенно трезво и ясно, и знает что-то самое главное, чего не может пока вспомнить. Спокойно и ровно дыша, он засыпает, а проснувшись, открывает глаза и вспоминает: умереть надо во сне и с лицом открытым небу.
Бывает, когда давно знакомого человека назовут по имени, и оно вдруг покажется нелепым, не отражающим главного. Про Хромыха иногда думалось, что никакой он уже не охотник, что, забота за заботой, он все больше отдаляется от самой охоты, и давно уже бродит какой-то широкой округой жизни, в которой главное – стремление к её безотходности, родовая крестьянская жалось к труду, к усилиям, звучащая как, "добыть-то пол беды, а ты сохрани поди".
Митя хорошо помнил, как ходил с отцом в гости, и хозяйка, провожая их, походя вылила недопитые остатки водки в раковину, и Глазова буквально передернуло, он представил, что это видели помирающие с похмелья мужики. Вспоминая обидное замечание с тушенкой, Митя думал, что отец, наверное, так же сказал бы, и что дело даже не в жалости к труду, а в способности не зависимо от своей сытости и обогретости смотреть на происходящее глазами самого голодного, холодного и бедового.
Митя ни разу не видел отца с записной книжкой или пишущим за столом. Всегда он казался увлечен чем-то, не имеющим к писательству отношения. Да и не походил он ни на какого служителя Муз, скорее напоминал руководителя предприятия или разведчика из кинофильма – с квадратным лицом, высокий, долговязый, плечистый, размашистый в движениях. Носил металлические костюмы, полы его пиджака, рукава и брючины всегда развевались.
Любил перемещенья, и Митя хорошо это понимал. Раз сам вылетал из Москвы с очень высокой температурой, и, едва поднялись, что-то заходило, заструилось внутри, кровь побежала по-другому, до треска распирая голову и будто прокачивая болью, словно жизнь, творящаяся внизу, проносилась в ней в сжатом виде, и душа, перерабатывая расстояния, трудилась с нечеловеческой силой… Один полоумный художник рассказывал Мите, как на лужайку, где он писал этюд, подсела летающая тарелка и прокатила вокруг Луны. Конечно, пришельцы неспроста выбрали художника, как наиболее достойного, и все жаловались: "Нда-а, тяжелое у вас тут на Земле сознанье"… Особым правдоподобьем подкупал воздух в тарелке, ярко-зеленый на скорости. Что-то в этом было, и хотя в полете Митина душа не зеленела, но память цвет и яркость меняла точно, и прошлое озарялось в пронзительном и странном свете.
В Красноярске почти отлегло, но билетов на Север на было, Митя кинулся в портовский медпункт, где ему померили температуру и дали талон на подсадку. Пока брал билет, жар и вовсе спал, и глядя из самолета на высокое и будто выметенное небо, Митя восхищался, как ловко захватил хворь на излете, и как вылечила его дорога.
Быстро и увесисто садился отец в машину, уелозивался норовистыми движениями, будто отпечаток его крепкого тела оставался на месте и нужно было совпасть с ним, как с затвердевшей одеждой. Поворачивал ключ, требовательно вслушиваясь в ответ двигателя, покосившись в зеркало, включал передачу и трогался, быстро и легко сработав газом и сцеплением, и ехал, так же упруго работая педалями, и как лягушкой накачивая машину скоростью. О замене колодок отец говорил как о каком-то смешном и грустном условии игры.
Когда ездили с ночевками, Митя, проснувшись, некоторое время лежал, оживая, а отец вставал бодро и быстро, душа усаживалась в сильное тело уверенно, как в машину, и определяясь с местоположением, привычно стреляла в прошлое, как в зеркало, и цепко впивалось в дорогу, и так же как к машине относился Глазов к своей плоти – как к чему-то вспомогательному, несуразно бренному, и только до поры подлежащему ремонту.
Отец давно уже стал мечтой, небывалой остроты образом, фантастическим существом, отнятым как раз тогда, когда Митя начал дорастать до него. И то ли книги стали дорогими из-за того, что их отец написал, то ли отец по-новому открывался в книгах, но Митя перечитывал их каждый год, и они тоже открывались по-разному, будто были живые, и каждое прочтение, как кадр, заставало их в новом извороте. И никак отец с ними не вязался, и неувязка завораживала: как же, таким подробным был, настоящим, так бутерброд ел на кухне! И вот сначала рассказик, как ручеек, потом другой… десятый и вот уже целое море набралось, пока Митя школу домучивал.
Огромное, странное… Но еще более странным выглядел у его берегов отец, нелепо маленький, неумело озабоченный своими отношениями с этим вызывающе автономным водоемом, своими финансовыми и политическими претензиями, и лишней казалась его фигура, слишком живой и путающей карты. Мама так и представляла его у "синего моря" стариком из сказки о рыбаке и рыбке, а Аллу Викторовну – сварливой старухой, пытающейся настропалить его на новые, заморские выгоды.
Странно было смотреть на отца по телевидению, читать записи бесед с читателями. Дома или балагуристый или раздраженно-резкий, перед аудиторией бывал, как на духу серьезный, почти робкий, подвижнически-откровенный, и даже когда задавали глупый вопрос, поворачивал так, чтоб вскрылась самая сердцевина дела, а задавший выглядел умницей.
"Все оно так, но с гусями, похоже, отстрелялись", – думал Митя, косясь на сизые снеговые облака, выруливающие с северо-запада. К вечеру уже пластал северюга, и решив "ночевать до утра, а там по обстановке", залегли в гуще тальников, завернувшись в полиэтилен.
– Оно еще лучше – завтра как повалит оборотний! – бодро сказал Геннадий и захрапел.
Вместо "оборотнего" повалил снежище. Под утро хлопал и скрежетал задубевший полиэтилен, и путались в голове сны о бабушке, воспоминания об отце, разговоры с Хромыхом. Хромых говорил бабушкиными словами, смотрел отцовскими глазами, и всем троим было от него чего-то надо, и почему-то вертелись в голове бабушкины слова: "держи ноги в тепле, а голову в холоде". Митя выбрался из-под куртки и запалил костёр. Дул ветер, валил снег и орали в протоке непобедимые лебеди, а Митя орал Хромыху:
– Вставай, гусятник! Оборотнего проспишь!
2.
Тамара Сергеевна всего боялась. Боялась, когда Глазов тащил Митю в баню, боялась водки, курева, леса и девушек. Боялась микробов – уже с подачи бабушки, в сознании которой микроскоп произвел переворот – мелкий мир зажил, грозя заразой. Боялась воров, грабителей, и не от трусливости, а скорее от одиночества, от чувства какой-то вечной выпяченности на самый яр жизни, своей исключительной лакомости для опасности. Боялась цыган, карманников, вообще, любых мошенников, хотя сама принадлежала к тому типу людей, которые как раз больше всего на свете и любят, когда их дурят, обманывают или грабят. Сами подбивая на обман, они будто прогуливаются по рынку с торчащим кошельком, а потом, когда его наконец спирают, испытывают даже облегчение. И тайное торжество, и упоение святостью, и гордость, что хоть и видели, но не унизились, препятствуя. Мама покупала лотерейные билеты, ссужала деньги проходимцам, и вечно выглядела святой и наивной, и чем бездонней была глубина обмана и бессовестности, тем выше она оказывалась в собственных глазах. Так же попустительствовала она отцу, когда появилась Алла Викторовна, так же была святой, и наслаждалась своей прозорливостью, когда догадки оборачивались правдой.
При этом, где надо была и настойчивой, и упорной, и после отъезда отца, несмотря на плотную, выстроенную Аллой завесу, ухитрилась не только связаться по телефону, но и обмолвиться, что "Митя пишет", на что Глазов, хмыкнув, сказал, что-то вроде "ну, пусть пришлёт". Обо этом она написала Мите.
Если ждёшь, обязательно наждёшь отсрочку, и обязательно ближе к весне станут невыносимей просторы, пустынней небо, и неразличимей в нем почтовый самолёт, раз в неделю пролетающий мимо Дальнего в Лебедь. Митя напечатал на машинке рассказы. Расслоив цементный мешок, добыл грубой бумаги, скроил конверт, заклеил рыбьим клеем, отвез письмо в Лебедь и стал считать: две недели до Москвы, неделя маме на раскачку, две недели до отца, в общем на всё клади два месяца.
Письмо представлялось чем- то одушевленно-неуправляемым, вроде школьника, которого сняв с уроков, послали по делу, и он старается побольше пошляться. А не дай Бог, конверт протрётся по краю! Беззащитней начинки только спавший в поезде в купе, вытряхнутый посреди вокзала. А вдруг кто-то прочтёт, украдёт. Или почтальон в городе напутает. Митя видел такие заблудшие письма, одно, помнится, всё стояло в подъезде на ящиках, потом валялось на полу, и он думал: вот безобразие, и знал, что надо отнести по адресу, но шёл балбесничать с приятелем. Ещё казалось, что письмо лежит сейчас где-то в отделении, и это лежание было ужасней всего – лучше б на конях ползло.
Почтой управлял тот самый запойный Елизарыч, который посылал телеграмму, что помер. Как подумаешь, сколько горя и несуразностей проходит через бедные головы таких почтарей, так и поймешь, отчего они такие запойные. Похороны, разводы, измены, пропажи людей, болезни, слёзные просьбы выслать денег, мольбы "вернись – прощу" – чего только не бывает в телеграммах, а уж о письмах, в которые редкий почтарь со скуки не заглянет – и говорить нечего. Вся деревня то ли голая, то ли на исповеди, всё известно, чего бы век не знать.
На трезвяк Елизарыч бывал неестественно сосредоточенный, раздраженный, весь гудящий мелким трясом, как аппарат-сварочник – того гляди заискрит. С очками на носу дотошно разбирает квитанции, и так подавляет непривычного посетителя, что тот думает: «Или вошел не так, или ещё чем провинился».
В один прекрасный день, не выдержав ожиданья, Митя поехал в Лебедь, но провозился по дороге с "бураном" и опоздав к почте, постучал к Елизарычу с другой, жилой половины.
– Елизарыч, здорово! Была почта?
– Была! Заходи, – блестящий рот, под щекой живой желвак закуски, раздражённая скороговорка, – никаких! Давай-давай-давай!
– Есть там письма?
– Все есть! Давай-давай-давай по сотке! Я тебе щас таких историй нарасскажу! – выпив, почтарь вместо "стопки" говорил "сотка", а Митю звал Толей. Торопливость сменил приступ капитальности:
– Щас как сядем! Как по-го-во-рим! – каждый слог подтверждался увесистыми движениями кулака, причем Елизарыч только обозначил новое направление, и тут же затянул ещё по-новому – с певучим бабьим сожалением:
– А я виноват перед тобо-ой, Толя-я-а… Не знай, как теперь и оправдыватьс-я-я-а…
– Да что такое? – насторожился Митя.
– Письмо-то только сёдни ушло.
– Ой-йой-йой! – У Мити сердце оборвалось. Елизарыч спохватился:
– Давай-давай-давай! По сотке! Но, молодец! Й-э-эххх! – затараторил он, и, сменив передачу, завел зачеканно и по-былинному грозно и отчетливо: – Мо-ло-дец! Выгора-живашь, конечно, Генку-то, но кра-се-е-во! Слушай, мы щас ка-ак по-си-дим, я тебе такие истории расскажу. Я сам писатель – сколько со мной всего было! О-о-о, парень! – Митя насторожился, а почтарь снова зачастил: – олени! Две-надцать штук одних токо оленей! – кричал, он ударяя в слове "оленей" на последний слог, – на Сборной, речка у нас тут. Выходят на реку, а там наледь сначала, а потом лёд. Гладкий – хоть боком катись. Мороз ранний, а снега нет. А у них после наледи-то копыт-тья обмерзли все, а они на лёд выбегают. Чо делать, у меня один патрон, и тот дробовой. Ага. Я как пальну вверх – у них от страха ноги: жжуххх – в разные стороны! Они: хре-е-нак! Об лёд всем табуном! И веришь-ли, Толя? Порвались! – взвизгнул почтарь, – можешь себе представить!
– Как порвались?
– Так! Связки грудные порвались! Двенадцать штук оленей – весь день обдирал! За-дол-бал-ся! – в виде передышки отчеканил по слогам Елизарыч, и снова погнал:
– Толя, ты такой страмной пакет изладил, в клею весь устряпанный, я велел Лариске в путний переложить. Она как увидала – взялась читать, а потом Гранька уташшила, и такое началось, еле отняли на нижнем конце, у Басенького.
Обычно сидели на кухне. Елизарыч то размахивал руками, то тяжелел, но тут же с волевым хрустом прямился и возвращался к разговору: "Ну и веришь ли, Толя, стою я с карабином"… Потом еще пил, а под занавес, на него, будто на рыбину под осень, находил жор.
–Лариска! Дай нам поись! – говорил Елизарыч, и мрачная Лариска брякала тарелки, вываливала в них закуску, и он набрасывался на уху, картошку, налима, капусту, уминал все это, запивая стопарями, перекладывая, пропитывая водкой, отрезал хлеба, тут же ножом, как мастерком вмазывал в рот максу, и уже думая, как рухнет, мечтал об этом, как о дальней и долгожданной дороге.
Грузил себя, как состав, поручая желудку переваривать, крови развозить питание по телу, снаряжал как снаряд, как поезд, которому верит, который сам домчит, и чем плотнее загрузить, тем дальше. Как любовью северянина страшно любил, прикорнув в лодке, сплавиться по течению, использовать даровую силу воды, так и по времени себя сплавлял. Грузил, как в удачно подвернувшийся транспорт – помидор маринованый подвернулся – вали его, торта старого домашнего кусок – туда его, чаю – значит чаю, брага в банке бултыхается – туда её. Всё пойдет. Всё сгорит. Так заряжал себя, а потом резко говорил: " Всё!", и уже готовая на подхвате Лариска помогала ему рухнуть в комнате.
В ожидании маминого ответа, Митя ездил с Хромыхом лечить зубы в Камень, большой поселок в часе лету. Возвращались вместе с Елизарычем, везшим брезентовый, запечатаный сургучом, мешок с почтой и пару обшитых посылок. Почему-то не удавалось вылететь, то ли мест не было, то ли погоды. Летел экспедишный вертолёт, перегруженная "восьмерка", но брали только одного, и отправили Елизарыча, а когда прилетели дня через два на самолете в деревню, у дверей стояла встрепанная Лариска.
– Почта где? – спросила она, отождествляя с почтой и Елизарыча, как некую казённую собственность, на что стокилограммовый бортмеханик бросил, выпятив брюхо:
– Подержи арбуз!
– Ково? – не поняла Лариска, и все спрашивала потом: – и чо бортмешок про арбуз-то намякивал?
На следующий день Елизарыча привезли на вертолёте с северо-востока. Оказалось, в Лебедь его обещали завести только на обратном пути после посадки на буровой на Аяхте, но с Аяхты полетели за какой-то штангой в Туруханск, а откуда их отрядили в Дигали. Из Дигалей они повезли на подвеске дизель, причем как на зло раздулся северище, подвеску стало раскачивать, и они едва не сбросили её в болотину, и вернулись. Ждали погоды, пили в Дигалях, и потом еще болтались дня три над горами, тайгой и тундряками, в то время как обезумевшая Лариска и почтовые начальники искали пропавшего Елизарыча, в котором, взбрызнутые спиртом, вызревали, обрастая фантастическими подробностями новые страницы его приключений. В вертолёте Елизарыч мертво спал в обнимку с мешком. В мешке было письмо от мамы.
Мама писала о чём угодно, и Митя лишь в конце наткнулся на нужное: передать отцу то, что он просит, невозможно. В изощренной системе намеков было зашифровано, что она забоялась контрразведки. Митя был вне себя от бешенства: «Дел у них нет кроме моей писанины!»
В Дальний он вернулся с настроем на прежнюю, проверенную жизнь, по недоразумению и в суете забытую. Никаких писем, никакого ожидания. Точить топоры и цепи. Жилье, инструменты – всё безжизненное, жалкое, словно сдутая камера – надуть, оживить, чтобы расправилось, стало таким же важным, как и раньше.
Возил сухие дрова с гари. Дело считалось хорошим: одно – в Енисее лес ловить, мотор гробить, плавить плот, смотреть чтоб ветром не разбило, проверять, пока обсохнет. Потом пилить – по песку цепи сохатить, ломом бревна ворочать. Потом возить из-под угора. А другое – прямо у дома на снегу распилил – и пила не греется, и цепь хорошо идет, смазываясь талой водичкой. Снег зернистый, синий, хватишь вентилятором, и летит брызгами из-под кожуха.
Белая, полная света, даль в конце зимы, бесконечный приполярный день, высокий яр со снежными проплешинами – всё дышит ветром, простором, налетает, промывает глаза, легкие. Митя колет дрова, собирает сухие кедровые поленья, лёгкие, как пробка. Прижимает их к груди, одно вываливается, убегает: какие они тёплые, как щенки!
Ближе к весне, к распутице, когда отпустит снег и не привезёшь воды, Митя запасал лёд, раскапывая на Енисее торосы, еле торчащие из снега. Верхние пластины были оплавленные солнцем, набравшие воздуха, белесые и пористые, но ниже под ними он расчищал наконец тёмную жилу – драгоценную дымчатую синь, колол на кристальные куски и складывал в сани.
Возле дома разметалось целое хозяйственное побоище. Серые без коры кедровые стволы с розовыми торцами, щепки, чурки и поленья кучей, и тут же сани со льдом, кускасто блестящим на солнце, и потухший матовый лед в бочке. И, казалось, если и есть в жизни великая и единственная правда – то она в этих кусках дерева и воды, в этой угловатой и грубой материи, готовой, обогрев и напоив, переплавиться в текучие тепло и влагу, и хотелось одного – служить этой правде, не рассуждая.
Проехал старовер и дал пару кругов мороженного молока, и оно тоже кололось, и скол был неправильным и стеклянным. Митя свалил на топорище берёзу, распилил на метровые кряжики, и когда привез к дому, на мерзлых спилах в самом яблочке мокро темнела влага, замерзая блестящим и выпуклым кругляшом, и было что-то пронзительное в том, что морозяка давит во всю, а берёза уже сочит оживающей сердцевиной.
Лишь подкопилось в душе на новые рассказы, снова засел, и перечитав, как прозрел. Понял, что впервые вышло, потому что не о себе стал писать, а в другого научился перекатываться тугим шаром, каплей перетекать, и, забыв себя, его накачивать, развивать, но не своим, а евоным, чужим, тем, с чем сам не согласен, что самому не по силам. «Да… шире ходить надо, не плестись подле себя, а уж уйти, как раствориться… и уже складывался письмо маме – спокойное, благодарное, что, спасибо, удержала тогда от спешки, а ведь и сейчас за ту писанину сквозь землю готов провалиться, как представлю отца, аж дурно», – думал Митя, не ведая сколько еще таких "прозрений" на пути.
Изредка наезжал в Лебедь. Елизарыч был через раз то раскаленный водкой, светящийся, то серый и отвердевший, как новый топор. Накал минувшей гулянки определялся по звону, дребезгу голоса, каким он передавал телеграммы. Они уходили в район и принимались по рации, и нередко из-за плохого прохождения перевирались до неузноваемости. А иногда хватало смеха и без перевирания. В Дальний приезжал профессор-флорист, собиравший гербарии из укосов, производимых на специальных огороженных площадках. Жил он у тети Лиды. Среди рабочих реликвий была у него старинная бабка для отбивания косы, прошедшая с ним двадцать лет по экспедициям. Из-за суеты с вертолётом он забыл её в листвяжной чурке и забросал Дальний телеграммами: "Срочно приберите бабку". Студенты дохли со смеху, а тетя Лида возмущенно плевалась: "Бог приберет! Бесстызая роза!"
3.
Митя не любил людей, что со знанием дела говорят: "– Да, что вы? Будет война (или инфляция), обязательно, можете не сомневаться", будто поджилками силу чуют и хотят примазаться. Новость о болезни отца он воспринял как проявление чего-то подобного, как сплетню, слабость, гнилоту, мол, сами дохлые и его тянете. Не хотел верить, не хотел слышать, хотя Глазов был не просто болен, а болен серьезно, и слышать приходилось. Все дела, дрова, планы будто рухнули, башку как выдуло… Первая мысль, прошмыгнувшая в зазиявшую пустоту раньше его самого, была – а вдруг, не дай Бог… Вдруг не успею…
– Это кто это не успеет! – вспотел, и навсегда даванул извивающуюся, дезертирскую мыслишку, так что хрустнула: никаких рассказиков в посылках, никакой спешки, никакой паники. Поправится. Поправится и всё прочитает. А пока молчать, молиться о здравии и работать.
Но работалось далеко не всегда. И даль Енисея не всегда была напитана солнцем, и снег постылел, и зачитанные до дыр отцовские книги вдруг казались странными, чужими, как бывает, когда слишком пристально смотришь. И всё чаще не давало покоя: в раннем детстве отец казался взрослым, сложившимся, неподвижным, а на самом деле у него только всё интересное начиналось, да вот продолжилось где-то на стороне, уже без Мити и без мамы. А так хотелось, чтоб растил он свои книги вокруг чего-то семейно-общего и единственного, а он взял, да и вышагнул из их тепла к своему будущему и никого не взял в дорогу. И ведь при Мите всё брезжило, рядом, в двух шагах… Он так и думал – папина трубка, ножик: брать нельзя, а тоже моё, и даже вдвойне, накрепко, раз запретом опечатано, а отцовское будущее только Женечка мог потрогать. Оно, конечно, тоже его, но уже на общих правах, и потому может и дороже, как выстоенный в очереди билет против дарового. На общих правах оно даже как-то и честнее… и вкуснее. С голодухи. Ничего… У меня тоже теперь заливчик имеется – маленький, но свой, и вода в нем чистая, потому что енисейная. Скоро попробует – скажет… Хотя это только с виду у каждого море свое…
Помнится, когда пришли с бабушкой поздравить с днем рожденья, в прихожую выбежал Дик, здоровенный водолазина, и Митя, тертый лесовик – не в пример некоторым тепличным – спросил небрежно: " Кобеля-то вязали уже?" Женечка выпросительно посмотрел на отца, а тот объяснил с улыбочкой, что, видишь ли, Женя, собаки тоже, как дяди и тети, женятся. Пока накрывался стол, прошли в кабинет, где Евгений Михайлович, выслушав бабушкин отчет о Митиных птичьих увлечениях, обратился к Жене, пригревшемуся, прилегшему на стол, и с любопытством изучавшего бабушку. В продолжение какого-то застарелого разговора, Глазов сказал, мол, смотри: Митя, уже знает, что хочет, конечно, неказистый с виду выбор, но свой, так что, милостивый государь, пример надо брать.
Как-то раз маленький Митя, чуя неладное, спросил дядю Игоря, почему это сосед Сашка так похож на своего отца, "такой же толстый?" И тот, оживившись, ответил, что и мама у них толстая, и собака, "а кошара – ну прямо дирижабль" – дескать, когда люди долго живут вместе, то и становятся похожими друг на друга". Только Бабушка Вера Ивановна не вела с Митей лицемерных разговоров, и когда прижал ее, откуда берутся дети, она так сумрачно брякнула все почти как есть, что стало стыдно.
Но "недетские" вопросы показались детскими, когда Митя спросил: "Что значит "Душу мне развеять от тоски?" Бабушка смешалась, отмахнулась, то ли побоявшись слов не найти, то ли себя испугавшись, и вдруг поняв, что пора, однажды летом пустила по Митиной душе Чехова и Толстого, читая вслух и пробивая в ней себе дорогу, как пехоте.
Митя поражался её способности жить чужим. Она так верила в существование князя Андрея, княжны Марьи, что её участие становилось едва не солью книги. При словах "князь Андрей умер" голос её дрожал, с Долоховым Митя подозревал какой-то гимназический роман, а с Кутузовым была просто беда. Судила она так же строго, как и любила, и было обидно за толстовских слабачков и посредственностей, тем более, что гусар Ростов Мите нравился гораздо больше размазни-Пьера.
Митина семья долго жила без телевизора. "Только глаза портить," – фыркала бабушка, гордясь, что Митя узнал "Войну и мир" до появления кинофильма. Они жарко обсуждали, такой Пьер в фильме или не такой, а в Дальнем оказалось, что Элен не такая даже у Толстого, её неожиданная черноглазость была как удар.
Сколько в бабушкином «такой-не такой» было страха за свою любовь, сколько ревности, стыда перед Толстым, что кто-то нетонкий прикоснется к родному, увидит проще, грубее. Отцу же, который сам не описывал внешность героев, нравилось, что каждый по-своему представляет Наташу и Долохова, потому, что, как убеждал он бабушку, чем богаче слой прочтений, тем мощнее, крепче за Толстого, и спокойней, что все хоть и представляют героев по-разному, а любят за одно.
Когда стал постарше, спросил бабушку, почему у деда другая семья, "что, разве не любил её дедушка", и она ответила: "Сначала любил, потом перестал", тем же голосом, как Хромых сказал "сначала ушел, потом уехал". Но такие вопросы слетало с языка всё реже, и будто против его воли, всякий раз вызывая чувство потери, как в сказке, когда тратят запас волшебства. Вот и приходилось быть настороже, а пуще боялся сам оказаться уличённым в чем-то лирическом, личном. Не выносил походы с бабушкой на фильмы с любовными или военными сценами, топтание в музее перед кровавыми картинами или обнаженными статуями – было непонятно, как бабушка выдерживает такую концентрацию крови и плоти. Да и вообще, как она жива, когда столько в ней перепахано – целое поле. Которое, чуть ветерок, неосторожное слово – зашумит, заволнуется, заходит ходуном, и подхватив тебя, понесет вдаль, туда, где деревни, леса, да болота, и густым, предосенней пробы, золотом горят на закате сосны. Каждый вечер, возвращаясь с реки, они останавливались и оборачивались. На траве и на поле сыро лежала тень, и только пылали сосны, а они смотрели на этот жгучий, горький свет, и Митя знал, что такая вот она и есть – тоска, хоть вёдра подставляй, и пусть ему восемь, а бабушке пятьдесят лет – сеет насквозь, не жалея.
В старших классах Митя занимался в кружке при зоомузее, выезжал на выходные за город, но остальное время шлялся с гитарой и приятелями по улицам. Учился плохо. Бабушка тайком ходила в школу, а на уроке учительница раздраженно выговаривала Мите:
– Спишь, Глазов! Опять бабушка будет приходить четверку вымаливать.
Класс смеялся, а собрании родителей Вера Ивановна заводила: "Как Вы думаете, его не испортят?", и все это обсуждалось между родителями и школьниками, и его товарищ, крепыш, горнолыжник и гитарист, лыбясь, цитировал бабушкино описание Митиного отъезда в лес: "Х-хе, мешок на себя навьючит".
После провала на зоологический факультет Митя год работал и, купив на одну из первых зарплат купил магнитофон, переписывал плёнки, и особенно много слушал одного хриплоголосника. Дядька хрипел так, будто не мог откашляться, будто за короткую жизнь такой гадости набрал, что всё пытались выпеть её, выкричать, а она всё булькала, хлюпала в горле, пока он, так и не прооравшись, не погиб от водки и духоты. Бабушка его на дух не принимала:
– Орет, как пьяный мужик.
Песня называлась "Разведка боем": разведчик набирает группу в разведку, и ему не нравится малый из второго батальона, но потом, оказывается, что паренёк, которого он не совсем знает, "очень хорошо себя ведет". Бабушка всё слышала, делая вид, что занята, а после слов:
С кем обратно идти, где Борисов, где Леонов?
И парнишка затих из второго батальона
вытерла глаза и быстро вышла из комнаты.
Митя сам что-то сипел под восьмёрку, и досипелся до своей самодельной песенки, которую спел по телефону подружке. Трубка лежала перед гитарой, и он не знал, что на кухне бабушка сняла вторую. В песне он кого-то догонял, то ли девушку, то ли осень, то ли обеих в одном лице, и причем ночью и на очень мощной машине. После слов:
«И снежинки, пьяные от света,
Насмерть разбивались о стекло.»
– вошла бабушка с блестящими глазами, сказав что-то хриплое, а он покраснел как рак, и выбежал на улицу.
Однажды Митя крепко нарезался со старшими товарищами-студентами. Пили в стекляшке пиво, сухое и портвейн в скверике, не жрали, с кем-то корешились, а потом компания рассосалась, и он поплелся домой. Еле дойдя, буянил, а едва залег, его затошнило. Тамара Сергеевна и Вера Ивановна, с которой он спал в одной комнате, носили таз. Упреждая упреки, орал что-то безобразное и косноязычное. Потом рухнул. А однажды утром бабушку разбило. Попойка и бабушкин паралич были главными событиями той поры, и то ли памяти не за что было между ними зацепиться, то ли жизнь слишком неслась, но время между пьянкой и бабушкиным инсультом сжалось в одну ночь и навсегда запомнилось, впечаталось, что вот вечером он буянил, а утром бабушка уже лежала парализованная его криками, рвотой, капризностью скотины, требующей облегчения… Вся его трепетная отдельность, нежелание тревожить близких переживаниями – все рассыпалось, разлетелось по комнате брызгами рвоты, которые ранним утром он счищал с лака своей гитары, а бабушка лежала рядом, виновато улыбаясь половиной лица. Через год она умерла. А через пару лет Евгений Михайлович уехал в Ливерпуль, где у него образовался контракт с британским телевидением.
4.
Тогда у Елизарыча Лариска пыталась уложить Митю на кушетку, но Елизарыч заранее кинул ему старый собачий спальник, на котором он с удовольствием растянулся.
Приснилась бабушкина смерть. Все сидят на кухне, и вдруг бабушке становится плохо, вызывают скорую, и бабушка уже внизу, на улице лежит на какой-то кровати и санитар кричит им вверх, что она умерла, а они с мамой сидят, как приклеенные. Бабушка в Митиных снах умирала не однажды и всегда по-разному, и Митя от одного ожидания, что горе вот-вот навалится колесом, глубже прорежет душу по старой ране, готов был спятить, а бабушка оставалась наивно-спокойной и всегда умирала, как впервые.
И вот от этой её наивности ещё сильнее душит горе, хочется плакать, но слёз нет, нечем дышать, и он просыпается от приступа астмы. Озираясь, он видит свет в приоткрытой двери, какой-то рыжий глазок, оказавшийся плиткой, и все крутится под ним пол, или он сам крутится в незнакомой полутьме, пока не замирает, как стрелка, покачавшись в стороны, и не узнает кухню почтаря. Он встает, чувствует на лице и шее трухлявый собачий ворс и садится на табуретку у стола.
Сон теряет краски, и скорбь, как рыбина на воздухе, тоже выцветает, лишаясь силы, а он не хочет отпускать своего горя, своей любви, своей гаснущей близости к бабушке, и взяв со стола налитую стопку, выходит с ней под звезды, и долго дышит сквозь маленькую дырочку в отекших бронхах, пока её не начинает протачивать морозным воздухом.
И думает о том, что копии с воспоминаний должны бы тускнеть, образ с годами – забываться, а он только набирает силу, настаиваясь на снах, и чем дальше, тем ярче, обещая под конец дойти и вовсе до живой крепости, словно бабушка, отчаившись догнать его из прошлого, пробиватся к нему с другой стороны.
Митя поднимает мерцающую стопку к небу, долго глядит сквозь густую и горькую водку на любимую бабушкину Кассиопею и этим звёздным настоем поминает бабушку так светло и горячо, как только бывает в жизни.
5.
Раньше Митя себя считал самой главной и устойчивой частью жизни, а время – чем-то зыбким и суетливо сквозь него скользящим, теперь же единственно главным и извечным стал загнутый в прозрачное колесо оборот енисейского года, на который человек лишь наматывался, и на сколько витков хватит, одному Богу известно. Если раньше время мерялось часами или неделями, то теперь – только скрипом льда в берегах, непосильным трудом по замораживанию и размораживанию рек, перелётом птиц и шорохом ветра, всё будто поправляющего, одергивающего и переставляющего что-то вокруг дома.
По сравнению со всем этим начальственные выходки Поднебенного, то норовящего под страхом увольнения вызвать в командировку в разгар осени, то шлющего бессмысленные телеграммы, вроде: "пролонгируйте закрепление электростанции Глазовым", казались смешной и мелкой возней, а сам Поднебенный – несуразной и назойливой помехой, чье краткое присутствие еле терпелось. Каждое лето вокруг поселка терлась подозрительная публика, то какой-то хитрец-палаточник из Москвы, то списанный капитан, то дальний, липовый и одноглазый родственник тети Лиды по кличке Пусто-Один, все обхаживали Поднебенного и, предлагая услуги, рвались на работу в Дальний – место было безлюдное и во всех смыслах превосходное. Начальник сиял:
– Дима, не забыли, что скоро договор кончается? На твое место, хэ-хэ, очередь уже!
Наука давалась со скрипом. Дальше учетов и отчетов дело не шло. Мефодий требовал мыслей и понимания направления, а Митя в направлении не видел ничего, кроме превращения живых птиц в колонки цифр. Не было большего страдания, чем вымучивать статью – чувствовал себя школьником на сочинении про фамусовское общество, когда герои как живые, а про" социальную роль" двух слов не связать.
Сами учеты Митя любил, ходил и ездил почти каждый день, и все у него было почти как у Хромыха, так же грел "буран", поигрывая подсосом, так же накрывал брезентом, перевалив Енисей, и нацепив камусные лыжи, ломился в гору. И так же напряженно стоял посреди тайги, освободив из-под шапки ухо, только Хромых собак, а он позывки клестов и поползней. В теплую ватную погоду, оглушенная снегопадам, тайга молчала, копя силы и про себя попискивая синицами, а в мороз взрывалась звоном проколевших глоток. Ниоткуда взявшихся щуров, казалось, на глазах вымораживало из каленого воздуха. Похожие на клестов, только еще крупнее и туже, они сидели на вершине высокой и стылой листвени, медно-красные в лучах низкого солнца, а в полёте перекликались протяжным и многоверстным повелительным посвистом, висевшим в небе, как след самолета. В тепле щуры загадочно растворялись.
Митя несся по замерзшей забереге на "буране", и морозный воздух вминало в воздухозаборники капота, а потом перемалывало вентилятором и кидало на горячие цилиндры, и как пил двигатель этот холод, так и Митина душа, привыкшая к простору и набравшая обороты, тоже не могла без этой налетающей дали, в которой мешалось солнце, каменный снег, чёрные кедры – все настоящее, грубое и до хруста напитанное синевой. И выходило, что Поднебенный управлял этим потоком, мог его придержать, отвести, направить на другого или вовсе прикрыть.
– Кинь ты ему пару хвостов, – недоумевал Хромых, – он же ждёт.
– Вот и противно, что ждёт, – упирался Митя. Хромых считал это слюнями:
– Да пусть подавится – главное определенность.
Но соглашался:
– Тошно с козлами дело иметь. Дал тут одному шифер, и до сих пор вытянуть не могу, до того на отдачу тяжелый.
Митя сказал, что тоже отдал одному коленвал, но с самого начала знал, что тот не вернет.
– Легко достался – легко ушел, – холодно усмехнулся Хромых, и даровое Митино имущество который раз стало поперек горла.
6.
Умер Елизарыч, однажды нагрузившись так, что забыл проснуться, и навсегда проспал свою станцию. Пошли другие почтари – какой-то Апполоныч, приехавший из Алма-Аты дорабатывать пенсию, молодая бабёнка, ещё кто-то малоприметный. Все старательно начинали, были обостренно-вежливыми и предупредительными, а потом ломались – видно до Елизарыча с его железной похмельной хваткой им и вправду по выражению лебедёвцев было "как до Москвы раком". А вскоре урезали почтовые деньги. С осени отменили самолеты, пустили редкий вертолёт, а с весны перестали ходить почтовые катера, и почту передавали то со знакомым капитаном пассажирского теплохода, то на рыбнадзорском катере.
Вскоре заговорили и вовсе об упразднении почты в Лебеде, но до этого не дошло, зато учудили реформу почты, новое укрупнение, закрыв добрую половину отделений. Получалось – первый раз укрупнили: из Дальнего, Новоселова и Лебедя оставили один Лебедь, а потом и его добили, хоть и не в лоб, но испотишка, выкинув из почтовых справочников и лишив самого красивого – имени. Лебедёвская почта шла теперь на Лесозаводский, большой поселок на юге района, живший изведением ценнейшего бора.
– Будто кому-то нас разбить, разобщить надо, – рычал Хромых, – доехать нельзя, дак хоть в справочник залезть деревню найти. И это отняли. Хре. Но. Го. Ловые!
Раньше Енисейская сторона была крепко и надёжно перевязана конской поступью, скрипом саней, звоном бубенцов – узелками станков, немноголюдных и как раз таких, чтоб жить, не толкаясь в тайге и на реке, а, когда укрупнили, словно повыдергав зубы из ровного ряда, то вышло на сотню вёрст по одному непомерному поселку, где люди, сидя друг у друга на шее, толпой выхлестывали всё живое вокруг. То густо, то пусто зажили. И утеряла жизнь свою скрипучую поступь, став размашистей и жиже, словно каждый удар прогресса сводил на нет веками нажитую прочность, а тяга к этой прочности осталась, и как ветер тянула назад, а годы вперед, и всё как-то расслоилось, поползло в противоток, как, бывает, облака по небу, и казалась, сама правда незаметно, под шумок, под грохот заводов и рёв двигателей, тихой струйкой развернулась и потекла в обратную сторону.
Один старик рассказывал, как ещё до войны пошли на яму, где обычно после ледостава рыбачили стерлядь, и выдолбили прорубь в виде креста. Приехавший из Верхне-Имбатска священник, освятил воду в иордани, и в ней купались люди.
Митя представил, как работали мужики пешнями, вырубая крестообразную нишу сначала по-сухому, черпали хрустальную крошку, а когда пробили дно, хлынула в дырку бугристая темно-синяя вода, всё подробно и гибко заполняя, отливаясь крестом, и встав почти вровень с краями, не успокоилась до конца, а продолжала тихо ходить и дышать. Потом убирали пешнями оставшиеся в дне ледяные перемычки – и непослушные обломки кто уталкивал под лёд, а кто вычерпывал черпаком. Гранёные борта стеклянно просвечивали сквозь синюю воду, и было странно – обычно твердый и холодный крест покоится в мягком и живом – в воздухе, воде ли, а тут – сам живой, струящийся – посреди твёрдого и холодного.
Митя представлял, как выглядел крест со дна Енисея: брезжил, серебрился, бросая слабеющий отсвет на каменистое дно, и будто освящая небесным светом и рыбу, данную человеку Богом для пропитания, и бесконечные вёрсты текучей воды. Представлял ещё и по-другому: с высокого яра. Уходило вдаль полотно Енисея с цепочками торосов, плоско выделялась большая белая гладуха с крестом, и казалось, крест сорвался с чьей-то горячей груди, и протопив лёд, упал на дно великой реки, а тот, с чьей груди он сорвался, так и мечется по стылым просторам со страшно пустой шеей.
7.
Важные письма обычно приходили весной, словно намёрзшие за долгую зиму новости наконец оттаивали и спешили нагнать упущенное. Письмо было подписано незнакомым почерком, но оказалось от мамы. Отправленный со знакомой до Красноярска, конверт истёрся в поезде и та переложила его в новый, переписав адрес. Похожая история произошла однажды с тети Лидиным письмом, которое бабка отправила вместе со студентами на барже. Ребята ползли неделю, питались водкой, и сложенное вдвое письмо так истрепалось в нечистом кармане, что на почте, переложив послание в новый конверт, балбесы так и замерли с раскрытыми ртами – расшифровать на измызганной бумаге бабкины каракули было немыслимо. Написали, как поняли: БОРЫ ПОПОЛОН АЛИ ЗИНЬОН. Нечто антично-международное: не то дары Апполона, не то какой-то Али Зиньон, французский араб, что ли. Колотясь от истерики, бросили в ящик, еле в щель попав.
– Борыпополон ализиньон! – вопил Митя, хлопая себя по ляжкам и прыгая по комнате, – боры пополон!
Мама писала, что отец поправляется, что он в Лондоне и приглашает Митю в гости. И еще, что она нашла целительницу: "приедешь – снимет твою астму, как рукой".
Просыпаясь по утрам, вскакивал, переживал, не приснилось ли, действительно в письме так все написано, и возясь с дизелем, беспокоился, на месте ли добыча, как собака после выстрела, норовит проверить, прихватить зверька у хозяина за поясом. И кричал:
– Боры Пополон! Али Зиньон!
Означало это, между прочим: "п. Бор, Поповой Альбине Зиновьевне".