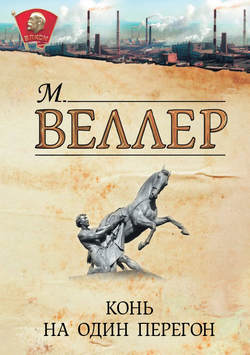Читать книгу Конь на один перегон (сборник) - Михаил Веллер - Страница 14
Разные судьбы
Эхо
ОглавлениеПохороны прошли пристойно. Из крематория возвращались на поминки в двух автобусах, поначалу с осторожностью, а потом все свободнее говорили о своем, о детях, работе, об отпусках.
Квартира заполнилась деловито. Мужчины курили на лестнице; появились улыбки. Еда, закуски были приготовлены заранее и принесены из кулинарии, оживленное бутылками застолье по-житейски поднимало дух.
После первых рюмок уровнялся приглушенный гомон. Как часто ведется, многочисленная родня собиралась вместе лишь по подобным поводам. Некоторые не виделись по нескольку лет. Мелкие междоусобицы отходили в этой атмосфере (покачивание голов, вздохи), царили приязнь и дружелюбие, действительно возникало некоторое ощущение родства; отношения возобновлялись.
Две дочери, обеим под пятьдесят, являлись как бы двумя основными центрами притяжения в этом несильном и приятном движении общения, в разговорах на родственные, наезженные темы. В последние годы отношения между ними держались натянутые (из-за семей), – тем вернее хотелось сейчас каждой выказать любовь к другой, получая то же в ответ…
Разошлись в начале вечера, закусив, выпив, усталые, но не слишком, чуть печальные, чуть довольные тем, что все прошло по-человечески, что все были приятны всем, а впереди еще целый вечер – отдохнуть дома и обсудить прошедшее, – с уговорами «не забывать», куда вкладывалась подобающая доза братской укоризны и покаяния, с поцелуями и мужественными рукопожатиями, сопровождающимися короткими прочувственными взглядами в глаза; с удовлетворением.
Остались ближайшие: дочери с мужьями, сестра. Помыли посуду, выкинули мусор, расставили на места столы. Решили, сев спокойно, что вся мебель останется пока на местах, «пусть все будет как было», может быть квартиру удастся отхлопотать.
Назавтра дочери делили имущество: немногочисленный фарфор и хрусталь, книги, напитанные нафталином отрезы. Вздыхали, пожимали плечами, печально улыбались, неловко предлагая друг другу; много вытаскивалось устаревшего, ненужного, того, что сейчас, уже не принадлежащее хозяину, следовало именовать хламом – а когда-то вкладывались деньги… «Вот так живешь-живешь…» «Кому это теперь все нужно…» И все же – присутствовало некоторое радостное возбуждение.
Увязали коробки. Разобрали фотографии. Пакеты со старыми письмами и т. п. сожгли не открывая на заднем дворе. Помыли руки. Попили чаю…
Договорились в ЖЭКе, подарив коробку конфет. В квартире стал жить старший внук, иногородний студент. Прописать его не удалось. Дом шел на капитальный ремонт, через два года жильцов расселили; студент уехал по распределению тогда же. Перед отъездом продал за гроши мебель – когда-то дорогую, сейчас вышедшую из моды, рассохшуюся. Сдал макулатуру, раздарил ничего не стоящие мелочи. Среди прочего была старая, каких давно не выпускают, общая тетрадь в черном коленкоре, с пожелтевшими, очень плотной гладкой бумаги страницами, на первой из них значилось стариковскими прыгающими крючками:
«Костер из новогодних елок в углу вечернего двора. Жгут две дворничихи в ватниках и платках. Столб искр исчезает в черном бархатном небе. Погода снежная, воздух вкусный. Гуляя, я с тротуара увидел за аркой огонь и, подумав, подошел. Стоял рядом минут двадцать; очень было хорошо, приятно: мороз, снег в хвое, запах смолы и пламени, отсветы на обшарпанной стене. Что-то отпустило, растаяло внутри: я ощутил какое-то единение с жизнью, природой, бытием, если угодно. Давно не было у меня этого действительно высокого, очищающего чувства всеприемлемости жизни: счастья.
«Сегодня, сидя за столом с газетой, заметил на стене паука. Паучок был небольшой, серый, он неторопливо шел куда-то. Вместо того, чтобы убить его, смахнуть со стены, я наблюдал – пока не поймал себя на чувстве симпатии к нему; и понял, насколько я одинок.
«Ходи по путям сердца своего…
«Решительно не помню сопутствующих подробностей, осталось лишь впечатление, ощущение: белая ночь, тихий залив, серый и гладкий, дюны в клочковатой траве, изломанный силуэт северной сосны и рядом – береза. И под ветром костерок, догорающий…
«Почему так часто вспоминается костер, огонь?..
«Еще костер – на лесозаготовках в двадцать шестом году. Нам не нам подвезли тогда хлеб, лежали у костерка на поляне, последние цыгарки на круг курили, усталые, небритые, смеркалось, дождик заморосил; и вдруг бесконечным вдохом вошло счастье – подлинности жизни, единения и братства присутствующих… век бы не кончалось… черт его знает как выразить…
«Дождь – дождь тоже… после конференции в Одессе, в шестьдесят третьем, в октябре, видимо. Я улетал наутро, домой и хотелось и не хотелось, Ани не было уже, а весь день и вечер бродил по городу, моросил дождь, все было серое и блекнущее, буровато-зеленое, печально было, и впереди уже оставалось мало что, да ничего почти не оставалось, пил кофе, я курил еще тогда, и дома, улицы, море, деревья, дождь, серая пелена… а как хорошо, покойно как и ясно на душе было.
«Иногда мне думается, что каждый имеет именно то, чего ему больше всего хочется (обычно неосознанно). Может быть, если каждый это поймет, то будет счастлив? Или это спекуляция, утешительство?
«Я всегда был эгоистом. Гедонистом.
«Степь, жара, сопки, поезд швыряет между ними, солнце скачет слева направо, опять встали, кузнечики трещат, цветы пестрят, кружат коршуны, дурман и марево, снова движение, лязг и ветер в открытые двери тамбура, я аж приплясывал и пел «Полным-полна коробушка», не слыша своего голоса!..
«Решительно надо пошить новый костюм.
«Я боюсь. Господи, я боюсь!!
«До 20 необходимо: 1. Отослать статью в энциклопедию. 2. Отреферировать Т. К. 3. Уплатить за квартиру за лето.
«Охота. Утренняя зорька, сизый лес, прель и дымок, холодок ожидания и воздух, воздух…
«Облака. Сегодня сидел в сквере и долго смотрел. Низкие, темные, слоистые, их какое-то вселенское вечное движение в бескрайности, – сколько их было в жизни моей, в разные времена и в разных местах, все было под ними, облака…
«В самом конце утра или перед вечером случается редко странное и жутковатое освещение: зеленовато-желтое, разреженное, воздух исчезает из пространства, тени резкие и глухие, – словно нависла всемирная катастрофа…
«Печали мои. Ерунда. Память. Истина».
Аспирант закрыл тетрадь, попавшую к нему со стопкой никому не понадобившихся записей и книг, – закрыл с почтением, пренебрежением, превосходством. Аспиранту было двадцать четыре года. Он строил карьеру. Смерть научного руководителя его раздосадовала. Она влекла за собой ряд сложностей. Аспирант размеривал время на профессуру к сорока годам. Он был перспективный мужик, пробивной, знал, где что сказать и с кем как себя вести. Он счел признаком комфорта и пресыщенности позволять себе элегические вздохи, когда главная цель жизни благополучно достигнута. «И далеко не самым нравственно безупречным образом», – добавил он про себя.
Шеф его имел в прошлом известность одного из ведущих специалистов страны по кишечнополостной хирургии крупного скота. Часто делился с грустью, что ныне эта отрасль практически не нужна: лошади свое значение в хозяйстве утеряли, коров дешевле пустить на мясо, чем лечить; когда-то обстояло иначе… Последние годы почти не работал, отошел от дел кафедры, чувствовал себя скверно; после смерти жены жил один; был добр, но в глубине души высокомерен и нрава был крутого, «кремень».
Крупный, грузный, с мясистым римским лицом, орлиным носом, лысина в полукружии седины, носил черный с поясом плащ и широкополую шляпу, походил на Амундсена, или старого гангстера, или профессора, кем и был.