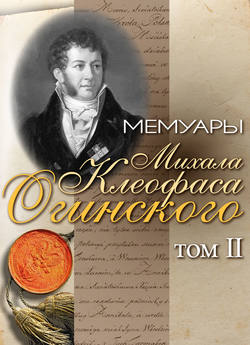Читать книгу Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 2 - Михал Клеофас Огинский - Страница 3
книга девятая
Глава I
ОглавлениеЯ выехал из Парижа 22 января 1811 года и отправился в Санкт-Петербург, куда весной должна была приехать моя семья. Уже за несколько недель до отъезда ходило много разговоров о подготовке к войне. Мои соотечественники уверяли меня, что Наполеон выжидает лишь благоприятного момента, чтобы объявить войну России и затем восстановить Польшу. Из большого числа русских, что находились в то время в Париже, некоторые разделяли это мнение, однако до самого дня отъезда ничто в поведении Наполеона не выдавало его тайных замыслов. Ни он, ни его двор не изменили своего отношения к послу России, а ко всем российским подданным проявлялась любезность и повышенное внимание.
Ничто, на мой взгляд, не предвещало скорого разрыва отношений между двумя величайшими державами Европы. Я боялся назревающей кровопролитной войны, понимая, что широким польским равнинам суждено было стать театром военных действий. Я видел, что мои сограждане, ставшие жертвой слепого доверия к Наполеону, сомневались в способности России противостоять ему. У меня же было достаточно оснований полагать, что поляков обманут в их ожиданиях и принесут в жертву, а их благородные и бескорыстные усилия на благо отчизны не принесут никаких плодов… Но мог ли я винить их за надежду, когда сам искренне разделял общее желание увидеть возрожденную Польшу.
Оставив позади Париж, я быстро проехал Мец, Майнц, Эрфурт и Дрезден. Это путешествие запомнится мне обилием разбойников на больших дорогах Германии и несчастным случаем, потрясшим Айзенах, куда я прибыл спустя два дня после взрыва нескольких пороховых повозок. Были разрушены самые красивые дома, под руинами которых остались погребенными более шестидесяти человек. Кучи пепла, дымящиеся развалины жилищ, извлеченные из-под завалов тела, слезы женщин и детей, потрясение тех, кто сумел спастись, жалобные стоны над участью несчастных – такова картина, которая надолго врезалась в мою память.
Я прибыл в Дрезден 27 января и тотчас же направился к российскому посланнику Каникову, который принял меня весьма дружелюбно и пригласил на ужин с участием представителей дипломатического корпуса. В свою очередь французский посланник Бургуэн пригласил меня отужинать с ним в семейном кругу на следующий день и, судя по настойчивости, с которой было сделано приглашение, боялся получить отказ, поскольку хотел обсудить со мной разные вопросы. Он вспомнил о нашем знакомстве по Парижу в 1797 году, когда я находился там в эмиграции. Он, казалось, был удивлен моим возвращением в Россию и назначением в сенат Петербурга. После ужина, когда мы остались одни, он пытался убедить меня, насколько ложными были распространявшиеся в Германии слухи о скором разрыве между Францией и Россией. О поляках он отзывался с воодушевлением, вспоминал об их заслугах перед Наполеоном и отметил заинтересованность его государя в будущем моей страны. При этом посланник прямо заявил, что возрождение Польши не за горами, поскольку Наполеон хотел бы вернуть ей всю политическую значимость.
Присутствовавшая на ужине французского посланника г-жа Б. пригласила меня к себе на вечерний чай. Войдя в ее салон, я увидел там несколько знакомых лиц, которых давно потерял из виду, и те на правах старых приятелей принялись по очереди задавать мне вопросы о Париже, Наполеоне, слухах о войне и особенно о поляках, с которыми я встречался во Франции. На следующий день те же люди окружили меня на балу у графа Сенфта, куда меня привел Кaников. Было очевидно, что Париж дал указание установить за мной слежку, вызвать меня на разговор, чтобы выудить нужную информацию. Я еще больше уверился в этом, когда по нескольку раз в день встречал в своей гостинице типов, слывших в Дрездене за шпионов. Несмотря на всю свою осторожность и старание поменьше вступать в разговоры и не говорить ничего такого, что могло бы испортить настроение Наполеону, я позже узнал, что ему доложили о некоторых приписанных мне высказываниях, из-за которых министр иностранных дел направил ноту протеста российскому послу князю Куракину.
Это обвинение было беспочвенным, поскольку я не мог быть настолько неосмотрительным, чтобы публично выражать свое мнение. Единственное, что могло не понравиться Наполеону и его приверженцам, так это то, с каким воодушевлением и привязанностью я отзывался об императоре Александре.
В Дрездене я узнал, что там уже какое-то время находится страдающий от подагры Коллонтай и, несмотря на болезнь, не прекращает работу над своими сочинениями. Когда ему доложили, что я нахожусь в Дрездене проездом в Петербург, он выразил желание увидеть меня, добавив при этом: «Я глубоко сожалею, что Огинский, у которого столько способностей, благородных стремлений и патриотического рвения, оставил мысль о восстановлении Польши при содействии Франции. Если я увижу его, то постараюсь убедить, что не стоит полагаться на Россию, и что Наполеон всегда будет делать то, что пожелает. Война неизбежна. Россия будет уничтожена, Польша восстановлена, а вся Европа – подчинена Наполеону.
Думаю, что Огинский привязался к Александру, потому что это добрый и справедливый государь, однако он наверняка падет жертвой своей привязанности и т. д.»[85]
В то время как мне передавали слова Коллонтая, я вспомнил, что при отъезде из Парижа, когда уже садился в карету, Феликс Потоцкий, сын бывшего польского посла в Константинополе, передал мне пакет для французского посланника Бургуэна. У меня не было времени заняться пакетом, и когда я вынул его из портфеля, то обнаружил адресованную мне записку следующего содержания:
«Мой дорогой граф, когда Вы будете проездом в Дрездене, прошу вас передать этот пакет барону Бургуэну. Как я заметил, Вы настроены против меня, но не удивлен тому, поскольку имею много врагов, особенно среди наших соотечественников. Меня винят в том, что я всем недоволен, но недоволен я лишь самим собой. Вы знаете меня с детства и должны понимать, что больше всего на свете я люблю свободу и родину. И только смерть заставит меня изменить своим принципам. Сейчас обстоятельства меняются… Прощайте, дорогой граф! Не знаю, встретимся ли мы вновь! Война неизбежна. Нам обещают вернуть Польшу, но чего только нам не обещали! Говорят, что поляков можно кормить одними надеждами. Когда мы нужны, нас лелеют.
С дружеским приветом.
Париж, 15 января 1811 года».
Эта записка, слова Коллонтая и разговор с Бургуэном подкрепляли не оставлявшие меня с самого Парижа мысли о неизбежности ближайшего разрыва с Россией. Я еще больше утвердился в своем мнении, когда на дороге из Дрездена в Бреслау обогнал упряжки с пушками и груженые ружьями повозки, двигавшиеся в направлении герцогства Варшавского. В Бреслау я сделал остановку на несколько часов, во время которой бывший надворный коронный маршалок Рачинский дал мне очень подробные разъяснения относительно состояния Пруссии, ее тяжелого положения и возможностей быстро сформировать в случае необходимости значительную армию.
Я проехал герцогство Варшавское, минуя саму Варшаву. Край представлял собой картину нищеты и убогости. В Остроленке я встретился с генералами Рожнецким и Тржецецким, а также с некоторыми офицерами, которых знал на протяжении многих лет. Военные были в приподнятом настроении и жаждали войны, чего нельзя было сказать о гражданских служащих и сельских жителях, с которыми мне довелось повстречаться в разных уголках герцогства, и которые, страдая от тяжести налогов и притеснений, тосковали по миру.
В начале февраля я, наконец, прибыл в Вильну. Моей первой мыслью было записать свои наблюдения о текущей обстановке в Европе и соотнести их с возможностью использования сложившихся обстоятельств на пользу своей родине и соотечественникам. Во время путешествия из Парижа у меня было достаточно времени, чтобы не торопясь отдаться своим размышлениям.
Поскольку еще раньше я довольно подробно изложил свои идеи по этому вопросу в двух записках на имя императора Александра, а также в нескольких письмах, которые я взял на себя смелость направить ему, и к которым мы еще вернемся на страницах этой книги, я ограничусь лишь кратким изложением сути идей, послуживших мне руководством для линии поведения, которой я намеревался придерживаться.
1. Я был твердо убежден, что целью Наполеона являлось основание всемирной монархии, и он ждал лишь благоприятного случая, чтобы порвать с Россией.
2. Я нисколько не сомневался, что поляков он будет использовать как мощную пружину и пугало против России, несмотря на то, что восстановлению Польши он придавал большое значение.
3. Я был уверен, что если он даже и восстановит Польшу, то не сделает ее свободной, мощной и независимой, поскольку это идет вразрез с его принципами и системой, которой он следовал в течение жизни.
4. Я не исключал, что если Наполеон отберет у России бывшие польские провинции, то посадит на польский престол короля по своему выбору и под своим непосредственным присмотром, но я также при этом полагал, что поляки, вместо того чтобы вновь обрести свои законы, вольности и конституционное правительство, получат воинскую повинность, контрибуции, французский гражданский кодекс, полное разложение национального характера и бесконечные войны с Россией.
5. Я не мог себе представить, что в ту пору Польша самостоятельно могла бы встать на ноги и создать сильное и независимое государство. Само ее географическое положение не позволяло надеяться на это после всех произошедших в Европе перемен, однако в ее появлении на политической арене под протекторатом Франции или России я видел меньше неудобств и отдавал предпочтение ее восстановлению под покровительством императора Александра.
Не ссылаясь на другие причины, убеждавшие меня в этом, я ограничусь лишь замечанием, что Польша, восстановленная Францией еще до полного уничтожения Российской империи (что относится к разряду невозможных явлений), непременно стала бы театром военных действий на протяжении многих поколений.
Учитывая все это, я подумал, что раз войны между Россией и Францией не миновать, и снова будет стоять вопрос о Польше, то долг каждого настоящего поляка – способствовать восстановлению своей страны или, по крайней мере, улучшению участи ее народа. Было бы непозволительно упустить такую благоприятную возможность, последнюю, быть может, и не предпринять действий, к которым взывали патриотизм и честь, и которым не противилось бы благоразумие.
Я знал, что после вступления императора Александра на престол стоял вопрос о восстановлении Польши. Этот государь, воспитанный с детских лет на принципах справедливости и чести, не мог не воспринимать раздел Польши иначе, как беззаконный, несправедливый и политически недальновидный акт. Я слышал от де Лагарпа – учителя Александра, как его добрый и чувственный ученик с самого начала принимал участие в судьбе Польши, как сочувствовал он жертвам, принесенным ее многострадальным народом, как, наконец, не смея открыто выражать свои чувства, не одобрял в глубине души тех министров, чьи советы помогали уничтожить Польшу.
Пусть Александр не мог предотвратить эту катастрофу, поскольку был слишком молод, чтобы подать свой голос, пусть, став государем, он все еще не мог определиться с восстановлением Польши из-за ряда причин, о которых я узнал позже, тем не менее я не исключал, что в один прекрасный день, как только для этого наступят благоприятные условия, он осуществит свои благие намерения в отношении этой страны. В те дни я видел приближение этих обстоятельств и решил воспользоваться этим.
Решив отправиться в Петербург, чтобы открыть там свое сердце императору и откровенно изложить ему свои взгляды, я отдавал себе отчет, насколько сложна задача, которую я взвалил на себя. Я никогда не был настолько приближен к Александру, чтобы хорошо знать его характер, не представлял, на какое доверие с его стороны мог рассчитывать, и еще меньше догадывался, как он отнесется ко всему тому, что я предложу ему по Польше. Однако времени оставалось мало, поэтому необходимо было как можно скорее объясниться с ним либо промолчать и, быть может, раз и навсегда. Я был глубоко убежден, что предлагаемый мною проект, кроме всего прочего, послужит славе и чести императора, принесет благополучие империи и счастье полякам. Мой долг, таким образом, заставлял меня отказаться от соображений, которые могли бы вынудить меня отступиться от своей затеи.
По правде говоря, у меня было много и других причин для беспокойства по поводу переезда в Санкт-Петербург, но поскольку я пишу эти заметки, как будущие мемуары, лишь для своих детей, которые должны знать решительно все, что я думал и чувствовал в разную пору жизни, я не могу отказать себе в том, чтобы не рассказать им об этих причинах.
Прошло шестнадцать лет с тех пор, как перестала существовать Польша, и, потеряв свою страну, я принял решение отказаться от самых блестящих карьерных возможностей. Я знал, что должность в сенате Санкт-Петербурга, которую мне предстояло занять по воле императора Александра, не будет приятной сама по себе.
После того, как на родине я прошел через многие государственные должности, работая вместе с родственниками, друзьями и земляками, чьи жизненные принципы, привычки и настроения мало чем отличались от моих, мне предстояло перенестись в другую страну, завести там новые знакомства, изучить новый язык, стать неприметным и бездеятельным для одних либо предметом недоверия и зависти – для других.
Я никогда не был придворным. Признавая в людях лишь заслуги и талант, я презирал даже в годы бедствий умение льстить фаворитам и выслуживаться перед влиятельными министрами, окружать их постоянной заботой и вниманием. Словом, я не был создан для жизни при дворе, однако место, которое я собирался занять, обязывало меня к такой жизни. Мне предстоял выбор: заслужить расположение императора и тогда стать предметом зависти окружающих и городских пересудов или стать незаметным для двора и, в этом случае, оказаться в положении полного ничтожества, с которым высокомерно обходится начальство, оскорбляют подчиненные и подвергают притеснениям при каждом удобном случае.
Муки честолюбия никогда не терзали меня, поэтому никакие награды, звания и прочие возможные милости не смогли бы компенсировать неприятности, которым я подвергал себя. Могли ли эти временные преимущества заменить мне независимость, которой я собирался пожертвовать, и счастливые дни уединения, проведенные в Залесье, или на берегах Арно и Бренты?
Размышляя таким образом и не предаваясь особым иллюзиям на предмет своего будущего положения в Санкт-Петербурге, я, чтобы заранее не потерять всякий интерес ко всему тому, что меня ожидало, тешил себя надеждой, что смогу послужить своей стране и принести пользу соотечественникам.
Однако это еще не все. Я знал, что многие из моих соотечественников неправильно поймут меня. Одни обвинят меня в амбициозности, другие сочтут, что я перешел на службу России исключительно ради выгоды. Большинство же упрекнет меня, по меньшей мере, в непоследовательности и не поймет, как я, будучи одним из самых заметных польских патриотов, который сражался против России в 1794 году, подвергался на протяжении многих лет опасностям в Константинополе, Италии, Германии, Франции и, находясь под покровительством французского правительства, прилагал столько усилий для восстановления Польши и освобождения страны от трех разделивших ее между собой держав, мог так неожиданно изменить своим взглядам и вместо того, чтобы сбросить ярмо России, оставаясь на стороне Наполеона, предпочел полякам власть Александра.
Я презирал подозрения в амбициозности и личных выгодах, которые не могли задеть человека, ни разу не уличенного во лжи, но я не мог оставаться безразличным к обвинениям в непоследовательности, так как в моем возрасте непозволительно быть противоречивым. И все же я подвергал себя риску в глазах родственников, друзей и земляков, чье уважение для меня было особенно дорого… Это меня удручало, однако в душе я не мог упрекнуть себя ни в чем, и совесть оправдывала и одобряла мои поступки.
Я всегда был истинным поляком и всеми своими заслугами обязан тому, что всякий раз стремился заслужить это имя. Я взялся за оружие в 1794 году и не был осужден за это, поскольку боролся за независимость и сохранение целостности своей страны. Те, кто сегодня позволяет себе порицать меня за привязанность к императору Александру и веру в него, не поверят, что как-то в его кабинете в разговоре с ним я сказал, что, если бы был уверен, что Польша сможет обрести независимость без перехода под власть Франции или России, то непременно вступил бы в ряды войска польского в герцогстве Варшавском… Они еще меньше поверят в то, что император не осудил меня ни за эту откровенность, ни за мои намерения.
Даже после революции меня не оставляла мысль о восстановлении Польши, и я полагал, что французская революция, которая потрясла устои многих европейских держав, сможет оказать помощь и поддержку польским патриотам, вернуть их страну на место, которое она прежде занимала в Европе. Увлеченность и смелость, горячий патриотизм и либеральные идеи поляков снискали им повсюду поддержку приверженцев свободы. Комитет общественного спасения, а затем Директория, хотя и обманывали, но энергично поощряли их усилия обещаниями. Швеция и Турция тоже кормили их надеждами, а когда веришь в желаемое, то кажется очевидным, что, если две державы – естественные противники России – нападут на нее и французские республиканские легионы займутся армиями Австрии и Пруссии, то поляки, ведомые своими патриотическими чувствами, при поддержке союзников смогут увидеть, как Польша возродится из пепла и освободится от иноземного ига.
В ту пору я как раз работал в Венеции, Константинополе и Париже и разделял идеи, надежды и иллюзии своих соотечественников, а моя переписка и воспоминания, безусловно, свидетельствуют о моей преданности Родине и чистоте намерений. Тогда я находился под протекцией французского правительства, потому что для истинного поляка, который не был русским, австрийским или прусским, не существовало никакого другого. Я мог заблуждаться в своих подходах и взглядах на политику, но я не стану отрекаться от своих поступков, потому что никогда не склонялся в пользу той или иной партии и желал лишь свободы и независимости Польши.
И она могла обрести ее в силу стечения обстоятельств и избежать ужасов французского террора, который, разрушив принципы нравственности, чести и разумной свободы, вынудил правителей Европы принимать меры против распространения революционной заразы. Возможно, и даже вероятно, что совместные интересы трех держав, поделивших между собой Польшу, заставили бы их рано или поздно восстановить эту страну в том виде, как она существовала ранее. И произошло бы это не в результате реституций, а по причине необходимости восстановить барьер, разрушение которого слишком приблизило друг к другу соседние державы, что в один прекрасный день могло стать причиной их ссоры.
Впрочем, если о свободной Польше можно было так или иначе мечтать до пришествия Бонапарта во Франции, то после этого злосчастного для всего человечества явления любая возможность воплощения этой мечты в реальность отпадала.
Завоеватель, как известно, все разрушает и не желает ничего восстанавливать. Это убеждение, равно как и многие другие доводы, которые я изложил в записке, представленной императору Александру 15 мая 1811 года, не поколебали моего решения высказаться более определенно. Не имея возможности увидеть Польшу такой, как я хотел ее видеть, я смел по меньшей мере надеяться на восстановление имени поляка при покровительстве императора Александра. И если мои просьбы будут удовлетворены, то это как-то компенсировало бы мои обиды радостью видеть тех соотечественников, что несправедливо осуждали мое доверие к императору, разубежденными и счастливыми.
85
Коллонтай передал мне тогда через доктора Луста свою недавно опубликованную польскую брошюру под названием «Заметки о части Польши, называемой после Тильзитского договора герцогством Варшавским».