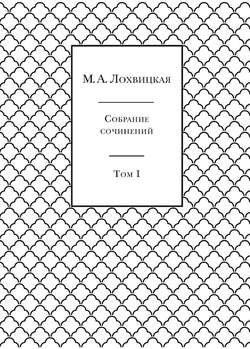Читать книгу Собрание сочинений в 3-х томах. Том 1 - Мирра Александровна Лохвицкая - Страница 2
Русская Сафо
ОглавлениеВ русской литературе Мирре Лóхвицкой (1869–1905) должна по праву принадлежать слава основоположницы поэзии женского чувства. Не «женской поэзии» – поэтессы были и до нее. Но именно она первой с удивительной для своей эпохи смелостью заговорила о том, что до нее было высказано лишь мужскими устами. «Именно она, а не Ахматова, научила женщин говорить», – писал известный американский славист русского происхождения В.Ф. Марков. Тем не менее об этой заслуге Лохвицкой вспоминают редко. Судьба поэтессы, – как личная, так и творческая, – сложилась трагически, и этот трагизм во многом связан с декларируемой ею позицией: «Я – женщина, и только». Однако по прошествии более чем ста лет со времени ее смерти, несмотря на то, что ее стихи почти не переиздавались, а в кругах любителей поэзии принято было смотреть на нее свысока, память о «русской Сафо» не угасла. Ее творчество продолжает находить новых поклонников, а загадка ее судьбы – волновать и увлекать внимательных читателей, как некогда, возможно, даже сам того не желая, предрек Валерий Брюсов.
Настоящее издание является полным собранием сочинений Лохвицкой и задачи его – прежде всего историко-литературные: показать творчество поэтессы в динамике развития, а также отметить параллели и отголоски у современников и поэтов последующей эпохи. Разумеется столь полный охват заведомо предполагает неравноценность включенных в собрание произведений, однако в этом есть определенные плюсы: читатель может составить собственное представление, не завися от пристрастий и литературного вкуса составителя. Комментарии лишь помогут увидеть смысл тех или иных стихотворений в биографическом и историко-литературном контексте. В собрание сочинений включены также письма Лохвицкой и ответы ее корреспондентов из архивов Москвы и Петербурга. Некоторые из них публикуются впервые.
Биографический очерк, помещаемый в этой книге, не претендует на полноту. Более обстоятельно изложенную биографию поэтессы читатель может найти в моей книге «Истаять обреченная в полете»[1]. Однако за прошедшее десятилетие обнаружились некоторые новые данные, поэтому именно на них будет сделан акцент.
Сведения о жизни Марии Александровны Лохвицкой-Жибер (именно так, двойной фамилией, надписаны собрания ее сочинений и таково ее официальное имя) весьма скудны для автора рубежа XIX–XX веков. Жизнь ее души отразилась главным образом в стихах, – до нас не дошло ни интимно-исповедальных признаний в прозе, ни доверительных писем, ни дневников. Сохранившиеся эпистолярные образцы из хранилищ Москвы и Петербурга, были, по-видимому, тщательно отсортированы родными и отданы в архив по принципу «кесарю – кесарево», поэтому они касаются лишь деловых связей поэтессы с представителями литературного мира. Безусловно, они представляют определенный интерес для историка литературы, но очень мало говорят о личности самой поэтессы. Замкнутая и застенчивая, несмотря на всю свою несколько скандальную известность, а кроме того прикованная к дому обязанностями матери, Лохвицкая нечасто появлялась в литературных кружках и не была замечена многими мемуаристами, воссоздавшими впоследствии яркие картины эпохи. Об этом остается только пожалеть, потому что в памяти тех, кто ее знал чуть ближе, она оставила неизгладимое впечатление.
Более того, есть целая тема, до сих пор сокровенная и не замечаемая исследователями: Лохвицкая была не только поэтом, но и сделалась музой для сразу нескольких выдающихся писателей: Константина Бальмонта, который ее любил, Ивана Бунина, который с ней дружил и, по-видимому, был втайне ею увлечен, и Валерия Брюсова, который ее ненавидел, но, тем не менее тоже запечатлел в своем творчестве. Можно также вспомнить, что уже посмертно Лохвицкая стала своего рода Прекрасной дамой для молодого Игоря Северянина, который благоговейно чтил ее память и посвятил ей множество стихов. Уже названных имен достаточно для того, чтобы понять, что и личность, и творчество Лохвицкой заслуживают пристального внимания. А если добавить к этому вышеназванную заслугу основоположницы поэзии женского чувства и то, что молодые Ахматова и Цветаева[2], выступив на литературное поприще оглядывались, равнялись прежде всего на нее, с ней, уже умершей, состязались и спорили, на ее фоне самоутверждались, то необходимость полного издания собрания сочинений Лохвицкой покажется совершенно насущной.
Имя, под которым поэтесса приобрела известность в кругах любителей поэзии – Мирра Лохвицкая – включавшее ее домашнее прозвище и девичью фамилию – утвердилось за ней только после смерти, с началом литературной деятельности ее младшей сестры Надежды, которая не сразу взяла свой прославленный псевдоним – Тэффи. Отношения двух сестер были непростыми и в этом тоже отчасти кроется причина забвения, постигшего старшую сестру: младшая вспоминала о ней неохотно, пренебрежительно и сухо.
Мария Александровна Лохвицкая родилась 19 ноября (1 декабря) 1869 года в Петербурге в семье известного адвоката и профессора права Александра Владимировича Лохвицкого (1830–1884) и его жены Варвары Александровны, урожденной фон Гойер. Тэффи в автобиографии писала, что их прадедом был известный мистик и масон XVIII века Кондратий Андреевич Лохвицкий, однако эта связь не безусловна и может оказаться частью той биографической мифологии, которую Тэффи создавала вокруг себя. Она же, к примеру, писала, что мать была француженкой, хотя на самом деле Варвара Александровна происходила, по-видимому, из рода остзейских баронов. У Александра Владимировича, вероятно, были польские, а может быть, и еврейские корни, но, если последнее предположение верно, то очевидно, что в семье этот факт замалчивали[3]. Как бы то ни было, в его некрологе говорится, что это был человек, сделавший себя сам и получивший образование, несмотря на материальные лишения[4].
Мария была пятым ребенком в семье, у нее были две старшие сестры – Лидия и Варвара, и два старших брата – Вадим и Николай (1867–1933); последний впоследствии стал генералом и видным участником Белого движения. Потом родились еще две сестры: Надежда, будущая Тэффи (1872–1952) и Елена (1874–1919). Волею судьбы четыре из пяти сестер Лохвицких так или иначе пробовали себя в литературе. Помимо Марии-Мирры и Надежды-Тэффи печатались Варвара (под псевдонимом Мюргит, взятым из стихотворения Мирры) и Елена (под псевдонимом Элио). В семье будущую поэтессу звали Машей. Тэффи в воспоминаниях нередко называет ее именно так, иногда поясняя, что речь идет о поэтессе Мирре Лохвицкой.
В 1874 году Лохвицкие переехали в Москву. Если верить автобиографическим рассказам Тэффи, лето они проводили в имении матери в Волынской губернии. В Москве старшие дети начали свое обучение. «Воспитывали нас по-старинному: всех вместе на один лад, – вспоминала впоследствии Тэффи. – С индивидуальностью не справлялись и ничего особенного от нас не ожидали»[5]. Старшие дочери учились в институтах, сын – в кадетском военном училище. Вслед за сестрами Мария в 1882 году поступила в Московский Александровский институт, который закончила в 1888 году. Но еще до этого, в 1884-м, умер ее отец, а мать с младшими дочерьми вернулась в Петербург. Маша оказалась разлучена с семьей и видеть родных могла только приезжая на каникулы. Институтское воспитание наложило определенный отпечаток на ее мировоззрение и характер. Институты благородных девиц, со времен Екатерины II возникшие во многих российских городах, по изначальному замыслу готовили «просвещенных» женщин, однако фактически главной жизненной целью и мечтой институток было удачное замужество. Девушки получали основательную подготовку в языках, французском и немецком, учились музицированию, танцам, в остальном же программа была не слишком сложной. Большое внимание уделялось воспитанию хороших манер, умению держать себя. Жизнь в отрыве от семьи, со строгой дисциплиной, у одних закаляла характер, других же внутренне ломала. Во всяком случае многие бывшие институтки зарекались давать подобное воспитание своим дочерям. Институтки росли в искусственно созданной тепличной атмосфере, их наивность была притчей во языцех. Этот наивно-институтский взгляд на жизнь, со стремлением сбросить оковы жесткой дисциплины, вырваться на волю, встретить любовь, понимаемую как высшее счастье, вполне выразился в ранних стихах Лохвицкой. Отсюда, из институтского детства, ее образы «весталок» и «монахинь», мечтающих о свободе, – они могут показаться несколько манерными, однако для нее это был личный, пережитой и выстраданный опыт. Не исключено, что воспитание в казенной атмосфере института вызвало и тот душевный надлом, который стал довольно быстро заметен в ее стихах.
Возможно, институту Лохвицкая обязана также появлением своего литературного имени Мирра, хотя Тэффи в одном из рассказов дает другое объяснение. По ее словам, в семье все писали стихи и тщательно это скрывали. «Вне подозрений был только самый старший брат, существо, полное мрачной иронии. Но однажды, когда после летних каникул он уехал в лицей, в комнате его были найдены обрывки бумаг с какими-то поэтическими возгласами и несколько раз повторенной строчкой:
“О, Мирра, бледная луна!”
Увы, и он писал стихи.
Открытие это произвело на нас сильное впечатление и, как знать, может быть, старшая сестра моя Маша, став известной поэтессой, взяла себе псевдоним “Мирра Лохвицкая”, именно благодаря этому впечатлению»[6].
Училась Лохвицкая хорошо, хотя и без особого блеска, если не считать литературных занятий. Она рано начала писать стихи, которые, по собственному признанию, пела как песни. Она серьезно училась «итальянскому пению» и даже подумывала стать певицей. Что пресекло эти намерения, неизвестно. Однако понятно, что отчасти поэтому ее стихи были музыкальны, певучи и порой напоминали романсы. Для нее такая форма была совершенно естественна. Надо сказать, что и стих, якобы сочиненный старшим братом, был не совсем верным переводом строчки из популярного романса на итальянском языке: «Mira la bianca luna»[7]. Имя Лохвицкой писали по-разному, возможно, воспринимая его на слух: встречается и вариант «Мира», хотя сама она так никогда не писала. Имя-благовоние, отзывающееся библейским и античным колоритом, стало частью ее поэтической сущности. Может быть, оно указывало и на официально не афишируемые еврейские корни (отсюда – чувство собственной «неправильности», некоей тяготящей тайны).
Стихи, которые Мария писала, получили одобрение как в семье, так и у учителей: незадолго до выпуска два ее стихотворения – «Сила веры» и «День и ночь» – были изданы отдельной брошюрой[8]. К сожалению, известно об этом лишь косвенно, само издание не сохранилось. По характеру Лохвицкая, по-видимому, не была бунтаркой. Она доверяла взрослым, дружно хвалившим те стихи, которые у нее получались, и не сразу озаботилась поиском новых форм.
Окончание института и воссоединение с семьей в Петербурге стали для Лохвицкой новым этапом жизни. На короткое время она сблизилась с младшими сестрами. Лето семья проводила на даче в так называемой Ораниенбаумской колонии недалеко от Петергофа. Живший по соседству Александр Бенуа вспоминал «прелестных барышень» Мирру и Надю. С Надей он дружил, хотя никаких подробностей этой дружбы не рассказывает, Мирру упоминает лишь один раз.
Видимо, в это время между сестрами, каждая из которых мечтала о поэтической славе, возник странный договор, – то есть появление его вполне объяснимо в их юном возрасте, однако похоже, они воспринимали его вполне всерьез. Об этом договоре рассказывает И.И. Ясинский, к которому младшие Лохвицкие, Надежда и Елена, напросились в гости, чтобы он оценил их стихи. Ясинский одобрил поэтические опыты и стал расспрашивать девочек о семье:
«– Ваш отец не был ли присяжным поверенным?
– Да. Он был знаменитым присяжным поверенным, и мы хотели бы тоже быть знаменитыми. У вас мы проверили свои силы, узнали ваше мнение, но Мирре Лохвицкой на нашем семейном совете предназначено занять первое место среди нас. Вторая выступит Надежда, а потом уже я. И еще мы уговорились, чтобы не мешать Мирре, и только когда она станет уже знаменитой и, наконец, умрет, мы будем иметь право печатать свои произведения, а пока все-таки писать и сохранять, – в крайнем случае, если она не умрет, для потомства.
Было это довольно комично и оригинально.
Старшая, Надежда, потом несколько раз приходила ко мне и вручила мне начисто переписанное ею стихотворение “К звезде”, с надписью: “Посвящается И.И. Ясинскому”.
– С просьбой, – сказала она, – не печатать ни в коем случае.
– А что же не приходит Елена? – спросил я.
– Как младшая, она не хочет мне мешать. <…>
Что же касается Мирры Лохвицкой, то в самом деле ее поэтическое дарование оказалось перворазрядным. Вслед за сестрами она в одно из воскресений побывала у меня на Бассейной и пожаловалась на редакторов “Севера” Гнедича и Сафонова, которые не взяли ее стихотворения.
– Я считаю это обидой для себя. Я знаю, что я даровитее своих сестер, иначе я не приняла бы их жертвы не печататься, пока я печатаюсь.
– Но почему же вам всем трем не печататься?
– Тогда не будет благоговения. Начнется зависть и конкуренция. Согласитесь сами, однако, что если вы признали их стихи хорошими, и достойными печати, а “Север” меня отверг, то чья же тут ошибка: Гнедича и Соловьева или ваша?
– Что же вы хотели, чтобы я вам сделал?
Она глубоко сидела в кресле, томно раскинувшись, словно дама, уже уставшая жить, хотя она была совсем молоденькая и казалась младше своих сестер – такая была худенькая – и сказала:
– Я сейчас вам покажу стихи, и прошу вашего суда.
Действительно, стихи сверкали, отшлифованные, как драгоценные камни и звонкие, как золотые колокольчики.
– Стихи прелестны, – согласился я, – но, знаете, что? Их нельзя печатать.
– Почему? Ну, хорошо: я сейчас поняла, почему. Молодая девушка не имеет права затрагивать такие темы.
Мирра засмеялась и продолжала:
– Я вспомнила, как г-н Соловьев, возвращая мне злополучное стихотворение, сказал с такой смешной серьезностью: “Но, сударыня, наш журнал читают также дети”… Да, он назвал меня сударыней! А я присела и сказала: “Извините, милостивый государь”.
– Дайте ему другое какое-нибудь стихотворение. У вас настоящий талант.
– Но, правда, я пишу лучше, чем сестры?
Мне больше ничего не надо. Но беру с вас слово, что вы не расскажете сестрам о том. Что я была у вас. Я для них тайна»[9].
По воспоминаниям Ясинского понятно, что «зависть и конкуренция», которой пытались избежать девушки, на самом деле уже присутствовала в их жизни: впоследствии она приведет даже к разрыву отношений между Миррой и Надеждой, когда последняя, в возрасте уже за тридцать, начнет свою литературную карьеру.
Почему-то призрак ранней смерти уже веял над Миррой, хотя никаких серьезных проблем со здоровьем у нее не было. Конечно, Ясинский, который пишет свои мемуары уже после ее кончины, мог слегка подогнать их под последующие факты, однако мысль о собственной кратковечности возникает и в стихах Лохвицкой, даже задолго до знаменитого «Я хочу умереть молодой», написанного в 1896 году, но опубликованного позднее. «В даровании Лохвицкой, в некоторой экзотичности ее чувства, в прирожденном мистицизме был естественный скат к декадентству», – писал впоследствии в ее некрологе критик А.А. Измайлов[10].
Воспоминания Ясинского отражают и подлинную проблему, с которой Лохвицкая столкнулась в начале своей литературной деятельности и которая преследовала ее до конца: ее стихи, которые для читателя XXI века совершенно невинны, в конце XIX века возбуждали бурный гнев блюстителей нравственности. В них старательно выискивали признаки «нравственной нечистоты» и, выудив какое-нибудь отдельное смелое словечко, спешили пригвоздить юную нарушительницу приличий к позорному столбу. Иначе как ханжеством и укоренившимся гендерным шовинизмом такое отношение объяснить нельзя, но в те годы это была почти непробиваемая броня, и поэтому борьба за то, что последующим поколениям женщин-поэтов казалось самоочевидным: право оставаться в поэзии самой собой и говорить о том, что волнует, а не о том, что «должно волновать», – отняла у Лохвицкой немало сил и в конце концов ввергло ее в безысходную депрессию.
Интересно, что, если верить воспоминаниям Василия Ивановича Немировича-Данченко, к стихам Лохвицкой со снисхождением и пониманием отнесся Лев Толстой, безжалостный обличитель царившего в российском обществе фарисейства: «Это пока ее зарядило… Молодым пьяным вином бьет. Уходится, остынет и потекут чистые воды!»[11].
Тем не менее в эти годы поэтесса начинает активно печататься в петербургских журналах, ищет контактов в литературной среде. Довольно подробный, хотя и не вполне достоверный, рассказ об этом ее периоде дает Немирович-Данченко в своих воспоминаниях «Погасшая звезда». В них рассказана трогательная история дружбы девочки-подростка («лет четырнадцати») и маститого писателя, дружба, якобы начавшаяся с наивного письма Лохвицкой с вопросом «Стоит ли писать дальше?» «Я не помню, что я набросал “начинающему поэту”, но через несколько дней ко мне – я жил тогда в “Hotel d’ Angleterre” на Исаакиевской площади, – постучалась подросток лет четырнадцати, в кофейном мундирчике с беленькой пелеринкой, наивная, застенчивая, мерцавшая ранним огнем прелестных глаз. Потом она часто бывала у меня, неизбежно сопровождаемая старой дуэньей, как и полагается девочке de la bonne famille»[12]. Далее следует рассказ о том, как маститый писатель и юная поэтесса подружились на почве любви к прекрасному и к дальним странствиям, которые для него были жизнью и личными впечатлениями, для нее – лишь мечтой. “Мне не дают воли! – говорила она. – Ну и развернусь же я потом. Каждою порою жить буду вовсю. Я за все эти годы возьму свое… У меня в сутках сорок восемь часов окажется…”».
В этом рассказе отображена строгость семейной атмосферы, в которой выросла Лохвицкая: одну ее на улицу долго не отпускали, отчего она и впоследствии плохо ориентировалась в городе и, прожив в Москве с мужем четыре года, знала всего лишь несколько главных улиц. Однако ее знакомство с Немировичем-Данченко на самом деле началось иначе. Не Лохвицкая была инициатором общения, а сам Немирович. Он составлял антологию поэзии «Русская муза», а она уже успела приобрести некоторую известность. В свои 14 лет Лохвицкая училась в московском институте и гулять по Петербургу не могла. Впечатления же от гимназической формы – с фотокарточки, которую Лохвицкая прислала для антологии.
Важными представляются сведения о том, что через посредство Немировича поэтесса познакомилась с Владимиром Соловьевым. Важны они потому, что в поэзии Лохвицкой определенно есть точки пересечения с творчеством Соловьева и именно от него она могла воспринять свою «мистику любви», некоторые неоплатонические идеи. Если верить Немировичу-Данченко, в Соловьеве поэтесса увидела раздвоенность, которая впоследствии будет близка ей самой:
– Знаете, в нем и ангел, нет не то: и пророк, и демон.
– Вот тебе и на!
– В самом деле. Верхняя половина лица – апостол, аскет, прямо его в Фиваиду. А нижняя – особенно рот – сатана…
По рассказу можно предположить, что Лохвицкая была влюблена в Немировича-Данченко, – в его устах это выглядит как наивная влюбленность ребенка, однако учитывая, что на самом деле ей было не четырнадцать – пятнадцать, а девятнцадцать – двадцать лет, понятно, что он что-то недоговаривает, но почему – неизвестно.
«– Вы не знаете, как мне досталось за вас!
– За меня?
– Да… Даже рассказать не могу.
– От кого?
– От мамы!
Помолчала с минуту.
– Я, может быть, скоро выйду замуж.
– Вы любите?
– Нет… А впрочем, не знаю. Он хороший… Да. Разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь»[13].
Со своим будущим мужем, Евгением Эрнестовичем Жибером, сыном известного архитектора Эрнеста Ивановича Жибера, обрусевшего француза, Лохвицкая познакомилась на даче, в Ораниенбаумской колонии. Замужество определило всю будущую судьбу поэтессы, однако мы очень мало знаем об истинных ее отношениях с мужем, не знаем, был этот брак заключен по любви. Немирович-Данченко, похоже, свидетельствует, что для Мирры замужество было вынужденным шагом, чтобы освободиться от домашнего гнета. Однако по стихам самой поэтессы вырисовывается иная картина, хотя, возможно, в них она выдавала желаемое за действительное. Однако внешне Евгений Эрнестович Жибер вполне подходил на роль «черноокого красавца» ранних произведений Лохвицкой. В стихах явственно слышатся отголоски какой-то драмы. В поэме «У моря» лирическая героиня влюблена в «черноокого красавца» и отказывается от выгодного брака с немолодым претендентом на ее руку и сердце и в конце, как в омут, бросается на свидание с возлюбленным, грозящее ей утратой доброго имени.
В автобиографической справке Лохвицкая говорит, что вышла замуж в 1891 году. На тот же год указывает в своих записях Ф.Ф. Фидлер (со слов поэтессы): «Уже семь лет она замужем, у нее трое детей»[14]. Однако в свидетельстве о венчании, сохранившемся в Собрании Тихвинского музея, указана точная дата венчания: 23 августа 1892 года[15]. Не совсем понятно, как вписывается в эти даты рождение старшего сына Михаила. В непроверенных интернет-источниках всплывает дата 30 октября 1891 года. В принципе, она могла быть и ошибочной, поскольку в связи с революцией и эмиграцией документы менялись и нередко возникала путаница. Но нельзя исключить, что стихи оказывались правдивее документов и горестное восклицание лирической героини Лохвицкой: «Ужели первою грозою // Вся жизнь изломана моя?» – принадлежит самой поэтессе. Возможно, с этими нестыковками рождения старшего сына и формальной даты заключения брака связаны многочисленные переезды семьи: Тихвин, Ярославль, Москва. Тем не менее мемуаристы единодушно вспоминают Лохвицкую как «целомудренную» женщину, хотя в этом «целомудрии», возможно, было нечто болезненное: некая задавленность чувством вины, истинной или мнимой, – закомплексованность, как сказали бы сейчас. Именно такой запомнил Лохвицкую духовный писатель Евгений Поселянин, случайно видевший ее в одном литературном собрании: «Когда она вышла на сцену, в ней было столько беспомощной застенчивости, что она казалась гораздо менее красивою, чем на своей карточке, которая была помещена во всех журналах»[16].
Едва ли этот портрет можно назвать портретом счастливой женщины, даже если списать такую манеру поведения на непривычку к публичным выступлениям. Не выглядит Лохвицкая счастливой и на портрете с мужем, сделанным вскоре после свадьбы. После ее смерти звучали даже мнения, что именно семейная жизнь, к которой поэтесса не имела склонности, свела ее в могилу. Об этом говорят Немирович-Данченко и Ясинский.
«Эта очаровательная поэтическая девушка, исключительно одаренная и, по-видимому, не предназначенная к семейной жизни, вскоре завоевала видное место в литературе и вышла замуж за чиновника, имевшего общение с поэзией, по-видимому, только через посредство жены. Мирра Лохвицкая писала смелые эротические стихи, среди которых славился “Кольчатый змей”, и была самой целомудренной замужней дамой в Петербурге. На ее красивом лице лежала печать или, вернее, тень какого-то томного целомудрия, и даже “Кольчатый змей”, когда она декламировала его где-нибудь в литературном обществе или в кружке Случевского имени Полонского, казался ангельски кротким и целомудренным пресмыкающимся. Измученная частыми родами и снедаемая какой-то вечной тоской, Мирра умерла во цвете лет»[17].
Возможно, в этом есть доля тенденциозного преувеличения, вызванного взглядами, характерными для этой эпохи, однако, оглядывая жизнь поэтессы, надо признать, что семейные интересы в ее жизни всегда ставились выше личных и в конечном итоге она стала настоящей мученицей семейной идеи. Однако в посвящении к первому сборнику стихов, вышедшему в 1896 году, Лохвицкая непосредственно обращается к мужу и говорит, что счастлива:
Думы и грезы мои и мечтанья заветные эти
Я посвящаю тебе. Все, что мне в жизни ты дал, —
Счастье, и радость, и свет – воплотила я в красках и звуках,
Жар вдохновенья излив в сладостных песнях любви.
Нельзя сказать, что муж препятствовал литературной карьере Лохвицкой. Нет, он иногда посещал литературные вечера с участием жены (в одном из писем она просит для него билет); будучи юристом, немного помогал ей отстаивать права в переписке с редакциями. Однако понятно, что мечта об освобождении, которую Мирра лелеяла, выходя замуж, не сбылась. Не сбылись и мечты о дальних странствиях. За всю жизнь она один или два раза побывала в Крыму и один раз, за три года до смерти, – в Швейцарии. Последняя поездка, скорее всего, была связана с необходимостью лечения. А между тем социальный и имущественный статус семьи вполне позволял ей ездить за границу, где бывали многие люди ее круга. Должно быть, она по-прежнему хотела бы своими глазами увидеть Италию, Испанию, Грецию, но, видимо, в семье эти ее желания не воспринимались всерьез и поэтому осуществлены не были[18]. Муж Лохвицкой, как уже отмечалось, по профессии был юристом[19]. Почему-то по долгу службы ему часто приходилось уезжать, отчего жена оказывалась надолго предоставлена сама себе. «Мой муж, как всегда, блистает своим отсутствием, – жалуется она А.А. Коринфскому в сентябре 1898 года. – Вернется только через два месяца»[20].
Рождение нескольких детей подряд прочно привязало ее к дому. Все дети были мальчики и всего их было пятеро. С датой рождения старшего сына, Михаила, как мы уже сказали, существуют неясности. К сожалению, не осталось и фотографий, которые могли бы как-то скорректировать хронологию. Но сохранилась фотография 1894 года, где Лохвицкая запечатлена вместе с сыном Евгением, которого она выделяла из всех, надеясь, что он станет поэтом. Ребенку на этой фотографии нет и года и это, кажется, единственный портрет, где глаза его матери сияют счастьем. Евгений, таким образом, родился либо в конце 1893 года, либо первой половине 1894 (если так, то Михаил в принципе мог родиться в первой половине 1893 года и дата 1891 год неверна). На другом фото, 1896 года, она снята со следующим сыном, Владимиром, тоже еще совсем маленьким, так что он, по-видимому, появился на свет в 1895 году. Потом был перерыв в несколько лет, в 1900 году родился четвертый сын, Измаил, получивший свое необычное имя, по-видимому, из-за южной внешности, выделявшей его среди братьев. К его младенчеству относится шутливое стихотворение, рисующее будни многодетной матери, со смесью наблюдательности, усталости, легкого раздражения, и всепобеждающей нежности. Заканчивается стихотворение таким выводом-выбором:
Но и почести и славу
Пусть отвергну я скорей,
Чем отдам свою ораву:
Четырех богатырей!
Последний сын, Валерий, родился в 1904 году. Ему посвящено несколько нежных и печальных стихотворений Лохвицкой. Этот этап ее материнства нельзя назвать иначе, как трагическим, но о нем еще будет сказано чуть ниже.
«В домашнем быту это была скромнейшая и, может быть, целомудреннейшая женщина, всегда при детях, всегда озабоченная своим хозяйством, – вспоминал критик А.Л. Волынский. – Она принимала своих гостей совсем на еврейский лад: показывала своих детей, угощала заботливо вареньем и всякими сластями. <…> В Лохвицкой блестящим образом сочетались черты протоарийской женщины с амуреточными импульсами, изливавшимися лишь в стихах»[21].
Сходный портрет рисует в своих воспоминаниях Бунин, познакомившийся с Лохвицкой в Москве зимой 1894–1895 года: «Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, – муж ее был один из московских французов по фамилии Жибер, – что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив. Болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, – все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н.А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, – мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.
– Миррочка, дорогая, опять лежите?
– Опять.
– А где ваша лира. Тирс, тимпан?
Она заливалась смехом:
– Лира где-то там. Не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети…»[22]
Надо сказать, что это называние друг друга уменьшительными именами для Лохвицкой – случай совершенно исключительный, свидетельствующий о большом дружеском доверии. В ее переписке нет ни одного адресата, к которому она бы обратилась не по имени-отчеству. Бунин, рассказывая об этом немного небрежно и как будто вскользь, похоже, тоже многого недоговаривает. Уже одно то, что Бунин-мемуарист с теплотой отзывается об авторе своего поколения и декадентской направленности, – случай совершенно исключительный. Во-вторых, тот портрет Лохвицкой, который он запечатлел в записях, поразительно напоминает его любимых героинь.
«И все в ней было прелестно – звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость… Она и правда, была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, – матовый, ровный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах…»[23] – это о Лохвицкой. «Вдруг раздался звонок и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица»[24], – это о Лике в «Жизни Арсеньева». Нетрудно увидеть, что это два портрета, списанные с одного оригинала.
«Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу, – говорит безымянная героиня бунинского «Чистого понедельника». – “Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном”…»[25] Здесь обыгрывается древнерусская «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Однако возлюбленной змея является не Феврония, а невестка Петра, жена его брата, князя Павла, которая в «Повести» упоминается лишь вскользь. Если не сверяться с оригиналом, а читать только бунинский текст, создается впечатление, что змий прилетает к главной героине жития и, несомненно, искушает главную героиню рассказа. Почему так? Случайно ли это или Бунин тщательно подбирал слова, чтобы создать именно такое впечатление?
Ответ на этот вопрос дает стихотворение Лохвицкой «Змей Горыныч», в котором рассказывается именно о змее-возлюбленном:
…День от дня все чахну, сохну я,
Давит грудь мою печаль-тоска…
Истомил меня проклятый Змей,
Сердце бедное повызнобил!..
Чу! Летит он!.. Слышу свист его,
Вижу очи искрометные…
Пропадай же, грусть постылая,
Дай душе моей натешиться!..
Будут жечь меня уста его
Жарче зноя солнца летнего,
Распалит он сердце ласками,
Отуманит разум чарами….
Добрый молодец, прости-прощай!
Проходи своей дорогою;
Не хочу я воли девичьей, —
Мне мила теперь судьба моя!
Каковы были чувства Бунина к Лохвицкой, мы по недостатку сведений не можем сказать определенно. Возможно, он просто использовал понравившийся типаж. Но очень может быть, Лохвицкая была предметом тайной и безответной любви, а ее сломанная судьба и ранняя смерть стали для Бунина источником не только вдохновения, но и неиссякающей боли. Чем-то напоминает ее и Оля Мещерская из «Легкого дыхания», гимназистка с «радостными, поразительно живыми глазами» (здесь можно вспомнить фотографию Лохвицкой с сыном Евгением), в своей искренней неосторожности равнодушно и беспощадно загубленная фарисейским обществом, в котором под личиной благопристойности прячется хищничество и разврат.
В начале 1890-х Бунин, тоже только входивший в литературную среду, поддерживал дружеские отношения с Константином Бальмонтом, который в те годы тоже был начинающим поэтом, еще мало кому известным. Не исключено, что через Бунина Бальмонт и познакомился с Лохвицкой. Возможно, встреча произошла в Крыму: на это указывают многие стихи, которые в данном случае оказываются основным источником сведений об отношениях двух поэтов. Сами ли они, или их родственники, но кто-то позаботился, чтобы никаких иных улик не осталось, за исключением единственного письма Бальмонта в архиве Лохвицкой, да довольно скупых намеков у современников, бывших свидетелями разыгравшегося романа, весьма драматичного для обоих.
Первое свидетельство их знакомства относится к февралю 1896 года – это дарственная надпись на свежеизданном сборнике стихов: «От читательницы и почитательницы». Почтительный тон не должен вводить в заблуждение: Лохвицкая смотрит на Бальмонта не как ученица. Подаренный сборник был удостоен Пушкинской премии, что выводило Лохвицкую в круг наиболее многообещающих поэтов своего поколения. Бальмонту до таких достижений тогда было далеко.
Ты вся была полна любви невыразимой,
Неутоленности, – как Сафо оных дней.
Не может с любящим здесь слитным быть любимый
И редки встречи душ при встрече двух людей…
– писал он в стихотворении «Мирра», написанном вскоре после ее смерти. Это одно из немногих его произведений, посвященных ей прямо, хотя с момента их встречи – а это была подлинная «встреча душ»! – их поэтические миры были постоянно устремлены друг к другу. Это даже нельзя назвать неким обменом стихотворными обращениями, поэзия этих двух авторов в значительной части образует единый интертекст, который только как интертекст и становится по-настоящему понятен. Они могли отвечать друг другу спустя годы, могли откликаться на стихи, изначально обращенные к кому-то другому, созданные еще до встречи, но уже дышавшие предчувствием этой встречи.
По-видимому, именно это явление изобразил Брюсов в «Огненном ангеле»: ангел Мадиэль, которого Рената знает с детства, внезапно воплощается в графа Генриха. Разумеется, Брюсов не афишировал этого источника своего романа, имея в запасе другой, который сам и создавал: отношения с Ниной Петровской и любовный треугольник с Андреем Белым. С Бальмонтом и Лохвицкой у него тоже получился треугольник, но здесь в основе была не любовь двух мужчин к одной женщине, а дружба двух мужчин, которая разбилась из-за того, что один предпочел другу – женщину. Но это произошло чуть позже.
Иные любовные треугольники в истории Лохвицкой и Бальмонта возникли сразу, поскольку она была замужем, а он собирался жениться. Его избранницей была одна из богатейших московских невест, купеческая дочь Екатерина Андреева. Впоследствии Бальмонт будет неоднократно признаваться, как публично, так и лично, что именно Андреева была главной женщиной его жизни, хотя судьба их разделила. Но, похоже, в те годы все было отнюдь не так однозначно. Союз наследницы значительного состояния с небогатым поэтом родственники невесты приняли с трудом. Однако Екатерине Андреевой было уже 29 лет, – возможно, отчасти это обстоятельство вынудило родных согласиться. У жениха были препятствия в виде первого брака, еще не расторгнутого. Тем не менее молодые, не стесняясь предрассудками, стали жить вместе еще до венчания, а каноническое затруднение сумели обойти: нашелся документ, в котором Бальмонт значился неженатым, и священник, согласившийся обвенчать пару.
О самой же свадьбе недавно открылось свидетельство мемуариста, которое рушит все стереотипы: «Невеста ожидала в церкви, а жених, приехав на тройке в компании поэтессы М. Лохвицкой, уже на пороге церкви никак не мог вырваться из страстных прощальных объятий»[26]. Подробности не сообщаются, автор мемуаров личным свидетелем описанного эпизода не был, поэтому тут возможны преувеличения и домыслы. Тем не менее этот образ тройки с колокольчиками не раз будет возникать у обоих поэтов. Похоже, для обоих это был мучительный момент выбора. По намекам в стихах можно предположить, что Бальмонт предлагал Лохвицкой уехать вместе и жить в невенчанном союзе, но она отказалась, потому что не смогла бросить детей.
…И слышалось будто сквозь облако грез:
«Умчимся, умчимся в край солнца и роз».
Но острым кинжалом мне в сердце проник
Ребенка нежданно раздавшийся крик.
(«Полуденные чары»)
Бальмонт, в те годы увлекавшийся Шелли, проецировал свои отношения с женщинами на творчество английского поэта. Для него и Лохвицкой «книгой судьбы» стала поэма Шелли «Розалинда и Елена». Именно отсюда был взяты образ поэта-бунтаря Лионеля, с чувствами, вольными, как ветер, и его возлюбленной Елены, которая согласилась уйти с ним, презрев условности общества. Как говорится в поэме, церковью для них стала звездная ночь, алтарем – земля, а священником – шепчущий ветер (ст. 852–854). Что Лионель в стихах Лохвицкой – это Бальмонт, было замечено давно. Но что Елена у Бальмонта – это Лохвицкая, заметить труднее, тем более, что Еленой звали третью жену поэта, которая стала своего рода двойником поэтессы. Тем не менее на это указывают законы их общего интертекста, ключевые образы поэтической переклички.
Сразу после свадьбы Бальмонт с женой уехал за границу. Именно тогда их с Лохвицкой «роман в стихах» развернулся в полную силу. Их взаимные посвящения узнаются по использованным стихотворным размерам, образам, иногда – по мимолетным фразам. Сложенные вместе, эти стихи читаются как связное повествование, в котором отразились все перипетии их любовной истории.
В 1905 году Бальмонт опубликует драму «Три расцвета». Вне контекста стихотворной переклички с Лохвицкой она малопонятна, поэтому внимания никогда не привлекала. Три расцвета – это три этапа взаимоотношений неизменной героини, Елены и трех ипостасей героя: Юноша – Любящий – Поэт. Трем «расцветам» соответствуют три цвета: золотой, красный, голубой. Золотой расцвет – чистая полудетская влюбленность Елены и Юноши. Но Елена не хочет сказать Юноше: «Люблю» – и он гибнет. Здесь присутствуют аллюзии на стихи 1895–1896 годов. Не случайно и посвященный Лохвицкой цикл в сборнике Бальмонта «Тишина» назывался «В дымке нежно-золотой».
Красный расцвет – период страсти. В стихах обоих поэтов, созданных в 1897–1899 годах, действительно, много красного цвета, красных цветов, огня. Но красный цвет угнетает Елену и Любящий тоже гибнет.
Наконец, третий расцвет – голубой. Елена и Поэт встречаются где-то в горном замке, где все голубое, вместе смотрят на луну, Елена наконец признается Поэту в любви и оба тают в лунном сиянии.
До конца понять, что за этим стоит, невозможно, потому что никаких дневниковых или эпистолярных пояснений поэты не оставили. Здесь много общей литературной игры, однако исключительно к игре эти взаимоотношения не сводятся, они слишком много значили для обоих.
Для Лохвицкой, которая вела жизнь домашней затворницы, вечно в отсутствии мужа, вечно при детях, дружба с Бальмонтом поначалу была глотком свежего воздуха. Несмотря на свое разгоревшееся увлечение, она прекрасно понимала, что не уйдет к нему, и отнюдь не только потому, что не могла помыслить о том, чтобы бросить детей, и не потому, что брачные обеты не были для нее пустым звуком (даже если допустить, что ее брак начался «неправильно»). При всей своей привязанности к Бальмонту, она, по-видимому, не верила, что с ним можно связать судьбу, что совместная жизнь принесет им счастье. Женившись на Андреевой, Бальмонт получил средства для путешествий и самореализации, а также ценные родственные связи. Через Андрееву он породнился с меценатом С.А. Поляковым, который впоследствии стал директором издательства «Скорпион». Иными словами, это родство способствовало славе Бальмонта. Лохвицкая не могла предложить ему ничего равного. Вместе их вероятно, ожидали бы отверженность, бедность, неустроенность, а кроме того – подводные камни в виде сложностей собственных характеров. Это определило ее выбор.
В середине 1890-х годов Лохвицкая начала писать стихотворные драмы. У широкой публики эти произведения успеха не встретили, однако они необыкновенно интересны с точки зрения автобиографических мотивов. Первая из этих драм – «На пути к Востоку». В главной героине, царице Балькис, узнается сама поэтесса. Вообще, все героини Лохвицкой похожи на нее саму, – в этом ее поэзию можно сравнить с художественным творчеством Зинаиды Серебряковой, чьи героини всегда немного похожи на автопортреты художницы. Итак, в драме Лохвицкой Балькис Савская направляется в восточную страну, чтобы встретиться с премудрым Соломоном. В Соломоне угадывается лирический герой ее ранних стихотворений. Биографический подтекст тут неясен[27]. На пути не без участия злого духа Ивлиса Балькис встречается с юношей Гиацинтом. В этом образе однозначно узнается Бальмонт. Балькис и Гиацинт влюбляются друг в друга, увлеченная любовью Балькис отстает от каравана, однако в результате Гиацинт, узнав, что они остались одни, и что царица намерена ждать, когда за ней вернутся, бросает ее на произвол судьбы. В следующей сцене, уже по прошествии времени, к царице Балькис приводят схваченных пленников: это Гиацинт и его невеста, грубая и неотесанная фиванка Комос, которой приданы портретные черты Андреевой. И Гиацинт, и Комос униженно просят Балькис пощадить их, что она и делает. Остатки прежнего чувства лишь дают ей возможность больнее уязвлять обожающую Гиацинта Комос.
Из всего этого можно заключить, что Лохвицкая все же была обижена на Бальмонта и ревновала. К Андреевой она была явно несправедлива: та не была ни грубой, ни неотесанной. По свидетельству мемуаристов, держалась Андреева всегда с достоинством и бесчисленные романы своего мужа всерьез не воспринимала. Однако тот факт, что сама Андреева а в воспоминаниях постаралась вычеркнуть Лохвицкую из биографии Бальмонта, упомянув ее лишь вскользь и всего один раз, пожалуй, говорит о том, что поэтесса была для нее опасной соперницей и насмешек жена Бальмонта ей не простила.
Постоянно общаясь в стихах на расстоянии, за последующие годы поэты встречались лишь считаные разы, однако эти встречи были знаменательны. Одна из этих встреч состоялась 19 ноября 1897 года, когда Бальмонт приехал в Москву договариваться об издании своего сборника «Тишина». Дата узнается косвенно. Это – день рождения Лохвицкой. И именно в этот день разочарованный Валерий Брюсов записывает в дневнике: … приехал Бальмонт, которого я так ждал, так жаждал. На нем двойной галстук, он подстрижен так тщательно.
La llena luna… Полная луна…
Иньес бледна, целует, как гитана.
Te amo… amo… Снова тишина…
Но мрачен лик печальный Дон-Жуана…»[28]
Брюсов таким образом намекает, что Бальмонт предпочел любовное свидание задушевной беседе с долгожданным другом. «В своих письмах он говорил, что в России ему нужен я один. О, конечно, оригинал не таков, как мечты»[29].
Бальмонт познакомил возлюбленную с другом, однако сближения не получилось. «С Бальмонтом мы расстались холоднее, чем я ждал. Быть может, его обидели мои неблагосклонные впечатления о г-же Лохвицкой, которая показалась мне довольно бездарной женщиной»[30]. Впоследствии Андреева в воспоминаниях выскажет предположение, что трещина в отношениях двух друзей возникла из-за того, что Бальмонт попытался ухаживать за женой Брюсова. Однако скорее всего она замалчивает имя Лохвицкой.
Брюсов и в дальнейшем отзывался о Лохвицкой почти исключительно неблагосклонно. В то же время творчеством ее он интересовался и пристально изучал его: об этом свидетельствуют многочисленные пометки в томиках ее стихов, сохранившихся в его библиотеке. В полушутливой-полусерьезной пародии на пророческие слова Христа, в которой Брюсов обличает новых поэтов, он включает Лохвицкую в их число: «Горе тебе, словесность русская! И ты, о Бальмонт, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Отринута ты. Зинаида Прекрасная! Ты пошла и убоялася, и вспять обратилася. Также и Мирра Александровна, сотворила бо себе кумира и поклониласья ему земле долу»[31]. Этих новых поэтов он, однако, отделяет от презренных «стихослагателя Федорова» и «Ап. Коринфского».
В принципе, Лохвицкая и должна бы упоминаться в числе старших символистов. В своем развитии она прошла тот же путь, ее достижения и неудачи – того же уровня и порядка. Но если имя ее все же чаще отбрасывается в «предсимволизм», то в значительной мере именно из-за несложившихся отношений с Брюсовым, Гиппиус[32], да и просто из-за того, что она по замкнутости характера не появлялась в модернистских литературных собраниях. Вторая причина: скорый успех, выпавший на долю ее первых стихов, которые и стали восприниматься как ее визитная карточка. Почти все поэты ее поколения (Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов) начинали примерно с таких же стихов – в традиции отчасти Фета, отчасти – Надсона. Но если их первые сборники канули в Лету и не ассоциировались с последующим творчеством, то Пушкинская премия, увенчавшая первый сборник Лохвицкой, во многом сослужила ей дурную службу. Сама поэтесса, похоже, была уверена в незыблемости существующего миропорядка, не чувствуя, что скоро изменится все, в том числе и привычная система оценок. Она, разумеется, хотела признания, но добивалась его путем традиционным и академичным: представляя сборник за сборником на суд той же комиссии, присуждавшей Пушкинские премии. За первым томом, снискавшим успех, последовали третий, четвертый и пятый (второй был пропущен, потому что Лохвицкая сама считала, что в нем слишком много эротики[33]). Из тех, что были поданы на премию, награжден был только последний, пятый, но уже – посмертно и, похоже, больше из сожаления о безвременной кончине автора. В этом была своя справедливость: после смерти Лохвицкой в некрологах зазвучали суждения, что литературная критика виновата перед ней и что ее попросту затравили. Однако в сознании современников и потомков Пушкинские премии вскоре обесценились, выше стали ставиться суждения мэтров нового искусства, – и здесь мы вновь возвращаемся к невольному конфликту Лохвицкой с Брюсовым.
В творчестве Лохвицкой Брюсов больше всего ценил «песни греха и страсти», но и сама поэтесса сильно интересовала его как психологический феномен. В его ненависти было определенное неравнодушие: он видел в ней интересующий его типаж (или тоже был втайне увлечен ею). Несомненно, именно Лохвицкая, а не Нина Петровская, изначально вызвала к жизни его Ренату, которую потом Петровская воплотила. Еще один сходный персонаж – Реа из «Алтаря победы». Брюсова и Лохвицкую объединял интерес к «тайному знанию», но она, судя по всему, никогда не доходила до магических практик. Ее колдуньи – не от выбора в пользу порочности, аморализма и зла, а от отчаяния чистой души, которая не может совладать со своими порывами, хотя и продолжает нести свой «подвиг скучных будней». Религиозно-философские искания Серебряного века, сомнительные с точки зрения ортодоксальной конфессиональности, в сущности, не могли быть иными: живая мысль не довольствовалась православием, превращенным в государственную идеологию. Однако если Лохвицкая где-то и могла «преступать черту» в своем творчестве, то в жизни религиозные убеждения оставались для нее незыблемым императивом. Именно в этом состояла драма ее отношений с Бальмонтом.
До какой степени близости доходили эти отношения, мы не можем сказать, да это и не так важно. Важно, что творчество обоих питалось этими чувствами, весьма сильными. Поэты не виделись два года, с лета 1896 по осень 1898 года (если не считать краткого приезда Бальмонта в декабре 1897 года). Но именно в это время создаются те самые «песни греха и страсти», которые больше всего нравились и Бальмонту, и Брюсову. Летом 1898 года Лохвицкая с семьей переехала в Петербург. В сентябре того же года она побывала в Крыму и там виделась с Бальмонтом. Зиму 1898–1899 годов Бальмонт с женой проводят в Петербурге. Это период наиболее тесного общения его с Лохвицкой. Частым местом встреч становятся литературные «Пятницы» К.К. Случевского. Здесь оба поэта попадают в поле «немецкого служки в храме русской литературы», переводчика и педагога Ф.Ф. Фидлера, который втайне собирает скабрезные подробности из жизни литераторов. В первый год после своего возвращения в Петербург Лохвицкая сильно интересует Фидлера, хотя впоследстии его интерес ослабевает. 19 ноября 1898 года Фидлер оказался в числе гостей на дне рождения Лохвицкой (на котором почему-то отсутствовал ее муж) и записал все, что видел и слышал:
«Почти не слова не произнес и Коринфский; он вздыхал, бросая на Лохвицкую похотливые взгляды Она оказывала ему (правда, незначительные) знаки внимания, хотя по отношению к Бальмонту вела себя куда откровеннее (говорят, она “живет” с ним)»[34]. Вскоре эти слухи Фидлеру подтвердил сам Бальмонт. «После завтрака (выпито было немало) Бальмонт потащил меня к себе. Он занимает вместе с женой (непривлекательная особа высокого роста, которая вскоре удалилась) изящно обставленную квартиру из трех комнат на Малой Итальянской, 41. На столе появилось пиво, и Бальмонт принялся рассказывать о себе. Ему тридцать два года. Двадцатилетним юношей он женился в Москве, но через несколько лет они разошлись. От этого брака было двое детей, девочка, которая умерла, и мальчик, который живет сейчас с матерью. При разводе он взял всю вину на себя, но заключить брак с нынешней женой (ее зовут Екатерина Алексеевна) ему удалось лишь с помощью поддельного документа. Уже несколько лет живет с Лохвицкой. Она, по его словам, артистка сладострастия и так ненасытна, что однажды они занимались любовью целых четыре часа подряд. Вместе с тем она очень стыдлива, и всегда накрывает обнаженную грудь красным покрывалом. Бальмонт ставит сладострастие превыше всего в мире и опьяняется его “красотой”»[35].
Несмотря на предельную откровенность этих признания, не исключено, что поэт выдавал желаемое за действительное. Во всяком случае, Лохвицкая отрицала какие бы то ни было отношения с ним кроме литературных и дружеских. Вероятно, до нее дошли слухи об их отношениях и о том, что рассказывает о ней Бальмонт, именно это вызвало к жизни ее последнюю стихотворную драму – «In nomine Domini» – на исторический сюжет процесса над Луи Гофриди, которого оговорила влюбленная в него монахиня Мадлен. Золотые кудри Мадлен в драме Лохвицкой невольно наводят на мысль, что гендерные роли там порой меняются местами: в образе Мадлен запечатлен Бальмонт, сама же поэтесса ситуационно оказывается в роли Гофриди.
В драме под видом монахов, ведущих следствие по делу Мадлен и с похотливым любопытством осматривающим ее на предмет обнаружения «бесовской печати», явно изображены и фарисействующие ревнители нравственности, которых много было в ее окружении:
МИХАЭЛИС
…Есть у нее бесовская печать.
На правой ножке, около колена.
Тот стигмат нам не лучше ль рассмотреть
Подробнее, для пользы правосудья,
Пока малютка дремлет? Прав ли я?
БР. ФРАНЦИСК
Брат Михаэлис, никогда, клянусь вам,
Вы не были так правы, как теперь!
БР. ПАСКАЛИС
И я того же мнения.
БР. АНТОНИЙ
Я тоже.
МИХАЭЛИС
Как мне отрадно, братья, что меж нас
Явилось наконец единодушье!
(Наклоняется к Мадлен.)
Спи, крошка, я тебя не разбужу.
БР. ФРАНЦИСК
Но где же знак?
МИХАЭЛИС
Его не нахожу я.
БР. ФРАНЦИСК (заглядывая через плечо Михаэлиса.)
Не этот ли?
МИХАЭЛИС
Родимое пятно.
Хорошенькое пятнышко, не боле.
Этот пассаж драмы «In nomine Domini» прекрасно коррелирует с записями Фидлера, о существовании которых Лохвицкая не знала, но, видимо, догадывалась. «То, что пишет Лохвицкая, – скорее порнография, чем поэзия», – записывает он мнение писателя-народника П.Ф. Якубовича[36]. Сам Фидлер, похоже, готов присоединиться к подобной оценке, однако прилежно переписывает наиболее откровенные стихи и тщательно фиксирует непристойные шутки писателей по этому поводу. При этом, насколько можно судить по сохранившимся письмам, Фидлер был одним из немногих, с кем Лохвицкая общалась и кого принимала в своем доме.
Зимой 1898–1899 годов созданы многие стихотворения, которые Бальмонт позднее включит в посвященный Лохвицкой цикл «Зачарованный грот» сборника «Будем как солнце» (1903). Бурные страсти этого периода отразились и в более раннем сборнике «Горящие здания» (1900). Однако к концу той зимы между поэтами произошел если не разрыв, то заметное отчуждение. Можно предположить, что конфликт был вызван отказом Лохвицкой воплотить в жизнь то, что было воспето в стихах (это не согласуется с признанием Бальмонта Фидлеру, но вполне согласуется с той страстной неудовлетворенностью, которой полны его стихи), или же связь, если таковая была, прекратилась.
В 1899–1900 годах Лохвицкая пишет драму «Бессмертная любовь», в которой сплетаются воедино уже намечавшиеся у нее «готические» мотивы. Главная героиня, Агнеса, замужем за графом Робертом, которого безумно любит. Но Роберт уезжает, оставив ее в тоске. В отсутствие Роберта в гости к ней приезжает его младший брат Эдгар, которым Агнеса увлекается под действием колдовского напитка забвения, который легкомысленно согласилась выпить в надежде облегчить душевную боль. В Эдгаре несомненно узнается Бальмонт. Впрочем, и Роберт похож на его «темного двойника». Заканчивается драма возвращением грозного Роберта и его жестокой расправой с женой, заподозренной в неверности. Умирая под пытками, Агнеса, «несчастная, но верная жена», прощает своего мучителя. В целом «Бессмертная любовь» предвосхищает литературу «темного фэнтези». В то же время в ней воплотилась мистика всепобеждающей, спасающей, торжествующей над смертью любви.
Та же идея выражена в «Сказке о принце Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной»:
Но и смерть не властна над любовью,
И любовь Джемали не погибла,
А зажглась лазурною звездою
Над широкой, мертвою пустыней.
И горит, горит звезда пустыни,
Все ей снится, что из синей дали
Вместе с ветром чей-то голос плачет:
«Любите ли вы меня, Джемали?»
Драматические сочинения и поэмы Лохвицкой успеха у читателей не имели, отраженная в них драма ее собственной души воспринималась с поразительным равнодушием. После разрыва с Бальмонтом и соответственно – отказа от темы страсти и чувственности Лохвицкая попыталась найти себя в религиозно-философской поэзии, но тут же обнаружилось, что на эти темы женщина тоже не имеет говорить, потому что ее внутренний опыт никем всерьез не воспринимается. Надо сказать, что это была скорее проблема читательского восприятия, чем самой поэтессы, мастерство которой значительно возросло по сравнению с первыми стихами. Но теперь у нее появились критики и читатели, которые хотели бы слышать продолжение «песен греха и страсти». Отзывы на III и IV тома ее собрания сочинений, которые художественно намного интереснее первых, почти исключительно критические.
В результате Лохвицкая оказалась в некоем вакууме. Она не находила понимания ни в семье, ни в литературном окружении, ни у читателей. Надо думать, что такое положение было для нее весьма тяжело, однако тяжелее всего был разрыв с другом, единомышленником и возлюбленным – Бальмонтом. Их встречи вновь прекратились, последняя, по-видимому, относится к 1901 году. Роковую роль сыграло, вероятно, то, что в отсутствии личного общения Бальмонт, продолжая стихотворную перекличку, не мог оценить чувств предмета своей страсти. Лохвицкая не случайно подметила, что в нем «нет участья». Роль палача, которую он охотно играет в стихах той поры, выглядит чудовищно при сопоставлении с той ролью затравленной жертвы, в которой нередко выступает лирическая героиня Лохвицкой (а в сущности – сама поэтесса).
Единственное письмо Бальмонта, сохранившееся в архиве Лохвицкой[37], официально по тону, не содержит ни приветствия, ни обращения и посвящено исключительно творчеству. Однако многое в нем читается между строк. Так, например, Бальмонт спрашивает Лохвицкую, каково ее впечатление от Гауптмана. Вероятно, имеется в виду переведенная им поэма «Потонувший колокол», которая стала для обоих поэтов еще одним предметом стихотворного диалога.
Посвящение Лохвицкой страстно-эротического цикла «Зачарованный грот», а на деле – практически всего сборника «Будем как солнце» (так как «солнечную» тематику первой открыла именно она в своем раннем стихотворении «К солнцу») было, как минимум, вопиющей бестактностью, что заметили даже критики Лохвицкой, такие, как обозреватель одиозно-официозной газеты «Новое время» В.П. Буренин: «Не знаешь, чему более удивляться: неприличию ли скандалиста, издевающегося над поэтессой, во всяком случае, талантливой, или его упадочной тупости, т. к. он не в состоянии понять, что г-же Лохвицкой “не поздоровится от этаких похвал”»[38]. О негативной реакции самой Лохвицкой на творчество Бальмонта этого периода свидетельствует Фидлер, записывая 30 декабря 1903 года: «Вчера и сегодня я наносил благодарственные визиты писательницам, принявшим участие в юбилейном обеде в мою честь <…> Лохвицкая сказала (сегодня) о Бальмонте, что как поэт он сделался банкротом, причем злостным, поскольку сам з н а е т, какую он пишет чушь»[39].
Сложно сказать, какие цели преследовал Бальмонт. Если не считать его алкоголических «отпадений», он не был жестоким человеком. Возможно, нарушая все границы и подвергая возлюбленную откровенному глумлению, он рассчитывал рано или поздно освободить ее от предрассудков, которыми, по его мнению, она была опутана. Во всяком случае, даже в этой ненависти было еще очень много любви. Это время триумфальных успехов Бальмонта, – как на поэтическом поприще, так и в личной жизни. Вполне благополучный брак со свободомыслящей Екатериной Андреевой совмещается у него с бесчисленными романами, один из которых – с Еленой Цветковской – оказался наиболее прочным. В отличие от душевно уравновешенной Андреевой, Цветковская готова была полностью погрузиться в миф, творимый Бальмонтом. Попутно Бальмонт ведет переписку с Брюсовым, где делится с ним сокровенными переживаниями, до конца непонятными со стороны, но, судя по многочисленным отсылкам к образам переклички с Лохвицкой, непосредственно связанными с ней. Неожиданная и реальная смерть Лохвицкой 27 августа 1905 года легла водоразделом в этой странной поэтической игре.
«Она рано умерла; как-то загадочно… Как последствие нарушенного равновесия ее духа… Так говорили…»[40] – писала в своих воспоминаниях приятельница Лохвицкой, Изабелла Гриневская. Действительно, трудно не заподозрить связи между депрессивным, нередко на грани отчаяния, настроением последних книг Лохвицкой и ее преждевременной кончиной. Дотошный Фидлер сохранил для истории и медицинское заключение из больницы, где причины смерти названы: сердечное заболевание, дифтерит и Базедова болезнь. Этот диагноз кое-что объясняет. Базедова болезнь, вероятно, в значительной мере обусловила то неуравновешенное душевное состояние, в котором пребывала поэтесса. Когда у нее развилась сердечная болезнь (в некрологе, написанном корреспонденткой «Московских ведомостей», Юлией Загуляевой, названа «сердечная жаба», то есть стенокардия), неизвестно, но если бы она была длительной, едва ли Лохвицкая могла бы родить пятерых детей. Последние два-три года жизни она действительно много болела. В записке, адресованной Фидлеру, от 3 января 1903 года. поэтесса жалуется, что «лишена возможности видеть кого бы то ни было, кроме докторов и сиделок»[41]. Но, по-видимому, состояние ее здоровья катастрофическим не было, потому что осенью 1904 года родился ее последний сын, Валерий. «Покойная была серьезно больна уже с декабря прошлого 1904 года, – писала в некрологе Лохвицкой журналистка Юлия Загуляева, – и порой с большим пессимизмом смотрела на свое положение, удивляясь, после ужасающих приступов боли и продолжительных припадков, что она еще жива». Возможно, роковую роль сыграла третья болезнь, упомянутая Фидлером: дифтерит, вследствие которого и наступила сердечная декомпенсация.
«На лето она переехала на дачу в Финляндию, – продолжает Загуляева, – и там, под влиянием чудесного воздуха, ей стало немного лучше, но недавно болезнь ее настолько обострилась, что пришлось не только перевезти ее в город, но даже поместить в клинику, чтобы дать полный покой, не достижимый дома. У покойной было пятеро детей (младшему из них всего год), и несмотря на то, что она была нежнейшей матерью, она не могла более выносить детского шума и крика. Последние дни ее жизни были сплошным мучением. Ни днем, ни ночью не знала покоя бедняжка от нестерпимо острых страданий, и наконец страдания эти приняли такой ужасающий характер, что пришлось прибегнуть к впрыскиваниям морфия. Под влиянием морфия больная и спала последние свои два дня… и так и скончалась, бессознательно заснула, не зная, что умирает…»[42]
Смерть Лохвицкой стала для всех неожиданностью несмотря на предшествующую продолжительную болезнь. Отчасти это говорит о том, что по-настоящему близких людей у нее в литературных кругах не было. Бальмонт, из друга ставший почти что врагом, продолжал страстно-воинственные нападки на «прекрасную колдунью» и «немую отшельницу», как он называл ее в стихах, но по-видимому, не подозревал, насколько его возлюбленная близка к роковой грани и насколько она нуждается в человеческом участии. Известие о ее кончине застало его в Прибалтике и на похороны он приехать в любом случае не мог.
Похороны Лохвицкой – на Никольском кладбище Александро-Невской лавры – описаны несколькими свидетелями. Все они констатируют поразительное малолюдство – все-таки, несмотря на спад популярности в последние годы, она была очень известной поэтессой и многие любили ее стихи. Наиболее убедительное объяснение этому дает Фидлер: «Объявление о смерти появилось лишь в “Новом времени” – эту газету многие бойкотируют; жирным шрифтом выделены фамилия Жибер и имя, данное при крещении – Мария; в назначенный час (и до, и после) с непроглядно серого неба лил сильный дождь»[43]. К этому надо добавить, что заметка была напечатана в самый день погребения, 29 августа. Это трудно объяснить как-то иначе, кроме как нежеланием родных (видимо, прежде всего, мужа) видеть эти похороны публичными. Эти похороны, а также сделанная впоследствии надпись на памятнике, сохранившаяся доныне: «Мария Александровна Жи-бер (М. Лохвицкая)» – как нельзя лучше объясняют ее семейную ситуацию. Внутренняя жизнь ее души, ее творчество в семейной шкале ценностей всегда отодвигались на второй план по сравнению с обязанностями жены и матери.
«Оба старших ее сына (гимназисты) держались совсем безучастно, – пишет далее Фидлер. – И только вдовец долго плакал над гробом, в котором лежала мертвая с искаженным лицом[44]; он целовал ей лоб, губы и руки. Надежда Александровна Бучинская (Тэффи) была, подобно остальным сестрам, облачена в траур, что никоим образом не отражалось на ее лице»[45].
К моменту смерти Мирры отношения между нею и Тэффи были настолько испорчены, что они не встречались совершенно, даже в гостях – и это все знали. Если в доме принимали одну, другой отказывали. В чем причина такой вражды и ограничивается ли она нарушением со стороны Тэффи давнего полудетского договора, неизвестно. Скорее всего, были какие-то другие причины. Может быть, Лохвицкая не одобряла развода сестры, которая сделала то, на что никак не могла пойти она сама: оставить детей мужу и предпочесть свободу и творчество. Сама Тэффи в воспоминаниях о Бальмонте вскользь рассказывает о своем знакомстве с ним «у сестры Маши» и о том, в каких комплиментах он перед ней рассыпался. Вероятно, здесь была затронута какая-то болевая точка.
Бальмонт вскоре все же побывал в Петербурге. Свободу его передвижения ограничивал запрет на въезд в столичные города, однако в сентябре 1905 года уже вовсю бушевала революция и визит внешне оказался связан и с этим. Андреева писала в воспоминаниях, что он участвовал в митингах и произносил речи, влезая на тумбы. Но это, если и было, осталось лишь внешней стороной. Поэт остановился тогда на еще не еще не ставшей знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова. По-видимому, они говорили о Лохвицкой, результатом этого общения стал ее некролог в журнале «Вопросы жизни», написанный Ивановым.
Его взгляд близок к позиции Бальмонта: «В ней была древняя душа, страстная и простая, не страдающая расколом духа и плоти, а глубина ее была солнечная глубина, исполненная светом, и потому не казавшаяся глубиной непривычному взгляду»[46].
Бальмонт, по-видимому, был потрясен смертью возлюбленной, но еще не отошел от прежней ненависти и высказывал вещи весьма противоречивые. «Лохвицкая – красивый романс»[47] – равнодушно пишет он Брюсову. Осенью 1905 года он пишет стихи, составившие сборник «Злые чары», который вышел в 1906-м году. Само название – не просто словесное клише, но один из ключевых образов стихотворной переклички Бальмонта и Лохвицкой.
Еще один биографический момент, который едва ли можно отнести к числу случайных совпадений: после смерти Лохвицкой Бальмонт не возвращается к Андреевой, хотя всячески заверяет ее в неизменности своих чувств. Отныне его постоянной спутницей до конца жизни становится Елена Цветковская, с которой в конце 1905 года он уехал за границу. В 1907 году у них рождается дочь Мирра. Для Бальмонта, по-видимому, это было не просто увековечение памяти поэтессы в имени дочери, это была своего рода реинкарнация. Мирре Бальмонт от рождения было определено стать поэтессой и она действительно впоследствии стала писать стихи, но ее жизнь в итоге оказалась совершенно искалечена этим навязанным ей от рождения чужим мифом. Однако у Бальмонта была своя логика. Предпочтение Елены Цветковской Екатерине Андреевой, вероятно, и было связано с тем, что первая готова была жить в его мифе, вторая – нет, и к тому же именно Андрееву Лохвицкая считала своей соперницей.
Сборники Бальмонта 1906–1912 годов – «Злые чары», «Птицы в воздухе», «Зеленый вертоград», «Зарево зорь» – полны созидаемым мифом о возлюбленной, утраченной но вечно живой. Эмоциональное напряжение в них очень сильно, не исключено, что вторая в жизни попытка самоубийства, предпринятая поэтом в 1909 году, обусловлена теми же переживаниями. В стихах этих лет продолжается тот же интертекст, полный аллюзий на поэзию Лохвицкой, но малопонятный вне контекста. Читательская публика, от которой Лохвицкую уже заслонили собой поэты нового поколения, более значительные и яркие, уже не улавливала этих аллюзий, и Бальмонт тоже начал терять свою популярность: у него видели лишь самоповторы, уже лишенные прежней энергии. Однако его творчество развивалось по собственным законам. Подлинный расцвет его поэзии, до сих пор не оцененный по достоинству, был еще впереди – он приходится на послереволюционную эмиграцию.
В 1913 году Бальмонт вернулся в Россию и поселился в Петербурге. Было ли в этом выборе желание быть ближе к могиле Лохвицкой, неизвестно, однако до нас дошло еще одно его признание, сделанное все тому же Фидлеру, который записал 13 ноября 1913 года: «Вчера вечером, без четверти одиннадцать, когда я уже ложился спать на оттоманке в моем кабинете, явился Бальмонт со своей Еленой. Он был совершенно трезв. <…> О Мирре Лохвицкой (мы были одни в кабинете, снова утратившем спальный вид) Бальмонт сказал, что любил ее и продолжает любить до сих пор: ее портрет сопровождает его во всех путешествиях»[48]. Этот портрет (среди портретов других любимых женщин) останется при нем до конца его жизни. В своих стихах он продолжает тот же интертекст и поздние его произведения намного глубже и драматичнее ранних:
Велика пустыня ледяная,
Никого со мною в зорком сне.
Только там, средь звезд, одна, родная,
Говорит со мною в вышине.
Та звезда, что двигаться не хочет,
Предоставя всем свершать круги,
В поединке мне победу прочит
И велит мне: «Сердце сбереги»
(«Поединок»)
Несомненно, речь идет о той же «звезде пустыни», о которой Лохвицкая писала в своей странной сказке, где все герои погибли, но любовь их все же не пропала напрасно. В поздних стихах Бальмонта мерцают все те же цвета «расцветов»: «желтый – красный – голубой», – или пара, тоже обыгранная в перекличке: «зеленый – красный», – цвет жизни и цвет смерти. Давно умершая возлюбленная, его Аннабель Ли, ждет лирического героя в саркофаге, чтобы им навеки упокоиться вместе.
И вот восходит звезда морская,
Маяк вечерних, маяк ночных.
Я сплю. Как чутко. И ты – живая,
И я, весь белый, с тобою тих
(«Белый луч»)
Именно это когда-то предсказала Лохвицкая:
Мне снилось – мы с тобой дремали в саркофаге,
Внимая, как прибой о камни бьет волну.
И наши имена горели в чудной саге
Двумя звездами, слитыми в одну
(«В саркофаге»)
Принято думать, что Лохвицкую забыли вскоре после смерти (об этом, в частности, говорит Бунин в воспоминаниях о ней). Однако это не совсем так. Официально новой поэзией она была отвергнута. Брюсов даже не поместил в «Весах» посвященного ей некролога. Однако это было не невнимание к ней как к персоне незначительной, а сознательно и не без колебаний принятое решение. Дело в том, что некролог ее Брюсов задумал, но не дописал: он остался в черновиках. Назывался он «Памяти колдуньи» и начинался словами: «Творчество Лохвицкой – неизменная, неутолимая тоска [жажда] по не-земному, не-здешнему». Не исключено, что он не стал печатать этот некролог именно потому, что не хотел, чтобы Лохвицкую опознали в его Ренате (он как раз работал над «Огненным ангелом» и был захвачен подпитывающими работу страстями). Через пять лет он задним числом включит в сборник «Далекие и близкие» другой некролог, о котором мы упоминали вначале. Но в целом его негативная оценка творчества Лохвицкой не изменится, а приобретшее авторитет мнение окажет существенное влияние на восприятие ее в модернистской среде. С тех пор о Лохвицкой не было принято говорить иначе, как с пренебрежением, хотя аллюзии на ее поэзию присутствуют у многих поэтов Серебряного века и даже более позднего времени: от Блока и Гумилева, Ахматовой и Цветаевой – вплоть до Бродского. Однако эта преемственность, как правило, не афишировалась.
Единственным, кто открыто признавал влияние Лохвицкой, был Игорь-Северянин, посвятивший памяти Лохвицкой множество стихов и перепевший множество ее мотивов.
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
Он в душе у меня, твой лазоревый стих!
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов.
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
Он в душе у меня, твой пылающий стих!
Он в душе у меня, твой скрижалевый стих!
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
И в душе у меня, твой надсолнечный стих:
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
(«Рондолет»)
Северянин даже создал своеобразный культ Лохвицкой и назвал ее именем вымышленную страну – Миррэлию. Но при том, насколько эпатажной была его собственная манера и неоднозначной – его собственная слава, авторитета Лохвицкой это не прибавило.
После революции в России Лохвицкую, разумеется, не издавали по идеологическим причинам, причем отчасти потому, что ее фамилия оказалась под запретом из-за брата, генерала Лохвицкого, видного участника Белого движения. Отдельные подборки ее стихов входили в антологии, – здесь можно отметить издание «Поэты 1880-х – 1890-х гг.» Большой серии Библиотеки поэта и сборник «Русские поэтессы XIX в.», подборка в котором, пожалуй, наиболее удачна. Эмиграция также не обнаружила интереса к наследию Лохвицкой, хотя ее продолжали помнить как сестру знаменитой Тэффи. Сама Тэффи, по-видимому, так и не простила ей своих обид и ничего о ней не написала.
К величайшему сожалению, та исключительная жертва, которую Лохвицкая принесла своей семье, предпочтя интересы детей – собственным, не обеспечила благополучия и счастья ее сыновьям. Их судьбы драматичны, как драматична вся история их поколения. Старший, Михаил, участник Белого движения, эмигрировал сначала во Францию, потом в США, но уже в старости, в 1967 году, покончил с собой, будучи не в силах пережить смерть любимой жены. Два средних сына, – Евгений, вопреки материнским надеждам, так и не ставший поэтом, и Владимир – остались в России и умерли в Ленинграде во время блокады.
Особенно трагично сложилась жизнь четвертого сына Лохвицкой, Измаила. Он также прошел фронты гражданской войны и оказался в эмиграции, где судьба свела его с семьей Бальмонта. Кажется, что такие истории невозможны в жизни и бывают только в романах, однако это случилось в реальности: сын Лохвицкой влюбился в дочь Бальмонта Мирру, «новое воплощение» своей матери, и, отвергнутый ею, покончил с собой в возрасте двадцати четырех лет. Эта драма косвенно отразилась в рассказе Тэффи «Майский жук», хотя никаких биографических выводов из него сделать нельзя.
Судьбы младшего сына Лохвицкой, Валерия, а также ее мужа, неизвестны. Никто из родственников ничего о ней не написал – потомки тех, кто остался в России, порой даже не знали об этом родстве. Так, уже будучи взрослым человеком, открыл для себя родство с поэтессой внук ее младшей сестры Елены, Николай Иванович Пландовский-Тимофеев, в недавние годы восстановивший ее надгробный памятник на Никольском кладбище.
«Стихотворения Лохвицкой не были оценены по достоинству и не проникли в “большую публику”, – писал в ее некрологе М.О. Гершензон, – но кто любит тонкий аромат поэзии и музыку стиха, те сумели оценить ее замечательное дарование и для тех ее недавняя смерть была утратой… Прежде всего, очарователен стих Лохвицкой. Вся пьеса удавалась ей сравнительно редко: она точно не донашивала свой поэтический замысел и воплощала его часто тогда, когда он в ней самой еще не был ясен. Но отдельная строфа, отдельный стих часто достигают у нее классического совершенства. Кажется, никто из русских поэтов не приблизился до такой степени к Пушкину в смысле чистоты и ясности стиха, как эта женщина-поэт; ее строфы запоминаются почти так же легко, как пушкинские»[49].
Несмотря на весьма консервативную позицию российского литературоведения, почему-то канонизировавшего фактическое исключение Лохвицкой из истории русской литературы и не стремящегося к исправлению этой ошибки, вопрос этот по-прежнему остается насущным. За последние десятилетия дело слегка сдвинулось с мертвой точки, появилось несколько исследований ее творчества, причем сначала – на Западе. По словам В.Ф. Маркова, «жгучий, женственный стих» Лохвицкой «определенно требует внимания и реабилитации». Марков также назвал ее «кладезем пророческих предвосхищений». «Ее любовь к Солнцу опередила Бальмонта лет на десять (знаменитое “Солнца! Дайте мне солнца! Я к свету хочу!..”) <…> до Бальмонта она воспевала Майю и интересовалась русским фольклором и Египтом. Но она писала и о “канатной плясунье” (и об “одиночестве вдвоем”) до Ахматовой, ставила в стихи “дождь” и “плащ” до Юрия Живаго и употребляла слова вроде “теревинф” до Вячеслава Иванова; у нее даже есть слабые предвестия Цветаевой»[50]. Однако рецепция ее в последующей литературе еще ждет своих исследователей и здесь возможны потрясающе интересные открытия. Помимо тех отголосков, которые уже были упомянуты выше, можно назвать и другие. К примеру, разве не очевидна параллель между летающими колдуньями Лохвицкой, одну из которых зовут Мюргит, и булгаковской Маргаритой? То, что Лохвицкую мало упоминают, ни о чем не говорит: при той негативной репутации, которая была создана вокруг ее имени, читатели (и особенно читательницы) часто просто не желали идти против устоявшегося мнения, навлекая на себя обвинения в дурном вкусе, а между тем втайне отыскивали ее стихи и увлекались ими. Право утверждать это пишущей эти строки дает ряд признаний, полученных от разных лиц в ходе многолетних исследований творчества поэтессы.
Итак, выпуская в канун 150-летия рождения поэтессы полное собрание ее сочинений, мы надеемся, что путь ее в «большую публику» только начинается.
Т.Л. Александрова
1
Александрова Т.Л. Истаять обреченная в полете. Жизнь и творчество Мирры Лохвицкой. СПб., 2007.
2
«Уместно здесь вспомнить, что творчеством рано ушедшей поэтессы была увлечена в юные годы Марина Цветаева, – мне довелось держать в руках три тома М.А. Лохвицкой со многими маргиналиями на книжных полях, сделанными ее рукой» (Марков В.Ф. Лохвицкую называли «Русской Сафо» // Русская словесность. 1993. № 5. С. 80).
3
На эту мысль наводит имя родственника М. Лохвицкой, упомянутого в свидетельстве о ее венчании, хранящемся в собрании Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея: Лев Иосифович Лохвицкий. За эти сведения приношу благодарность Тамаре Алексеевне Александровой.
4
А.В. Лохвицкий. Некролог // Московские ведомости. 1884. № 135.
5
«Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей», собрал Ф.Ф. Фидлер. М., 1911. С. 204.
6
Тэффи Н.А. Как я стала писательницей // Тэффи. Проза. Стихи. Пьесы. Воспоминания. Статьи. СПб., 1999. С. 334.
7
Александрова. Истаять обреченная в полете. С. 28.
8
Исторический вестник. 1905. № 10. С. 358–359.
9
Ясинский И. Роман моей жизни. М., 1926. С. 259.
10
Биржевые ведомости. 1905, 30 августа.
11
Немирович-Данченко В.И. Погасшая звезда // Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. Воспоминания. М., 2001. С. 117. Полностью очерк см. в 3-м т. наст. изд.
12
Немирович-Данченко В.И. Погасшая звезда // Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. Воспоминания. М., 2001. С. 117.
13
Немирович-Данченко В.И. Погасшая звезда // Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. Воспоминания. М., 2001. С. 126.
14
Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: характеры и суждения / пер. с нем., указ. и примеч. К.М. Азадовского. М., 2008. С. 230.
15
За предоставление сведений автор приносит благодарность Тамаре Алексеевне Александровой.
16
Поселянин Е. Отзвеневшие струны // Московские ведомости. 1905, 15 сентября. № 253.
17
Ясинский. Указ. соч. С. 260.
18
Бунин в воспоминаниях называет ее «большой домоседкой», но это, по-видимому, «выученная беспомощность» от слишком продолжительной невозможности уехать.
19
Сведения, приведенные в моей книге «Истаять обреченная в полете» (с. 68), почерпнутые в календаре «Весь Петербург», согласно которым он был инженером-архитектором, ошибочны; Е.Э. Жибера, по-видимому, перепутали с одним из его братьев.
20
Мирра Лохвицкая. Неопубликованные стихотворения, переписка, воспоминания о ней (1890–1920-е) / Публикация Т.Л. Александровой // Российский архив. XIV. М., 2005. С. 568.
21
Волынский А.Л. Русские женщины // Минувшее. Т. 17. М.; СПб., 1994. С. 237–238.
22
Бунин И.А. Собр. соч. в 9 т. Т. 9. С. 289. Полностью очерк см. в 3-м т. наст. изд.
23
Бунин И.А. Собр. соч. в 9 т. Т. 9. С. 290.
24
Там же. С. 211–212.
25
Бунин И.А. Собр. соч. в 9 т. Т. 7. С. 246.
26
Семенов М. Вакх и сирены. М., 2008. С. 227.
27
«Царь Соломон» в драме «На пути к Востоку», «Маг Сильвио» в драме Вандэлин – нет ли здесь намека на Владимира или Всеволода Соловьева?
28
Брюсов. Дневники. Письма. Автобиографическая проза. М., 2002. С. 46.
29
Там же. С. 45.
30
Там же. С. 46.
31
Брюсов. Дневники. Письма. Автобиографическая проза. М., 2002. С. 63.
32
Ср. запись Фидлера о Лохвицкой: «Декламировала другие свои стихи, причем Зина Мережковская – во время чтения – отвернулась с выражением плохо скрываемой зависти». (Фидлер. Из мира литераторов… С. 233.)
33
Фидлер запечатлел в записях свой диалог с Лохвицкой: «Считаете ли Вы, что второй том Ваших стихотворений лучше первого?» – «Во втором такое количество эротики, что э т о п р о с т о н е п р и л и ч н о!» (Фидлер. Из мира литераторов… С. 230.)
34
Фидлер. Из мира литераторов… С. 233.
35
Фидлер. Из мира литераторов… С. 249.
36
Фидлер. Из мира литераторов… С. 312.
37
Мирра Лохвицкая. Неопубликованные стихотворения, переписка… С. 586.
38
Буренин В.П. Критические очерки // Новое время. 1904, 9 января.
39
Фидлер. Из мира литераторов… С. 364.
40
Гриневская И.А. Я среди людей мира или мой энциклопедический словарь // Российский архив. XIV. С. 591.
41
См.: Александрова. Истаять обреченная в полете… С. 208–209.
42
Загуляева Ю. Петербургские письма // Московские ведомости. 1905, 7 сентября. № 245. Полностью очерк см. в 3-м т. наст. изд.
43
Фидлер. Из мира литераторов… С. 413.
44
Выражение лица умершей описывала Загуляева: «Выражение лица покойной было какое-то странное: полуоткрытый рот точно улыбался, тогда как верх застывшего лица был сосредоточенно серьезен».
45
Там же.
46
Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 292.
47
Литературное наследство. Т. 98. В.Я. Брюсов и его корреспонденты. Ч. 1. С. 168.
48
Фидлер. Из мира литераторов… С. 615.
49
Гершензон М.О. Рецензия на сб. «Перед закатом» // Вестник Европы. 1908. № 7. C. 338.
50
Markov V. Kommentar zu den dichtungen von K.D. Bal’mont, 1890–1919. Köln, Wien, 1988. S. 157.