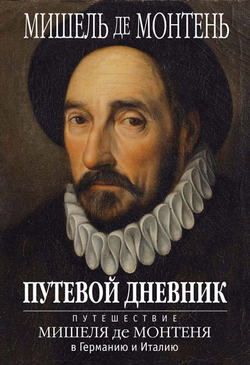Читать книгу Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию - Мишель Монтень, Мишель де Монтень, Мишель Эке́м де Монтень - Страница 3
Предисловие Менье де Керлона, первого издателя «Путевого дневника» Монтеня
ОглавлениеI
В главе IX третьей книги «Опытов» Монтень упоминает о своих путешествиях и, в частности, о посещении Рима. Он даже подробно сообщает о римском гражданстве, которое было даровано ему «хранителями римского народа». Так что было вполне известно: Монтень совершил путешествие по Швейцарии, Германии, Италии, но вызывало удивление, почему наблюдатель такого масштаба, писатель, наполнивший свои «Опыты» множеством домашних и личных подробностей, ничего не написал об этой поездке. Однако, поскольку за сто восемьдесят лет, миновавших после его смерти, никаких ее следов так и не обнаружилось, о ней просто перестали думать.
Г-н Прюни, каноник Шанселадского аббатства[1] в Перигоре, объезжал эту провинцию, разыскивая документы, имевшие касательство к ее истории. Заглянул он и в старинный замок Монтень[2], которым владел г-н граф де Сегюр де ла Рокет[3], чтобы порыться в его архивах, буде таковые там окажутся. Ему показали старый сундук, заключавший в себе давно преданные забвению бумаги, и позволили их просмотреть. И вот совершенно неожиданно он обнаружил там оригинал рукописи «Путешествия Монтеня», возможно, существовавший в единственном экземпляре. Он получил от г-на де Сегюра дозволение подвергнуть манускрипт всестороннему обследованию. И, убедившись наконец в подлинности этого драгоценного посмертного произведения Монтеня, совершил поездку в Париж, дабы вдобавок заручиться свидетельствами сведущих людей. Рукопись была изучена различными учеными и литераторами, а главное – г-ном Каперонье, хранителем Королевской библиотеки, и «Дневник путешествия» был единодушно признан автографом Монтеня. Этот манускрипт представляет собой небольшой том in folio в сто семьдесят восемь страниц. Прежде всего и почерк, и бумага неоспоримо относятся к концу XVI века. Что касается языка, то ошибиться невозможно: здесь вполне узнаваемы простодушие, искренность, а также выражения, на которых словно лежит печать самого Монтеня. Часть рукописи (примерно треть) написана рукой слуги, очевидно, выполнявшего при Монтене также обязанности секретаря, который всегда говорит о своем хозяине в третьем лице, но очевидно, что он писал под его диктовку, поскольку тут встречаются все эгоизмы Монтеня – характерные, присущие только ему обороты, которые вырываются у него, даже когда он диктует, выдавая его с головой. Весь остаток «Дневника» написан его собственной рукой, тут Монтень говорит непосредственно от первого лица (мы сличили почерк), однако больше половины этой части он изъясняется по-итальянски. На тот случай, если бы возникли какие-либо сомнения в подлинности рукописи, а также чтобы прибегать к ней в случае надобности, она была помещена в Королевскую библиотеку. Добавим для точности, что в ее начале не хватает одного или нескольких листков, которые, похоже, были вырваны.
Если рассматривать это посмертное произведение Монтеня только как некий исторический памятник, представляющий состояние Рима и значительной части Италии таким, каким оно было в конце XVI века, оно уже имело бы неоспоримую ценность. Но манера письма Монтеня, его энергичность, правдивость, искренность его философского ума и его гений, пропитывая собой все его идеи, воспринятые или произведенные его собственным разумом, делают «Дневник» еще более драгоценным.
Однако, чтобы иметь возможность представить это произведение публике, сначала требовалось расшифровать его и сделать с него разборчивую копию. Шанселадский каноник уже скопировал манускрипт и даже перевел всю итальянскую часть, но его копия грешила многими ошибками и пропусками, от которых весьма часто страдал смысл, а перевод с итальянского был еще менее пригоден. Так что для начала мы поработали, чтобы переписать рукопись как можно точнее, ничего не опуская и не изменяя ни единого слова.
Эта первая операция не обошлась без трудностей как из-за плохого почерка слуги, который держал перо вплоть до самого Рима, так и из-за того, что и сам Монтень не очень-то охотно следовал правилам правописания, благодаря «Опытам» нам слишком хорошо известна его небрежность на сей счет[4]. Однако более всего трудными для чтения оба этих почерка делает в основном их орфография, потому что трудно вообразить себе что-нибудь более причудливое, беспорядочное и несогласованное, нежели то, что имеется в этой рукописи. Потребовалось много терпения и времени, чтобы преодолеть все трудности. Затем новая копия была тщательно вычитана, выверена и сличена с оригиналом, и сам г-н Каперонье уделил этому наибольшую заботу.
После того как эта копия была передана в типографию, назрела необходимость добавить примечания, дабы разъяснить смысл старых и давно вышедших из обихода слов либо прояснить историю и дать, насколько возможно, необходимые сведения о людях, упомянутых Монтенем; однако мы постарались сделать свои примечания ни чересчур многословными, ни чересчур многочисленными. Впрочем, как мы увидим, и невозможно было еще больше увеличить количество комментариев, вдобавок обременяя их собственными размышлениями. Ограничившись чистой необходимостью, мы хотели избежать избытка пространных, излишне эрудированных и даже философических примечаний, которые порой расточают, забывая об авторе, чьи слова, собственно, и следует истолковать, а также без большой пользы для читателей, ищущих именно этого, а вовсе не чего-либо другого. Возможно, и не требовалось заурядное безразличие, чтобы воспротивиться искушению и не отдаться всем идеям Монтеня, самому его воодушевлению, комментируя написанное им; и я не знаю, стоит ли тут говорить более о том, от чего мы воздержались, нежели о действительно проделанной нами работе. Во всяком случае, мы не можем умолчать о своем долге по отношению к г-ну Жаме-младшему, весьма образованному литератору, от которого мы получили большую помощь, в основном касавшуюся примечаний, многие из которых принадлежат ему[5].
Однако, без всякого сомнения, наибольших трудов нам стоила та часть «Дневника», которая написана Монтенем по-итальянски. Она была еще труднее для чтения, чем французский текст, как из-за своей дурной орфографии, так и из-за слишком вольного обращения с чужим языком, в результате чего он оказался переполнен массой словечек из различных наречий и галлицизмами[6]. Только итальянец мог расшифровать эту часть и привести ее в порядок, сделав вразумительной. По счастью, пока печатали первый том, в Париже находился г-н Бартоли, антиквар короля Сардинии, недавно избранный ассоциированным членом Королевской академии надписей и изящной словесности. Он-то и пожелал взяться за эту работу, не только переписав собственной рукой эту часть, но еще и добавив к ней грамматические примечания, как мы делали с французским текстом, и даже несколько исторических: отсюда следует, что вся итальянская часть отпечатана с его копии. И именно с этой копии, учтя также многочисленные поправки, внесенные им в перевод г-на Прюни, мы сделали нашу собственную переводную версию, не слишком рабски-буквально следуя итальянскому Монтеня, что могло бы привести к нелепостям. В остальном же «Дневнике» все выражения французского текста были нами тщательно сохранены; мы даже довели свою скрупулезность до того, что полностью передали всю орфографию Монтеня и его секретаря, чтобы никто не смог заподозрить нас в малейшем искажении текста; и мы действительно ничего подобного себе не позволяли.
II
Потеря одного или нескольких листков, которых не хватает в начале рукописи, наверняка незначительна. Поскольку наш путешественник уехал из своего замка 22 июня 1580 года (как он нарочно это отмечает в конце «Дневника»), задержался на какое-то время при осаде Ла Фера, организованной маршалом Матиньоном для Лиги и начатой ближе к концу того же июня[7], а когда там был убит граф де Грамон[8], он с другими друзьями сопроводил тело погибшего в Суасон[9]. 5 сентября он находился только в Бомоне-на-Уазе, откуда и отбыл в Лотарингию. Тем не менее эта лакуна не позволяет нам узнать ни обстоятельств его отъезда, ни подробностей происшествия с ранением безвестного графа (быть может, во время той же осады), проведать которого Монтень отправил собственного брата[10], наконец, ни количества, ни имен всех участников путешествия. Вот те, о ком продолжение «Дневника» нам даст некоторое знакомство, это: 1) брат Монтеня сьер де Матекулон, который во время своего пребывания в Риме ввязался в дуэль, о которой Монтень упоминает в добавлении к II книге «Опытов», гл. 37, но ничего не говорит о ней в самом «Дневнике»; 2) г-н д’Эстиссак, возможно, сын дамы д’Эстиссак, которой он в той же книге посвящает главу VIII «О родительской любви к детям» (это был наверняка молодой человек, поскольку папа римский во время аудиенции, на которой он был принят, призвал его «усердствовать в изучении добродетели»); 3) г-н де Казалис, который покинет их общество в Падуе; 4) г-н дю Отуа, лотарингский дворянин, который совершил путешествие вместе с Монтенем[11]. Из описаний этой поездки видно, что она совершалась либо в наемных повозках, которые использовались тогда скорее для перевозки багажа, нежели людей, либо (чаще всего) верхом на лошади – как путешествовали в то время и к чему особенно имел склонность сам Монтень, который никогда не чувствовал себя лучше, нежели «сидя в седле»[12].
Монтень родился живым, кипучим, полным огня; он ни в коем случае не был оседлым созерцателем, как могли бы подумать те, кто представляет его себе исключительно в домашней библиотеке, занятого сочинением «Опытов». Его молодость была весьма насыщенной. Смуты и волнения, свидетелем которых он был при пяти сменявших друг друга королях вплоть до воцарения Генриха IV, не смогли погасить в нем эту живость, эту порождающую любопытство неуемность ума, поскольку они отмечают собой даже самые холодные головы. Он путешествовал по королевству и, что подчас было ценнее путешествий, очень хорошо знал Париж и двор. Его любовь к столице изливается в III книге «Опытов», в гл. 9. Жак Огюст де Ту в «Частных мемуарах своей жизни» (De vità suâ. Lib. 3.) сообщает, что Монтень обхаживал одновременно слишком знаменитого герцога де Гиза – Генриха Лотарингского, и короля Наваррского, ставшего впоследствии Генрихом IV, королем Франции. И добавляет, что в 1588 году он сам присутствовал на заседании Генеральных штатов в Блуа, когда там был убит герцог де Гиз. Так вот, по его словам, Монтень предвидел это и даже сказал, что смута в государстве сможет закончиться только смертью одного из двоих: либо герцога де Гиза, либо короля Наваррского. Он прекрасно разгадал намерения обоих принцев и говорил своему другу де Ту, что король Наваррский уже совсем готов вернуться к религии своих отцов (то есть к римскому причастию) и опасается только быть покинутым своей партией, а герцог де Гиз со своей стороны не слишком далек от Аугсбургского исповедания[13], склонность к которому внушил ему собственный дядюшка, кардинал Лотарингский, и существовала реальная угроза, что он к нему примкнет. Из «Опытов» (кн. III, гл. 2) видно, как Монтень вел себя с представителями различных партий. Так что он вполне был искушен в делах и наделен проницательностью, которая требовалась, чтобы принять в них участие, если бы захотел в это вмешаться; однако, по счастью, ему удавалось сохранять философскую отрешенность во времена самых опасных испытаний.
Когда особая склонность Монтеня к философствованию меньше выражена в «Опытах», становится очевидным его своеобразное и весьма пространное знание людей, неизбежно предполагающее как действие, так и опыт: ведь людей не разгадывают в тиши своего кабинета, в их души проникают, лишь приближаясь к ним, рассматривая с очень близкого расстояния. Так и страсть к путешествиям вполне естественна у философа, которому любопытно познакомиться с другими нравами и другими людьми, нежели те, что его окружают. Правда, он сделает это немного поздновато, по крайней мере, для того путешествия, о котором повествует, поскольку ему сорок семь лет, – таким образом он оправдывается, что совершил его уже женатым и старым.
«Дневник» ничего нам не сообщает ни о точной цели этого последнего путешествия, ни о причине, побудившей Монтеня покинуть родной очаг, оставить жену и дочь в тревогах из-за довольно долгого отсутствия главы семьи (им обеим суждено пережить его), поскольку, к слову сказать, наш философ был хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим братом и т. д.[14]. Однако нам кажется очевидным, что отнюдь не одно лишь любопытство увидеть Германию и Италию побудило Монтеня предпринять эту семнадцатимесячную прогулку. Тут явно присутствовал вопрос о собственном здоровье. Он стал больным человеком – мочекаменная болезнь с ее коликами, либо наследственная, либо приобретенная из-за расточительства лет, оставляла ему в то время весьма мало возможностей расслабиться. Он совершенно не верил в медицину и сторонился врачей, что засвидетельствовано в его «Опытах»[15]. Использование минеральных вод в качестве ванн, душа и питья было, по его мнению, самым простым и надежным лечением. Он уже побывал в самых известных водолечебницах Франции, а теперь захотел испытать воды Лотарингии, Швейцарии и Тосканы. Этот план и определил в основном цель его поездки; мы видим его в беспрестанных заботах о своем слабом здоровье, видим, как он исследует все сколько-нибудь известные минеральные воды и пробует их: именно это нравилось ему более всего[16]. Однако мы не можем скрыть: постоянная склонность Монтеня к поиску этих вод не добавляет занимательности его «Дневнику»; порой он даже становится из-за этого скучным и не слишком приятным. Но не надо относиться к нему как к произведению, которое сам Монтень имел хоть малейшее намерение сделать доступным для публики. Похоже, что он вел его (в том числе и своей рукой) лишь для того, чтобы отметить для самого себя то, что он видел и делал, запечатлеть маленькие происшествия, касавшиеся его собственной особы. Если бы он хотел опубликовать его, то наверняка избавил бы нас от всех подробностей своего лечения и особенно своего долгого пребывания на водах Лукки и Виллы, которые могли быть интересны лишь ему самому. Мы могли бы опустить их, и такая мысль действительно нас посещала. Но это значило бы исказить подлинник; повествование Монтеня уже утратило бы свою полноту и цельность, и при сокращении малейшей подробности нас заподозрили бы в том, что мы допустили изъятие и других. Так что мы приняли наиболее верное решение, состоявшее в том, чтобы опубликовать произведение таким, каким оно было в оригинале, то есть без малейших опущений и утаиваний. Если все детали подобного рода, которыми буквально нашпигованы «Опыты», нисколько не мешают тому, чтобы их читали, а читатели не без оснований предпочитают наиболее полные издания всем этим «Выдержкам» и «Извлечениям» из Монтеня, то, поступая так прежде, они вполне могут сделать, да и наверняка сделают, то же самое и с этим «Дневником». У тех, кто заскучает над подробностями пломбьерских или луккских водолечебниц, всегда остается возможность избавить себя от их чтения – и они перестанут существовать для них. Мы предупреждаем их заранее и добавим к тому же, что весь эгоцентризм, в котором упрекают «Опыты», имеется и в этом «Дневнике». Тут мы увидим только Монтеня, он говорит исключительно о себе; все почести достаются только ему; его спутники по путешествию, за исключением г-на д’Эстиссака, здесь почти не упоминаются, и в конце концов создается впечатление, что он путешествует один и ради себя одного. Правда, сопровождавшее его общество не всегда следует за ним в его отклонениях от маршрута, и особенно на воды. Уже это маленькое наблюдение почти позволяет понять характер «Дневника», который вскоре будет развит.
Поскольку воды Лотарингии, Швейцарии и Италии отнюдь не были единственной целью путешествия, описание которого прочитает читатель (хотя действиями Монтеня руководило в основном желание испробовать все), надо установить, какую часть в этом занимали красоты страны, притягательность искусства и монументов, интерес к древности, к чужим нравам и т. д., и т. д.
III
Во время путешествия Монтеня в Италию (1580 год) эта прекрасная страна, усеянная античными руинами и обломками, уже два века как была родиной искусств. Ее обогатили своими трудами Палладио, Виньола, Микеланджело, Рафаэль, Джулио Романо, Корреджо, Тициан, Паоло Веронезе, Тинторетто и т. д. Правда, Алессандро Альгарди, Гвидо Рени, Франческо Альба-ни, Доменикино, Джованни Ланфранко, Пьетро да Кортона, Аннибале Карраччи и целая толпа других великих мастеров, близко следовавших за первыми, тогда еще не произвели бессчетное множество произведений во всех жанрах, которые ныне украшают церкви и дворцы Италии. Правившего тогда папу, Григория XIII, занимали скорее строительные работы и прочие общеполезные предприятия, нежели искусства, украшательство и развлечения. Сикст V, его преемник, избранный через четыре года после путешествия Монтеня, гораздо больше украсил Рим за шесть без малого лет, что длилось его правление, чем Григорий XIII за двенадцать лет своего понтификата. Тем не менее эта столица, равно как Флоренция, Венеция, а также многие другие города, где побывал Монтень, уже имела чем привлечь внимание путешественников – своими богатствами и всевозможными монументами, которыми наполнили ее искусства. Так что Монтеню было чем себя занять. Мог ли человек с таким живым воображением, которое сквозит в его «Опытах», и со столь выразительным слогом равнодушно взирать на окружавшие его искусства Древней Греции? Если «Дневник» его путешествия содержит мало описаний статуй[17], картин и других достопримечательностей, которыми пестрят описания всех современных путешественников, бо́льшая часть которых повторяет или копирует друг друга, то потому лишь, что в то время у него имелись книги, где все это было; а еще потому, что он любовался всем этим только для себя или же в его план наблюдений не входило записывать впечатления, которые предметы искусства оказывали на него, а также обременять себя познаниями, обладание которыми он оставлял самим художникам. Однако похоже, что все руины, оставшиеся после римлян, его необычайно поражали.
Именно здесь он искал римский гений, который был для него столь реальным, столь явственно ощутимым, что он видел и чувствовал его, как никто другой, в знакомых ему произведениях римлян, а особенно в трудах Плутарха. Он замечал, как этот гений все еще дышит под обширными развалинами былой столицы мира. Никогда и никто, быть может, не постигал Рим так же глубоко, как он в своих прекрасных размышлениях о его гигантской могиле. По меньшей мере несомненно, что в огромном количестве рассказов и описаний, сделанных на всех языках о древних руинах и обломках великого города, ничто не приближается к этому красноречивому отрывку, ничто не дает столь полное представление о средоточии Римской империи.
Прежде чем прочесть эти размышления, посмотрим, как Монтень с картами и книгами изучал город, и тогда мы поймем, что мало путешественников и до него, и даже после него смогло лучше увидеть Рим. К тому же нельзя сомневаться, что он разделил свое внимание между древним Римом и новым, одинаково хорошо изучил останки римского величия и современные ему церкви, дворцы, сады со всем тем, чем они уже были украшены. Столь малое количество описаний Рима и его окрестностей, сделанных в его «Дневнике», наводит на мысль, что ему не хватало вкуса к искусству, но она будет явно ошибочной, поскольку, чтобы не брать на себя эту задачу, он, как уже было сказано, отсылает нас к книгам. С тех пор облик Рима изменился, но нам показалось любопытным сопоставить его описание, каким бы оно ни было, с более недавними, и мы вовсе не пренебрегали этим сравнением и делали его, когда оно казалось нам необходимым. Монтень вовсе не проявляет чрезмерного восхищения Венецией, где пробыл всего семь дней, поскольку намеревался снова увидеть этот замечательный город, но уже в свое удовольствие; однако заметим, что, хотя он отнюдь не был нечувствителен к прекрасному, любуясь им, он был все же довольно сдержан в своих восторгах[18]. Похоже, более всего его трогают природные красоты, местное многообразие, приятная или необычная местность, живописный, порой пустынный или дикий пейзаж или, наоборот, возделанные и ухоженные земли, внушительный вид гор и т. д., и т. д. Тем не менее естественная история практически не затронута в его наблюдениях, если только речь не идет о минеральных водах: деревья, растения, животные занимают его весьма мало. Хоть он и сокрушается по-настоящему, что не увидел на флорентийской дороге вулкан Pietra mala, пропустив его по чистой забывчивости, однако назад не поворачивает. Мы видим его изрядное любопытство к гидротехническим и прочим машинам и вообще ко всем полезным изобретениям. Некоторые из них он даже описывает, хотя этим описаниям недостает ясности и точности, потому что ему самому явно не хватает технических терминов, что нисколько не умаляет его влечения к такого рода диковинам. Другой предмет его наблюдений, более близкий к его философии, это нравы и обычаи разных народов и областей, различные условия человеческого существования, которые он наблюдал особенно пристально. В частности, в Риме, Флоренции, Венеции он хотел не только видеть тамошних куртизанок, но и беседовать с некоторыми из них, вовсе не считая эту категорию женщин недостойной своего внимания[19]. Ему самым естественным образом нравилось женское общество; но поскольку он всегда был гораздо более упорядочен в своих нравах или более целомудрен по складу своей личности, чем в своих произведениях, весьма внимательно относился к своему здоровью и всегда вел себя сообразно с собственными годами, то воздержание почти в пятьдесят лет не должно было стоить ему слишком дорого[20]. Что касается галантности, от которой собственная философия отнюдь не заставляла его отказываться (как мы увидим во время его пребывания на водах Лукки), то он позволял себе мало случаев и обстоятельств для этого.
Впрочем, Монтень обладал всеми необходимыми для путешественника качествами. Естественным образом воздержанный, не склонный к чревоугодию, не слишком затруднявшийся в выборе блюд или в их приготовлении, хотя и лакомый до рыбы, он удовлетворялся тем, что находил; без труда приспосабливался ко вкусам и различным обычаям всех мест, через которые проезжал, и само это многообразие было для него наибольшим удовольствием. Истинный космополит, смотревший на всех людей как на своих природных сограждан, он был не менее покладист, не менее легок в устройстве собственной жизни. Он очень любил беседы и вполне умел удовлетвориться любым духовно развитым народом, поскольку собственная репутация обгоняла его и позволяла ему с легкостью заводить себе друзей. Будучи далеким от предубеждения, упрекающего французов в том, что они слишком много позволяют видеть чужестранцам, он сравнивает чужеземные обычаи с нашими, и когда первые кажутся ему лучше, без колебания сохраняет их[21].
Так что его искренность неизменно делала его очень приятным даже для тех, кто не старался быть таким же, как он. Добавим ко всем этим преимуществам привычку к езде верхом, тем более удобную для него, что он с трудом переносил экипажи, но благодаря этой счастливой склонности собственное тело умело приспосабливаться к усталости, которую заставляли его сносить и плохие гостиницы, и почти постоянные изменения климатических условий, и все прочие неудобства путешествий.
Монтень путешествовал, как писал; обычно ни репутация места, ни, еще того менее, заранее составленный план, с которым приходилось его сообразовывать, ни опыт других путешественников не заставляли его следовать той или иной его части ради уточнения маршрута. Он редко пользовался обычными путями, и в его путешествиях мы не видим (за исключением особого интереса к минералам), чтобы у него был более определенный предмет, который он имел, работая над своими «Опытами». Едва ступив ногой в Италию, он, похоже, уже начинает сожалеть о только что покинутой Германии. «Думаю, – написано рукой его секретаря, – что, будь он один со своими близкими, он скорее отправился бы в Краков или сушей в Грецию, нежели в Италию; но хотя ему настолько приятно посещать незнакомые страны, что он забывает даже о слабостях своего возраста и здоровья, ему так и не удалось заразить своим удовольствием никого из отряда, и каждый просил только об отступлении»[22]. «Когда ему жаловались, что он часто ведет отряд разными путями по разным областям, порой близко возвращаясь к тому месту, откуда недавно уехал (ему случалось делать это, узнав о чем-то достойном осмотра или меняя прежнее намерение в зависимости от обстоятельств), он отвечал, что сам лично не едет ни в какое место, кроме того, в котором окажется, и поэтому не может ни ошибиться дорогой, ни отклониться от нее, поскольку не имеет никакого плана, кроме как прогуляться по незнакомым местам; и раз никто не видит, как он снова сворачивает на прежний путь или дважды возвращается в одно и то же место[23], значит, в его замысле не было никакой ошибки». «Он говорил, что, как только после беспокойной ночи вспоминает поутру, что сегодня ему предстоит увидеть новый город или новую область, он встает с желанием и радостью». И добавлял, что, «видимо, становится похож на людей, читающих довольно занятную повесть или прекрасную книгу, но которые опасаются, что она скоро кончится; он тоже получает такое большое удовольствие от путешествия, что начинает ненавидеть близость места, где должен передохнуть, а потому строит разные планы, как бы он путешествовал в свое удовольствие, если бы смог остаться один».
Попав в Германию, Монтень сожалел о трех упущенных вещах: во-первых, что не привез из Франции повара, но не для того, чтобы тот готовил ему по его собственному вкусу или по-французски, но, наоборот, чтобы он научился готовить по-швейцарски, по-немецки, по-итальянски; во-вторых, что не взял в качестве сопровождающего какого-нибудь местного дворянина; в третьих, что не запасся путеводителями и книгами, которые называли бы места и достопримечательности, которые стоило посмотреть[24].
IV
Прежде чем говорить о форме и стиле этого «Дневника», нам необходимо сделать одно замечание, дабы не оставалось никаких возможностей заподозрить его в интерполяции и т. п. Две первые книги «Опытов» были впервые напечатаны в Бордо в 1580 году; следовательно, они появились по меньшей мере за несколько месяцев до путешествия Монтеня в Италию, поскольку он обнаружит свое произведение в руках у цензоров, чьей корректуре оно уже подверглось. Однако согласно отцу Нисерону[25], ни в этом бордоском издании, ни, без сомнения, в трех других, которые последовали за ним довольно скоро, никакого упоминания об этом путешествии в Италию нет. Но поскольку все последующие издания (включая пятое, подготовленное самим Монтенем и увидевшее свет в 1588 году в Париже у Абеля Ланжелье, in quarto) были выпущены вместе с третьей книгой и примерно шестьюстами добавлениями, сделанными к первым двум, то среди этих добавлений обнаруживаются и многие факты, касающиеся этого путешествия. Стало быть, они могут включать в себя и те, которые невозможно согласовать с датой изданий, предшествующих добавлениям Монтеня[26], если не знать, откуда взялись эти факты, то есть что он сам вставил их задним числом в первые книги «Опытов». Несомненно, что весь слог «Дневника» (где свободную и свежую речь Монтеня ни с чем невозможно спутать) еще более небрежен, чем в «Опытах», однако причина этого очевидна. Приходится повторить: этот «Дневник» был им написан исключительно для самого себя, для своего личного употребления, и нет никаких признаков того, что он когда-либо давал себе труд просмотреть его снова, чтобы выпустить в свет. Так что, совершенно не имея повода смущаться, именно здесь он должен был отдаться той небрежности, которая была ему так дорога. Его «Опыты» отделаны с гораздо бóльшим тщанием[27], потому что он их сам опубликовал. К тому же поскольку Монтень в отношении нравов был несколько не от века сего, то и его манера писать также относилась скорее к предшествующему времени. Да и его родная провинция (Перигор) явно была не тем местом, где наш язык сделал наибольший прогресс[28]. Впрочем, французский вовсе не был его родным или природным языком. Известно, что в шесть лет Монтень не знал ни слова по-французски и выучил этот язык лишь в том возрасте, когда дети обычно изучают начатки латыни, но зато это последнее наречие он знал так, словно впитал его с молоком матери, и именно тем способом, которым в детстве постигают свой родной язык. Однако его первое обучение было противоположно нашему, и он должен был еще долго это чувствовать, быть может, весь остаток своей жизни, и, следовательно, французский язык всегда оставался для него в некотором смысле иностранным. Отсюда все латинизмы, которыми переполнен его стиль, смелость его метафор, энергичность выражений, но отсюда же и бесчисленные неправильности, неуверенность в некоторых оборотах «Опытов», неестественных или даже натужных, и все словечки местного говора, которые он там рассеял[29]. В конце концов Монтень никогда не подчинял свои мысли языку; похоже, что он пользовался языком лишь как необходимой одеждой, в которую облекал их, чтобы выпустить наружу. Он всегда использовал наиболее удобное выражение или то, которое представлялось ему наиболее точным, и другого не искал. Ему требовалось, чтобы язык покорялся его перу, чтобы он по его прихоти принимал любую форму, которую мысль запечатлевала в нем. Но богатство и жар его воображения восполняли все потребности словесной игры, как он называл язык[30], они сообщали ему удачные формы и окраску, придавали нерв и отвагу, на которые, как казалось, этот язык не способен, – вот что заставляет читать его с такой увлеченностью.
Мы почти всегда получаем его мысль в ее чистом и первозданном простодушии, она ничуть не затемнена языком, или завеса столь прозрачна, что мысль ничего не теряет из своей силы. Наш язык в долгу перед ним за некоторые выразительные слова, которые он сохранил, такие как игривость, игривый, ребячество, обходительность, а быть может, и другие[31].
То, что мы обычно говорим об особом стиле Монтеня, касается только «Опытов». Он не нуждается в том, чтобы его оправдывали стилем «Дневника», поскольку в этом последнем дается лишь картина новых мест, посещенных Монтенем, и как он ведет себя в каждом из них: это картина, которую торопливо, без малейшей заботы о тщательности набросал путешественник, совершенно не стремивший приукрасить факты, а лишь делавший набросок для себя самого, и где мы видим, по крайней мере, следы нескольких тамошних впечатлений.
Таким образом, чтобы никого не обманывать – поскольку чтение этого «Дневника» может отвратить людей манерных, сделавших для себя принципом вкуса читать только произведения, написанные языком, похожим на их собственный, или же тех, кого знакомство с «Опытами» так и не смогло даже в малейшей степени приучить к монтеневскому жаргону, – он опубликован вовсе не ради них. Мы уже дали понять, что в нем не найти многочисленных описаний архитектуры, живописи и скульптуры, которые являются главной материей почти всех новых путешествий. Не стоит также ожидать тех политических или литературных отступлений о народах и правительствах Италии, которые придают некоторым описаниям столь ученый вид, и еще менее тех истрепанных шуток о монахах и простонародных суевериях, которые никогда не надоедают по большей части иностранцам, а среди наших – не самым образованным вольнодумцам. Монтень действительно наблюдал, но писал здесь вовсе не для того, чтобы это читал кто-либо вне круга его семьи[32], а чтобы развеять скуку домоседа или отвлечься от злобных поступков своих современников; в этом повествовании он следовал исключительно собственному вкусу, изображая в зависимости от обстоятельств предметы и события, чем-нибудь особо привлекшие его внимание, не привязываясь педантично к чему-то одному в ущерб другому.
Но вот что сделает «Дневник» интересным для читателей, которые ищут в этих записках человека: он даст возможность узнать автора «Опытов» даже гораздо лучше, чем сами «Опыты». Это кажется немного парадоксальным, поэтому перейдем к доказательствам. Хотя в «Опытах» Монтень так много и так часто говорит о себе самом, его подлинный характер тонет во множестве черт, которые могли бы сформировать стройное целое, но их не всегда легко точно подогнать друг к другу или же заключить в какие-либо общие рамки, подобно тому как с помощью оптического стекла объединяют разрозненные детали некоторых картин, чтобы из этого получилась в итоге некая правильная фигура. А это доказывает, что одних «Опытов» Монтеня недостаточно, чтобы его узнать, для этого важно собрать разнообразные суждения о нем[33]. Здесь мы видим уже не писателя, и даже не в наиболее холодный момент его наименее обдуманного сочинительства; этот человек и есть сам Монтень – без всякого умысла, без всяких прикрас, целиком отданный во власть своей природной импульсивности, своей простодушной манеры думать спонтанно, своих самых внезапных, самых свободных движений ума, желания и т. д. Мы ограничимся теми из фактов этого «Дневника», которые дадут об авторе (и особенно о его философии) более верное представление, нежели все вынесенные о нем суждения[34].
Из всех мест Италии, достойных привлечь внимание Монтеня, Лорето менее всего можно заподозрить в том, что ему будет любопытно его увидеть. Тем не менее он, проведший в Тиволи всего полтора дня, задержался в Лорето почти на целых три.
Правда, часть этого времени ушла на заказ и изготовление богатого Ex voto[35] – серебряной таблички с четырьмя фигурами (изображавшими Пресвятую Деву, перед которой стояли на коленях он сам, его жена и дочь), а также на выпрашивание места для своего подношения, которое он получил лишь благодаря превеликой милости. Он там молится и выполняет религиозные обряды, что, быть может, удивит еще больше, чем само путешествие сюда и даже его Ex voto. Если бы автор научного сочинения о религии Монтеня[36], которое недавно увидело свет, прочитал «Дневник», который мы публикуем, он извлек бы оттуда самые сильные доказательства в пользу его христианства, посрамив всех тех, кто ошибочно почитает в нем ниспровержителя религии, словно они, несмотря на весь скептицизм философа[37], умудрились не заметить его веру в двадцати местах «Опытов» и словно его неизменная неприязнь к новым сектам не была разительным и совершенно недвусмысленным доказательством этого, как заметила «духовная дочь» Монтеня, м-ль де Гурне, его наилучшая защитница[38]. Однако в том, что касается Монтеня, достоинств «Дневника»
все это ничуть не умаляет; там имеются кое-какие странности и факты, которые мы не найдем больше нигде. Именно это и будет видно из анализа, представленного ниже на суд читателей и в некотором смысле способного заменить собой краткое содержание.
V
Путешествие, в которое мы собираемся пуститься или попросту обозначить его маршрут, от Бомона-на-Уазе до Пломбьера в Лотарингии не предоставляет ничего достаточно любопытного, чтобы остановиться по пути. Да и в самом пребывании Монтеня в Пломбьере, где он в течение нескольких дней лечился водами, было мало замечательного, кроме наивного свода правил, составленного ради поддержания порядка на этом подробно описанном курорте, да встречи с пегобородым сеньором из Франш-Конте по имени д’Андело, который по приказу Филиппа II был комендантом Сен-Кантена после взятия этого города доном Хуаном Австрийским. Так что надо доехать до Базеля, описание которого знакомит с его тогдашним физическим и политическим состоянием, равно как и с его водами. Этот проезд Монтеня через Швейцарию – отнюдь не малозначащая подробность. Мы видим, как наш путешественник-философ повсюду приноравливается к нравам и обычаям страны. Гостиницы, печи, швейцарская кухня – ему все годится; похоже даже, что весьма часто нравы и обычаи мест, через которые он проезжает, для него гораздо предпочтительнее нравов и повадок французов, а тамошняя простота и искренность были намного более сообразны с его собственными. В городах, где останавливался Монтень, он старался повидаться с протестантскими богословами, чтобы основательно ознакомиться с главными положениями их вероисповедания. Порой он даже спорил с некоторыми из них. По выезде из Швейцарии мы видим в Исни, имперском городе, его схватку с неким убиквистом. Он будет встречать на всем своем пути лютеран, цвинглиан и т. д., но заметит большую неприязнь к кальвинизму, на что прежде не обращал внимания. Во время своего пребывания в Аугсбурге, городе уже значительном, он изобразит нам потерну – обходной путь в него, описание которого, хоть и не слишком внятное, возможно, заинтересует механиков. Здесь нам предстоит с интересом наблюдать, как он приспосабливается к обычаям городов касательно своего внешнего облика, чтобы не бросаться в глаза. Но вот черта, которая не ускользнет от тех, кто будет судить Монтеня так же, как судили Цицерона, – по его столь заурядным слабостям, от чего и в более простые времена философия не избавила ни Платона, ни даже Диогена[39]. Он не может удержаться от этой потребности тешить свое мелкое тщеславие, когда замечает, что его приняли за французского сеньора высокого ранга. И ему снова предъявят счет за эту столь упорную суетность, когда она заставит его оставить картуш со своим гербом на водах в Пломбьере, на водах Лукки и в других местах. Похоже, Монтень только проезжает через Баварию и мало говорит даже о Мюнхене.
Но когда он поедет через Тироль, стоит присмотреться к нему среди гор и ущелий этого живописного края, где ему понравилось гораздо больше, чем во всей стране, оставшейся у него за спиной. Он еще и потому чувствовал себя здесь так хорошо, что его совершенно понапрасну пугали неудобствами, которые якобы ждут их на этом пути. Это даст ему повод сказать, «что он всю свою жизнь остерегался чужих суждений об удобствах иных стран, поскольку каждый способен воспользоваться ими лишь в согласии с требованиями собственной привычки и обычаев своей деревни, так что весьма мало прислушивался к предостережениям других путешественников». Он остроумно сравнивает Тироль с платьем, которое видят только смятым, но если его разгладить, это окажется весьма большой страной, потому что все горы тут возделаны и населены многочисленными жителями. Итак, он въехал в Италию через Тренто.
Прежде всего Монтень спешил повидать не Рим, не Флоренцию или Феррару: Рим слишком известен, говорил он, «и нет такого лакея, который не смог бы сообщить что-нибудь о Флоренции или Ферраре». В Роверето он заметил, что ему начинает недоставать раков, потому что после Пломбьера на протяжении почти всей дороги через Германию в двести лье ему подавали их на каждой трапезе. Повидав озеро Гарда, он поворачивает в сторону государства венецианцев. И проезжает последовательно через Верону, Виченцу, Падую, сообщая о каждом из этих городов больше или меньше подробностей. Очевидно, Венеция, куда он так стремился «из-за острейшего желания увидеть этот город», разочаровала его, совсем не совпав с его представлением о ней, поскольку он осматривает ее очень поспешно и надолго там не задерживается. Тем менее она все-таки восхищает его, во-первых, своим положением, затем Арсеналом, площадью Сан Марко, общественным устройством, толпами оказавшихся там иностранцев; наконец, пышностью, роскошью и большим количеством куртизанок определенного ранга. Минеральные воды Баттальи побуждают его сделать первое отвлечение и осмотреть тамошние купальни. Затем по очереди платят дань его любопытству Ровиго, Феррара и Болонья, но поскольку он делает там лишь краткие остановки, то мало распространяется об этих городах. Он держит направление на Флоренцию и для начала посещает несколько вилл великого герцога. Довольно подробно описывает сады и воды Пратолино. Во Флоренции нашлось чем занять его, однако мы не видим, чтобы он, прельстившись великолепием Медичи, стал большим поклонником этого города. Во Флоренции он даже говорит, что никогда не видел народа, в котором было бы столь же мало красивых женщин, как в итальянском. Жалуется также на жилье и плохую еду, сожалея о немецких гостиницах. Будучи здесь, он ставит Флоренцию гораздо ниже Венеции, немного выше Феррары и на равных с Болоньей. Тут найдется также немало подробностей насчет телесных пропорций правившего тогда великого герцога, равно как и о его дворцах. Следует описание Кастелло, другой виллы того же правителя, откуда он едет в Сиену. Далее Монтень оказывается во владениях Церкви и, проехав через Монтефьясконе, Витербо, Рончильоне и т. д., 30 ноября 1580 года въезжает в Рим.
Представление о великолепии и блеске древнего Рима (уже известное из приведенного выше отрывка) он даст, изучая его величавые останки, однако любопытно добавить к этому картину, написанную им с современного ему Рима.
«Этот город – сплошь придворные и знать: тут каждый участвует в церковной праздности[40]… это самый открытый для всех город мира, где на инаковость и национальные различия обращают внимания менее всего, ибо он по самой своей природе пестрит чужестранцами – тут каждый как у себя дома. Его владыка объемлет своей властью весь христианский мир; подсудность ему распространяется на чужестранцев как здесь, так и в их собственных домах; в самом его избрании, равно как и всех князей и вельмож его двора, происхождение не принимается в расчет. Венецианская свобода градоустройства и польза постоянного притока иноземного люда, который тем не менее чувствует себя здесь в гостях. Ибо это вотчина людей Церкви, их служба, их добро и обязанности». Мне кажется, что сквозь старомодный язык тут можно заметить и несколько довольно новых идей.
Монтеню очень нравилось в Риме, и его пребывание в этом городе за время первого путешествия продлилось около пяти месяцев. Тем не менее он сделал признание: «…несмотря на все мои ухищрения и хлопоты, мне удалось познакомиться лишь с его публичным ликом, который он обращает и к самому незначительному чужестранцу». И досадовал, обнаружив там столь большое количество французов, что не встречал почти никого, кто не обратился бы к нему с приветствием на его родном языке. Послом Франции в Риме был тогда г-н д’Абен. Монтень, который на всем протяжении своего «Дневника» проявляет большое уважение к религии, решает, что обязан отдать понтифику дань сыновнего почитания и благоговения, принятую при этом дворе. Г-н д’Абен делает свое дело. Он отвез Монтеня и сопровождающих его (в частности г-на д’Эстиссака) на папскую аудиенцию; они были допущены поцеловать ноги папы, и святой отец обратился к Монтеню, призвав его и дальше хранить неизменную верность Церкви и служению христианнейшему королю[41].
Папой, как уже было сказано, был тогда Григорий XIII, и его портрет, написанный рукой Монтеня, который не только видел его вблизи, но и был весьма осведомлен на его счет, оставаясь неподалеку во все время своего пребывания в Риме, – возможно, один из самых правдивых, самых надежных, которые только доступны нам. В нем ничто не упущено.
«Это очень красивый старец, среднего роста, осанистый, лицо с длинной седой бородою исполнено величия; ему более восьмидесяти лет, но он вполне здоров и силен для своего возраста, насколько это возможно, и не стеснен никаким недугом: ни подагры, ни колик, ни желудочных болей; по природе своей он мягок, не слишком интересуется делами мира сего[42], великий строитель, и как таковой оставил по себе в Риме и других местах необычайно благодарную память; это великий, я даже скажу, несравненный благодетель… Что до обременительных государственных обязанностей, то он охотно сбрасывает их на чужие плечи, всячески избегая этой хворобы. Аудиенций он дает сколько, сколько просят. Ответы его коротки и решительны, а пытаться оспаривать их – пустая трата времени. Он верит в то, что почитает справедливым, и не поступился этой своей справедливостью даже ради собственного сына[43], которого необычайно любит. Он продвигает своих родственников [но без какого-либо ущерба для прав Церкви, которые нерушимо блюдет. Не считается с затратами при строительстве и преобразовании улиц этого города], и на самом деле его жизнь и нравы во всем далеки от крайностей, хотя гораздо более склоняются к хорошему».
После этого мы видим, как Монтень использует в Риме все свое время на пешие и конные прогулки, на визиты и всякого рода наблюдения. Церкви, торжественные службы (стояния), даже процессии, проповеди; потом дворцы, вертограды (то есть виллы с парками), сады, народные гулянья и забавы, карнавальные развлечения и т. д. Он не пренебрегал ничем. Видит обрезание еврейского ребенка и описывает всю операцию с обилием подробностей. На стоянии в церкви Святого Сикста встречает посла из Московии, второго, кто прибыл в Рим после понтификата Павла III; у этого посланника имелись депеши от своего двора в Венецию, адресованные Великому наместнику Синьории. Московитский двор поддерживал тогда так мало сношений с другими державами Европы и там были так плохо о них осведомлены, что полагали, будто Венеция – владение папы.
Ватиканская библиотека, которая уже в то время считалась богатейшей, была слишком привлекательной, чтобы ускользнуть от внимания Монтеня; и из отчета, сделанного об этом, видно, что он стремился бывать там почаще. Без сомнения, именно там он встречает Мальдоната, Мюре и подобных людей, ставших ныне такой редкостью. Он с удивлением отмечает, что г-н д’Абен уехал из Рима, так и не увидев эту библиотеку, потому что не хотел расшаркиваться с ее кардиналом-библиотекарем. На что Монтень делает замечание, в котором весьма узнаваем его стиль: «У случая и своевременности имеются свои исключительные права, и нередко они предоставляют народу то, в чем отказывают королям. Любопытство подчас мешает само себе, и так же бывает с величием и могуществом».
Для по-настоящему любопытного человека один только Рим представляет собой целую вселенную, которую хочется обойти; это своего рода рельефная карта мира, где можно увидеть в миниатюре Египет, Азию, Грецию и всю Римскую империю, мир древний и современный. Если ты достаточно видел Рим – ты много путешествовал. Монтень отправляется посмотреть Остию и древности, которые попадутся по дороге, но это была всего лишь краткая экскурсия. После чего он сразу же возвращается в Рим, чтобы продолжить свои наблюдения.
Быть может, кое-кто найдет, что не слишком достойно такого философа, как Монтень, повсюду с немалым любопытством наблюдать за женщинами, но эта естественная склонность была составной частью его философии и при этом совершенно ничего не исключала из всей нравственности рода человеческого[44]. В Риме ему попадалось мало красивых женщин, и он заметил, что наиболее редкая красота находится в руках тех из них, кто выставляет ее на продажу[45]. Тем не менее вскоре он призна́ет, что римские дамы обычно приятнее наших и тут не встретишь стольких уродин, как во Франции, однако добавит, что француженки все-таки грациознее.
Из всех подробностей пребывания Монтеня в Риме та, что касается цензуры его «Опытов», отнюдь не является наименее странной и способна очень сильно заинтересовать любителей его творчества.
Maestro del sacro palazzo (Магистр Священного апостолического дворца) вернул писателю его произведение подвергнутым каре согласно мнению ученых монахов. «Совершенно не понимая нашего языка, он смог судить о книге только со слов какого-то французского братца и удовлетворился множеством извинений, которыми я рассыпался на каждом пункте “порицаний”, оставленных ему этим французом, так что он предоставил моей собственной совести исправить те места дурного вкуса, которые я сам там найду. Я же, наоборот, умолял его, чтобы он следовал мнению того, кто об этом судил; и кое в чем признаваясь, как то: в использовании слова фортуна, в упоминании поэтов-еретиков (то есть осквернителей), в том, что я извинял Юлиана Отступника и строго увещевал молящегося, говоря, что тот должен быть свободен от порочной склонности к сему веку (quod subolet Jansenisnum[46]); item[47] признавал жестокостью все, что выходит за пределы простой смерти[48]; item что ребенка надо воспитывать, приучая его делать все, и другие подобные вещи, которые я написал, поскольку так думал, не предполагая, что это ошибочно; но утверждал, что в других высказываниях корректор неверно понял мою мысль. Сказанный Maestro, ловкий человек, сильно меня извинял и хотел дать мне почувствовать, что сам он не слишком настаивает насчет переделки, и весьма хитроумно защищал меня в моем присутствии от своего сотоварища, тоже итальянца, который со мной спорил».
А вот что произошло во время объяснения, которое у Монтеня состоялось у Магистра Священного дворца по поводу цензуры его книги, когда перед своим отъездом из Рима он зашел к этому прелату и его товарищу, чтобы откланяться. Те повели с ним уже совсем другие речи. «Они попросили меня не обращать большого внимания на цензуру моих “Опытов”, поскольку другие французы уведомили их, что в ней много глупостей; и они добавили, что ценят мои намерения, приверженность Церкви и мою честность, а также мою искренность и добросовестность и что они предоставляют мне самому убрать из моей книги (буде я захочу переиздать ее) то, что я сочту там слишком вольным, и среди прочего некстати подвернувшиеся слова. [Мне показалось, что они остались весьма довольны мной]: и чтобы извиниться за то, что так курьезно оценили мою книгу и кое в чем осудили ее, сослались на многие книги нашего времени, написанные кардиналами и другими духовными лицами весьма хорошей репутации, которые тоже подверглись цензуре из-за нескольких подобных несовершенств, которые ничуть не умалили ни репутации автора, ни произведения в целом. Меня попросили даже помочь Церкви моим красноречием (это их собственные любезные слова) и сделать вместе с ними своим жилищем этот мирный город, избавленный от смут и тревог».
После столь умеренного приговора Монтень, разумеется, не стал слишком торопиться с исправлением своих «Опытов». Впрочем, как мы уже замечали, это был вообще не его случай. Он охотно добавлял, но ничего не исправлял и не выбрасывал, так что может показаться, будто у нас обе первые книги «Опытов» остались такими же, какими были до римской цензуры, за исключением добавлений, которые он туда внес.
Еще более настоятельным для Монтеня интересом, который, похоже, очень его занимал, была некая милость, которой ему помог добиться папский дворецкий Филиппо Музотти[49], проникшийся к нему необычайной дружбой и привлекший ради этого даже авторитет самого папы: мы говорим о звании римского гражданина, которое столь странным образом льстило его самолюбию или воображению, но о котором мы не можем умолчать. Добившись этого звания, он более не медлил, чтобы покинуть Рим. До этого он съездил в Тиволи, и сделанное им сравнение вод и природных красот этого очаровательного места с такими же водами и красотами виллы Пратолино и некоторых других отмечено вполне обоснованным вкусом. Выехав из Рима, Монтень направился в Лорето. Он проехал через Нарни, Сполето, Фолиньо, Мачерату и другие городки, о которых ограничивается всего парой слов. Еще будучи в Лорето, он собирался поехать в Неаполь, который был не прочь повидать. Осуществлению этого путешествия помешали обстоятельства. Если бы он все-таки совершил его, одному богу ведомо, как долго ему пришлось бы задержаться на водах Байи и Пуццоли. Наверняка именно перспектива посетить воды Лукки заставила его сменить направление. Мы видим, что из Лорето он направляется прямиком в Анкону, Сенигаллью, Фано, Фоссомброне, Урбино и т. д. Снова проезжает через Флоренцию и, не задерживаясь там, поворачивает к Пистойе, городу, зависевшему от Лукки. Наконец в мае 1581 года он прибывает в Баньи делла Вилла, где и останавливается, чтобы заняться водолечением.
Именно там Монтень сам себе назначил пребывание и использование этих вод самым неукоснительным образом. Отныне он говорит только о том, как принимает их каждый день, одним словом, о своем режиме, не опуская ни малейшего обстоятельства, касающегося своих физических привычек и ежедневных процедур: питья, приема ванн, душа и т. д. Мы читаем уже не дневник путешественника, а памятные записки больного, внимательного ко всем мелочам всестороннего лечебного процесса, к малейшим результатам его воздействия на собственный организм и к своему самочувствию; наконец это словно весьма обстоятельный отчет, который он дает своему врачу, чтобы проконсультироваться у него о своем состоянии и действии вод. Правда, отдаваясь всем этим скучным подробностям, Монтень предупреждает: «Поскольку в свое время я раскаялся, что не писал подробнее о других водах, что могло бы послужить мне правилом и примером для всех, с кем я могу увидеться впоследствии, то на сей раз я хочу распространиться об этой материи пошире и зайти дальше». Однако наиболее убедительный для нас довод состоит в том, что он писал это лишь для себя. Хотя мы и здесь найдем немало черт, время от времени живописующих и это место, и нравы страны.
Наибольшая часть этого довольно длинного отрывка, то есть всё его проживание на водах и остаток «Дневника» вплоть до первого городка на обратном пути во Францию, где Монтень слышит французскую речь, написана по-итальянски, потому что он хотел поупражняться в этом языке. Так что для тех, кто не понимает этого наречия, его здесь пришлось переводить.
Впрочем, описание довольно долгого пребывания на водах Виллы и сухость записок о ходе лечения несколько оживляются описанием деревенского бала, который он там устроил, и невинным флиртом, которым при этом забавлялся. Можно даже счесть весьма поучительным его внимание к Дивиции, бедной неграмотной крестьянке, которая при этом была не только поэтессой, но к тому же обладала даром импровизатора. На самом же деле он признается, что из-за малого общения с местными жителями совсем не поддерживал репутацию остроумного и ловкого человека, которая за ним закрепилась. Тем не менее он был приглашен, и даже весьма настоятельно, присутствовать на консилиуме врачей, собравшихся ради племянника некоего кардинала, потому что они решили прислушаться к его мнению. И хотя он подсмеивался над этим в душе[50]́, подобные вещи неоднократно случались с ним и на этих водах, и даже в Риме.
Чтобы сделать некоторый перерыв в лечении, Монтень решает отдохнуть от вод и заезжает в Пистойю, потом в третий раз возвращается во Флоренцию и проводит там некоторое время. Наблюдает различные шествия, состязания колесниц, скачки берберских коней, странный смотр всех городов Великого герцогства Тосканского, представленных оруженосцами самого непрезентабельного вида. Находит в книжной лавке Джунти «Завещание Боккаччо» и сообщает о его главных распоряжениях, которые показывают, до какой нищеты дошел этот писатель, еще и ныне столь знаменитый. Из Флоренции Монтень заезжает в Пизу и дает ее описание. Но, не заходя дальше, заметим здесь, что он может показаться излишне доверчивым в отношении чудес, слухи о которых итальянцы весьма охотно распространяли, и что его философия в этом пункте отнюдь не всегда достаточно тверда. Он некоторое время проводит в Пизе и из любопытства посещает местные воды, после чего возвращается в Лукку, задерживается там и заодно описывает этот город. А из Лукки возвращается в Баньи делла Вилла, чтобы продолжить водолечение. Одновременно с этим возобновляет собственную термально-диетическую историю и ведет подробный отчет о своих лечебных процедурах, хворях и т. п.
Из-за этого столь пристального и неослабного внимания Монтеня к своему здоровью, к самому себе можно было бы заподозрить у него тот крайний страх смерти, который, вырождаясь, превращается в малодушие. Мы полагаем скорее, что эта боязнь была вполне соразмерна явлению, которого тогда очень опасались как раз из-за его грандиозности, или же, быть может, он думал как тот греческий поэт, чьи слова приводит Цицерон: «Я не хочу умирать, но когда умру, мне это будет довольно безразлично»[51]. Впрочем, надо просто подождать, чтобы он сам весьма ясно объяснился на сей счет:
«Было бы слишком большой слабостью и малодушием с моей стороны, если бы, будучи уверен, что в любом случае погибну таким образом[52] и что смерть с каждым мгновением приближается, я не сделал бы усилия, перед тем как это случится, чтобы смочь вытерпеть ее без труда, когда придет время. В конце концов разум советует нам с радостью принимать благо, которое Богу угодно ниспослать нам. Однако единственное лекарство, единственное правило и единственное знание, пригодные, для того чтобы избежать всех зол, осаждающих человека со всех сторон и в любое время, какими бы они ни были, это решиться либо претерпеть их по-людски, либо пресечь мужественно и быстро»[53].
Он все еще был на водах Виллы, когда 7 сентября 1581 года, прочитав присланное из Бордо письмо, узнал, что чуть меньше месяца назад, 1 августа, его избрали мэром этого города. Эта новость заставила его ускорить свой отъезд из Лукки, и он отправился в путь по римской дороге.
Вернувшись в Рим, он проводит здесь еще некоторое время, подробности чего мы видим в «Дневнике». И здесь же[54] получает письма от членов городского совета Бордо, которые официально уведомили его об избрании в мэрию этого города и пригласили прибыть туда как можно скорее. Он уехал из Рима в сопровождении молодого д’Эстиссака и некоторых других дворян, которые проводили его довольно далеко, но никто за ним не последовал, даже спутник по странствию.
На его пути, где он оказался зимой и проделал его весь, несмотря на свое слабое здоровье (поскольку у него по-прежнему время от времени выходили вместе с мочой камни или песок), лежали Рончильоне, Сан Квирико, Сиена, Понте а Эльса, Лукка и Масса ди Каррара. Ему очень хотелось проехать через Геную, но он решил отказаться от этого по причинам, которые излагает в «Дневнике». И выбирает дорогу через Понтремоли и Форново, оставляя в стороне Кремону. Приезжает в Пьяченцу, краткое описание которой дает. Осматривает Павию и ее знаменитый монастырь, которые описывает достаточно бегло, проезжает через Милан, не задерживаясь там надолго, и через Новару и Верчелли прибывает в Турин, который изображен настолько убогим, что его совершенно невозможно узнать. Мон-Сени[55], Монмельян, Шамбери упоминаются всего лишь росчерком пера. Он проезжает через Бресс[56], прибывает в Лион, город, который ему очень понравился своим видом; это единственное, что он о нем говорит. После Лиона пересекает Овернь и верхний Лимузен, чтобы въехать в Перигор; и через Перигё добирается до замка Монтень – longæ finis chartæque viæque[57].
P. S. Мы заканчивали печатать это предисловие, когда г-н Каперонье, хранитель Королевской библиотеки, получил из Бордо письмо, касающееся родословия Монтеня, и захотел поделиться его содержанием. Это письмо сообщает нам, что в Бордо до сих пор существует семейство по имени Монтень и оно в точности то самое, к которому принадлежал и автор «Опытов». Вот это родство:
«Мишель де Монтень был сыном Пьера Экема, сеньора де Монтеня, мэра города Бордо.
У этого Пьера было трое братьев, двое из которых умерли, не оставив потомства. Третий, Реймон Экем де Монтень, сеньор де Бюссаге, приходился, следовательно, Мишелю де Монтеню дядей с отцовской стороны. Он женился на Адриене де ла Шассень, от которой имел пятерых детей, в том числе и Жоффруа Экема де Монтеня, сеньора де Бюссаге, советника бордоского парламента, как и его отец. Именно от этого Жоффруа и происходит дом Монтеней, в настоящее время существующий в Гиени, последний отпрыск которого женился на м-ль де Галато».
Автор письма, г-н де ла Бланшери, уверяет, что написал его, лишь имея подтверждающие документы перед глазами.
В Библиотеке дю Вердье, в томе II, на стр. 143 (издание г-на Риголе де Жювиньи, Париж, 1773), мы находим, что одновременно с автором «Опытов» жил некий председатель Монпелье по имени Монтань: «Это был человек ученый, – пишет библиограф, – который написал еще не изданную Историю королевы Шотландии (явно Марии Стюарт)». Однако непохоже, чтобы он был из того же рода, и дю Вердье имеет большую заботу различать их.
1
…каноник Шанселадского аббатства… – Так исстари называли монахов этой обители (здесь и далее под звездочкой прим. переводчика).
2
…старинный замок Монтень… – Этот замок находится в приходе Сен-Мишель де Монтень, в 200–300 шагах от селения, в полулье от Дордони и в двух лье от городка Сент-Фуа; он относится к диоцезу Перигё и от него до этого города с епископскщй резиденцией примерно два лье. Замок большой, солидно построенный и хорошо расположен на возвышенном месте. Там имеются две башни и пристройки с красивым просторным двором. (здесь и далее прим. М. де Керлона).
3
Г-н граф де Сегюр де ла Рокет происходит в шестом поколении от Элеоноры де Монтень, единственной дочери автора «Опытов». Элеонора была замужем два раза: от первого брака у нее не было детей, и она во второй раз вышла замуж за виконта Шарля де Гамаша. Ее единственная дочь Мари де Гамаш была замужем за Луи де Люром де Салюсом, бароном де Фаргом, у нее было три дочери. Последняя, Клод-Мадлен де Люр, вышла замуж за Эли Изака де Сегюра, от которого произошел Жан де Сегюр, отец Александра и дед того самого графа де Сегюра де ла Рокета, которому в итоге и достался замок Монтень согласно завещательным распоряжениям отца Элеоноры.
4
Монтень, упоминая о своих деловых письмах, говорит в «Опытах», I, 39: «…хотя почерк у меня омерзительный, я все же предпочитаю писать своей рукой, а не перекладываю это на других». И в кн. II, 17: «Руки мои до того неуклюжи, что я не могу толком писать даже для себя самого, и бывает, что, нацарапав что-нибудь, предпочитаю переписать заново, чем разбирать собственную пачкотню».
5
В кабинете у г-на Жаме имеются хорошие материалы для «Истории Монтеня» (совершенно не известные председателю Буйе), которые он любезно согласился нам передать. Двадцать лет назад он получил их от г-на де Монтескье-сына через г-на аббата Бертена, государственного советника, а в то время советника парламента Бордо и главного викария Перигё, для того чтобы жизнеописание Монтеня было опубликовано более точным и обширным, нежели напечатанный в Лондоне труд председателя Буйе. Мы охотно выполнили бы это пожелание, если бы могли иметь доступ к письмам Монтеня, которые, как известно, находятся в руках некоторых особ.
6
Мы вполне представляем себе, что Монтеню писать на иностранном языке было так же трудно, как и на нашем. «Находясь в Италии, я дал одному человеку, дурно изъяснявшемуся по-итальянски, вот какой совет: раз он не стремится хорошо говорить на этом языке, а хочет только, чтобы его понимали, пусть употребляет первые попавшиеся слова – латинские, французские, испанские или гасконские, – прибавляя к ним итальянские окончания; в таком случае его речь непременно совпадет с каким-нибудь наречием страны: тосканским, римским, венецианским, пьемонтским или неаполитанским, или с какой-нибудь из их разновидностей» («Опыты», II, 12). Тем не менее, находясь в Лукке, Монтень возымел желание изучить тосканский язык: «Мне пришла фантазия изучать флорентийское наречие, причем усердно и старательно; я потратил на это достаточно времени и усилий, но мало чего добился».
7
Согласно Мазерати, осада Ла Фера продлилась шесть недель и город сдался лишь 12 сентября 1580 года.
8
Этот граф де Грамон был мужем прекрасной Коризанды, одной из любовниц Генриха IV.
9
«Опыты», III, 4.
10
У Монтеня было пять братьев: капитан Сен-Мартен, погибший в двадцать три года от удара мячом во время игры, «Опыты», I, 19; сеньор д’Арсак, владетель земли в Медоке, которая была занесена морскими песками; сеньор де Ла Брусс, изъятый председателем Буйе из жизнеописания Монтеня, но упомянутый в «Опытах», II, 5; сьер де Матекулон, который участвовал в путешествии Монтеня; сьер де Борегар, ставший протестантом, как мы узнаем из письма Монтеня, которое содержит рассказ о смерти Этьена де Ла Боэси.
Известны имена четырех младших братьев Монтеня:
1. Тома (род. 1534), сеньор де Борегар, действительно протестант, стал также сеньором д’Арсаком благодаря своей женитьбе на Жакетте д’Арсак, родственнице Этьена де Ла Боэси, ближайшего друга Монтеня («В Медоке море засыпало песком земли моего брата, господина д’Арсака»; «Опыты», I, 31); так что Керлон ошибся, разделив его на двух человек.
2. Пьер (1535–1597), сеньор де Ла Брусс («Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сьером де Ла Бруссом…»; «Опыты», II, 5).
3. Арно (1541–1569), капитан Сен-Мартен («…мой брат, капитан Сен-Мартен, двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом, причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии, причиненной этим ушибом»). Но что касается его возраста, то тут явное недоразумение. По сохранившимся документам, на момент смерти их отца (в 1568-м) Арно было уже двадцать семь лет, и умер он (опять же по документам) в промежутке между двумя официально зарегистрированными датами: 22 августа 1568 года и 23 мая 1569 года (когда среди членов семьи распределялось его наследство, поскольку он не оставил после себя детей). Так что это либо описка самого Монтеня, либо (что скорее всего) ошибка наборщика в типографии, спутавшего числа 28 и 23 из-за известной неразборчивости монтеневского почерка.
4. Бертран-Шарль (1560–1627), сеньор де Матекулон, младший из братьев Монтеня, участник его итальянского путешествия, упоминается на первой же странице «Дневника». Возможно, были и другие братья, умершие ранее, но история не сохранила их имен. Так что вернее было бы сказать: «Монтень был старшим из пяти братьев».
11
Ныне живущий в Лотарингии г-н граф дю Отуа происходит из этого же рода.
12
«Несмотря на мои колики, я не слезаю с лошади по восемь – десять часов кряду и все же не ощущаю чрезмерной усталости – vires ultrà sortemque senectae» («Сверх сил и удела старости» – лат.). «Опыты», III, 9.
13
То есть от лютеранства. Аугсбургское исповедание (лат. Confessio Augustana, нем. Augsburger Bekenntnis) – официальный вероисповедальный документ, является богословской нормой для лютеран, их кредо. Его первоначальная версия была написана Меланхтоном в 1530 году и одобрена самим Лютером как изложение исповедания веры Лютеранской церкви.
14
Монтень, писавший своей жене, чтобы утешить ее после потери двухлетней дочери, которая родилась у них после четырех лет брака и была тогда их единственным ребенком, так начал свое письмо: «Жена моя, вы вполне понимаете, что сейчас не время быть галантным, увиваться за вами и любезничать. Люди говорят, что ловкий человек может взять женщину, но жениться на ней – значит сделать глупость. Пускай говорят: я со своей стороны держусь простого обычая древних времен, так что в нынешних обстоятельствах облачен скорее в шкуру… и т. д.».
15
«Опыты», II, 37.
16
«Кто не приезжает на воды достаточно бодро настроенным, с желанием наслаждаться обществом людей, здесь находящихся, участвовать в прогулках, к которым весьма располагает красота мест, где обычно находятся целебные источники, тот несомненно сильно понижает полезное действие водолечения. По этой причине я до настоящего времени выбирал места с наиболее красивыми окрестностями, с наибольшими удобствами по части жилья, питания и общества; к числу их принадлежат во Франции – баньерские воды, на границе Германии и Лотарингии – пломбьерские воды, в Швейцарии – баденские источники, в Тоскане – луккские, а в особенности так называемые “воды делла Вилла”, которыми я пользовался чаще всего и в разное время». «Опыты», II, 37.
17
Он пишет: Это статуи, которые мне больше всего понравились в Риме. Стало быть, наш философ сравнивал, а значит – был чувствителен к искусству.
18
Сегодня этим даже слишком восхищаются, и большинство наших философов (или тех из нас, кто называет себя этим именем) не больше других защищены от чувства, которое вовсе не доказывает величину ума, которую хотят показать.
19
Он довольно много наблюдал ловкость римских куртизанок и «восхищался тем, насколько умело они выставляют себя более красивыми, чем есть на самом деле. Они умеют представить на обозрение самое приятное из того, чем располагают; показывают нам только верх лица, или низ, или бок, прикрываются или открываются так, что в окне не видно ни одной дурнушки».
20
«И сколь бы развращенным меня ни считали, – говорит Монтень в «Опытах», III, 5, – я на самом деле соблюдал законы супружества много строже, чем в свое время обещал или надеялся».
21
«Один немец, – говорит он в «Опытах», III, 13, – к великому моему удовольствию, поносил в Аугусте неудобство наших каминов, используя те же доводы, какими мы осуждаем их печи. И правда, жар в замкнутом пространстве и запах раскаленного кирпича, из которого сложены печи, тягостны для большинства тех, кто к этому не приучен. Для меня, впрочем, нет. Вообще же это устойчивое и равномерно распределенное всюду тепло, без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов, вполне выдерживает сравнение с нашим способом обогревания комнат».
22
Так путешествует дряблость. Таким людям хотелось бы все увидеть, не доставляя себе ни беспокойства, ни малейшего труда; охотнее всего они путешествовали бы в своей постели.
23
Это правило, к соблюдению которого Монтень, похоже, обязывает себя, было не таким уж строгим, поскольку мы увидим в Италии, как он неоднократно проезжает по одним и тем же местам, да еще и задерживается там.
24
Том I, стр. 101. (Имеется в виду первый том двухтомного издания «Дневника» 1774 года.)
25
Жан-Пьер Нисерон, или отец Нисерон (1685–1738), монах, французский писатель и компилятор, более всего известный своим трудом «Мемуары для истории знаменитых людей» (изд-во Бриассона, Париж, 1739).
26
Монтень охотно делал добавления к своим произведениям, но ничего не исправлял. И вот причина, которую он приводит в «Опытах», III, 9: «Я добавляю, но ничего не исправляю. Во-первых, потому, что тот, кто отдал в заклад всему свету свое сочинение, по-моему, начисто потерял на него права. Пусть, если может, говорит более складно где-нибудь в другом месте, но не искажает работы, которую продал. Покупать у таких людей нужно только после их смерти. Пусть они прежде хорошенько подумают и лишь потом берутся за дело. Кто их торопит?» Прекрасный вопрос! Жажда славы или чего-нибудь иного, а подчас и то и другое вместе.
27
Отец Нисерон, который наверняка видел некоторые из четырех первых изданий «Опытов», уверяет, что текст Монтеня тут более последователен, чем во всех последующих изданиях, «потому что этот текст, содержавший лишь ясные и точные рассуждения, был взрезан и прерван различными добавлениями, которые автор вставлял то тут то там в разное время и которые основательно его запутали, притом что он так и не дал себе труда навести там порядок».
28
Не подлежит сомнению, что «Опыты» Монтеня содержат немало перигорских и гасконских выражений, чего лондонский издатель (г-н Кост), похоже, не слишком заметил. Перигорское наречие, как и наречия некоторых других провинций, сохранило больше следов латинизма, чем вообще уцелело во французском языке. Вот только один пример: латинское слово Titubare, означающее колебаться, качаться, шататься, легко узнается в перигорском слове Tiboyer, имеющем то же значение.
29
Автор латинской эпитафии (начертанной на его кенотафе в обители бордоских фельянов), похоже, собрав старинные латинские слова, из которых она составлена, хотел охарактеризовать ими красноречие «Опытов», хотя проще думать, что это монашеская педантичность или германское изящество вероятного писателя, о котором нам ничего не известно.
30
У Керлона boute-dehors, хотя у самого Монтеня bout-hors, что действительно было названием детской игры, которое можно перевести как «вытолкни вон», «вышибала» и т. п. Монтень использовал это выражение в «Опытах» всего два раза: первый (кн. I, гл. 10) в смысле «вышибала», то есть проворный, быстрый на ответ игрок, который не лезет за словом в карман: «…одним в речах свойственна легкость и живость, они, как говорится, за словом в карман не лезут…»; а во втором (кн. II, гл. 12) именно в смысле «игра»: «Ведь и они могут быть вытеснены из игры так же, как предшествовавшие им учения». (Здесь и далее «Опыты» Монтеня цитируются в основном по двухтомному изданию 1979 г., М., «Наука», серия «Литературные памятники».)
31
Можно было бы наверняка сохранить их и больше, как Жак Амио и некоторые другие писатели XVI века; они обогатили бы наш язык, а те, которыми их заменили, обладают гораздо меньшей силой или выразительностью, не будучи ни более мягкими, ни более гармоничными и т. д. Зато известно, как с ними обошлись первые академики и сколько вкуса у них было!
32
Поскольку Монтень умер лишь десять с лишним лет спустя после этого итальянского путешествия (в 1592 году), так и не опубликовав свой «Дневник», то можно заключить из этого, что он никогда не увидел бы свет, никоим образом. В крайнем случае писатель хотел, чтобы он оставался в семье, как и множество частных мемуаров, которые были представлены публике лишь много лет спустя после кончины их авторов.
33
Мы собрали их все и можем однажды устроить дискуссию по этому поводу, если покажется, что это заинтересует литераторов.
34
Один из самых негодных судей Монтеня среди многих других – Мальбранш. Будучи сам человеком метода, он должен находить его несносным. Этот философ-картезианец из-за некоей непоследовательности, одновременно формальной и реальной, всегда заявлявший, что он против воображения, своей преобладающей способности (хотя это его самого изрядно удивляло), совершенно не мог насладиться тем, у кого этого добра столько же, сколько и у него самого, но который нашел ему совсем другое применение. Так что мы совсем недостаточно знаем Монтеня, потому что судим о нем лишь по тому, что он сам говорит о себе, по его бесконечным личинам и по его смутным, неопределенным чертам, нарисованным его собственной рукой. Его характер философа был совершенно не развит.
35
Дар по обету, или «обет», как называет его сам Монтень.
36
Дон де Вьен, бенедиктинец из конгрегации Святого Мавра, автор «Истории Бордо», первый том которой уже в руках публики.
37
Что и дал почувствовать автор эпитафии на греческом, начертанной на кенотафе в обители бордоских фельянов. Вот эти две стихотворные строки, переведенные Монуа: Solius addictus jurare in dogmata Christi // Cetera Pyrrhonis pendere lance sciens – «Крепко привязанный к догмам христианства, // он умел взвесить остальное на Пирроновых весах».
38
Взгляните на ее предисловие к «Опытам» Монтеня. Это слишком мало читаемое предисловие – в своем роде шедевр. Никогда Монтеня не будут лучше защищать, чем в этом произведении. Его защитница, его апологет красноречиво отвечает всем предводителям цензуры, всем критикам «Опытов». Бальзак, Паскаль, Мальбранш и недавние критики не укоряют Монтеня ни в чем таком, в чем этот писатель заранее не был бы прекрасно оправдан – либо явно, либо неявно, судя по смыслу. Наконец именно там, даже больше, чем в произведениях его подражателя Шаррона, находят жар и нерв его языка. Сам Монтень тут одобрил бы все. И, возможно, нет ничего сильнее начала этого предисловия: если вы спросите у человека заурядного, кто такой Цезарь… и т. д.
39
Философия, которая есть не что иное, как краснобайство, не избавлена ни от каких человеческих убожеств и ничтожеств, а особенно от суетности. Смешно показать ее слишком открыто и даже желая скрыть; или творить свою славу всеми теми мелкими средствами, которые употребляют ныне и которые выдают сами себя. У Монтеня, по крайней мере, было то преимущество, что его суетность, более искренняя и более откровенная, поражает меньше, нежели суетность лицемерная. Сказано ведь, что после храбрости нет ничего храбрее, чем признаться в собственной трусости.
40
Deus nobis haec otia fecit (Вергилий, Эклога I – «…нам бог спокойствие это доставил» – лат.).
41
Генриху III. «Его христианнейшее величество» – обычная титулатура французских королей.
42
В самом деле, хотя Монтень пишет, что он видел в ватиканском соборе Святого Петра знамена, захваченные у гугенотов войсками Генриха III (что довольно ясно показывает, какое участие принимал Рим в наших смутах, как это и отражено в его заметках), однако, хотя отвратительная Варфоломеевская резня совершилась в понтификат именно этого папы, Дезер, историк-гугенот, причем один из наименее умеренных, недвусмысленно пишет, что в 1584 году, когда Григорию XIII представили план Лиги, которому он дал свое благословение и объявил себя его крестным отцом, он все же не захотел стать зачинщиком войны, которую не мог бы погасить, а потому отправил депутатов восвояси без ответа («Общее описание истории Франции в правление Генриха III»).
43
Этот папа был женат (до принятия сана, разумеется).
44
Фраза Теренция: Homo sum, humani a me nihil alienum («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо») – хоть и полная смысла, но ставшая такой тривиальной, ни для кого, быть может, кроме как для нашего автора, не имела более полезного или более точного применения. Поскольку он охватывал своими размышлениями всю совокупность рода людского, то был в числе прочего и простым наблюдателем пола, самой природой предназначенного нравиться с помощью своих прикрас (formarum elegans spectator), нежели прилежным зрителем чего-то другого.
45
Мы уже давно сделали такое же замечание о Париже.
46
Что попахивает янсенизмом (лат.).
47
Также, тоже, равным образом (лат.).
48
Итальянский автор книги, в которой рассуждается о преступлениях и наказаниях, не нашел бы эту мораль излишне мягкой, поскольку думал то же самое.
49
Именно признательность не позволила Монтеню опустить имя мажордома; но поскольку не менее интересно узнать имя прелата, который так хорошо защищал «Опыты», то этого доминиканца, который был магистром Священного апостолического дворца, звали Систо Фабри. Известно, что, с тех пор как святой Доминик учредил эту должность по распоряжению папы Гонория III, ею всегда облекаются монахи этого ордена.
50
И в самом деле, весьма странно, чтобы человека, менее всех верящего в медицину, пригласили, дабы судить об этой материи, но, поскольку он верил в минеральные воды, видимо, предположили, что он и в остальном придерживался общепринятых взглядов.
51
Эпихарм: Emori nolo, sed me esse mortuum nihili æstimo (лат.).
52
Мочекаменная болезнь (la gravelle).
53
То есть (как это объяснено в примечании, касающемся этого размышления в III томе «Дневника» на стр. 271, издание 1774 года), отдаваясь природе и позволяя ей осуществлять над нами всю свою власть, не борясь с развитием недуга с помощью лекарств или болезненных операций, от которых нас избавляет быстрая смерть. Быть может, он говорил себе в душе,́ как некий современный поэт: Ah! non est tanto digna dolore salus – «Ах! это не награда за нашу боль, это спасение» (лат.).
54
А вовсе не в Венеции, как это написал, ссылаясь на де Ту, отец Нисерон, а вслед за ним и Песселье в своем сборнике «Историческое похвальное слово», во главе которого он поставил «Дух Монтеня».
55
По-итальянски Монченизио.
56
Бресс – название области.
57
«…кончился путь и конец описанью» (Гораций, из последней строки Сатиры V).