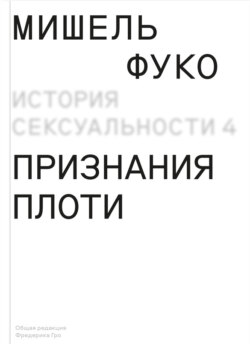Читать книгу История сексуальности 4. Признания плоти - Мишель Фуко, Michel Foucault - Страница 4
Глава I
Формирование нового опыта
1. Сотворение, деторождение
ОглавлениеРежим aphrodisia, определенный через его соотнесение с браком, деторождением, осуждением чувственных удовольствий, а также с уважительной и неослабевающей взаимной привязанностью супругов, сформулировали нехристианские философы и духовные наставники. Именно «языческое» общество выработало возможность признавать наличие правила, приемлемого для всех, – что вовсе не означает, что оно было общепринятым, так как на деле ему следовали далеко не все.
Тот же самый режим без принципиальных изменений обнаруживается в учении Отцов Церкви II века. По мнению большинства историков, Отцы почерпнули принципы своих учений не в обычаях первых христианских общин и не в писаниях апостолов (исключением здесь являются глубоко проникнутые эллинизирующим духом послания апостола Павла). Эти принципы, как считают историки, словно переселились в христианскую мысль и практику из враждебного им языческого окружения, чтобы обезоружить его враждебность, указав на те формы поведения, высокая моральная ценность которых давно считалась общепризнанной. Неоспоримым фактом является то, что такие апологеты, как святой Юстин {Мученик} или Афинагор {Афинский} в своих обращениях к императорам настаивают на том, что в отношении брака, деторождения и aphrodisia христиане следуют тем же самым принципам, которые были приняты и у нехристианских философов. И чтобы подчеркнуть эту тождественность, они употребляют без малейших изменений афористические предписания, по словам и формулировкам которых легко догадаться об их происхождении. Так, святой Юстин пишет: «Но мы или вступаем в брак не иначе, как с тем, чтобы воспитывать детей, или, отказываясь от брака, постоянно живем в воздержании»[44]. В свою очередь Афинагор, обращаясь к императору Марку Аврелию, выдвигает тезисы, близкие стоицизму: власть над желанием[45] («у нас мерою желания служит деторождение»[46]); отказ от любого вторичного брака («кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует», «второй брак есть прелюбодеяние под благовидным предлогом»[47]); неприязненность по отношению к удовольствию («мы презираем здешние житейские дела и даже душевные удовольствия»[48]). Афинагор вводит эти темы совсем не для того, чтобы показать отличительные черты христианства по сравнению с язычеством. Скорее, он показывает, насколько христиане не заслужили тех упреков в безнравственности, которые высказывают в их адрес, и насколько самая их жизнь есть воплощение нравственного идеала, признанного уже языческой премудростью[49]. Он лишь подчеркивает, что вера христиан в вечную жизнь и их желание соединиться с Богом дают им глубокий и прочный мотив, чтобы следовать этим предписаниям и, более того, хранить чистоту своих помыслов и изгонять осуждаемые деяния даже из своих мыслей[50].
Климент Александрийский, писавший во II веке, идет куда дальше в своих свидетельствах о приспособлении режима aphrodisia к христианскому образу мысли. Он касается проблемы брака, половых отношений, деторождения и воздержания в нескольких текстах: в десятой главе второй книги, а также, менее подробно, в шестой и седьмой главах той же книги и в [восьмой главе] третьей книги «Педагога»; в тридцать второй главе второй книги и во всей третьей книге «Стромат». Я подвергну здесь анализу главным образом первый из этих текстов, поясняя его, когда это будет нужно, другими. Этому есть причина: большой текст третьей книги «Стромат» в основном посвящен полемике с различными положениями гностиков. Эта полемика разворачивается на двух фронтах: с одной стороны, Климент стремится опровергнуть мнение о том, что осуждение материи, ее отождествление со злом и гарантированность спасения избранных освобождают от подчинения законам мира сего, если вообще не делают обязательным ритуалом их нарушение. Вместе с тем он стремится четко разойтись с тем распространенным воззрением энкратитов, согласно которому, следуя, более или менее оправданно, трудам Валентина и Василида, нужно запретить брак и половые отношения либо всем верующим, либо, по меньшей мере, тем, кто решит вести истинно святую жизнь. Эти тексты, несомненно, очень важны для понимания – сквозь призму вопроса о браке и воздержании – теологии Климента, его концепции материи, зла и греха. У «Педагога» – совсем иное предназначение: хотя порой утверждалось, что эта книга обращена к язычникам, которые только вступают на путь Церкви, на самом деле это не так – она адресуется христианам уже после их обращения в веру и крещения, предлагая им четкие, конкретные и практические нормы жизни[51]. Таким образом, «Педагог» аналогичен по своим задачам сборникам практических советов эллинистических философов, и его сравнение с ними в данном контексте вполне приемлемо.
Разумеется, включенные в «Педагог» предписания праведной жизни не исчерпывают обязанностей христианина и не приводят к конечной цели его пути. Прежде чем верующий обратится к этой книге, ему помогала наставить душу на путь истинный другая – «Протрептик» {«Увещевание к язычникам»}, и, подобным образом, после «Педагога» он должен был посвятить себя приобщению к высочайшим истинам под руководством наставника. Поэтому «Педагог» – это книга духовного упражнения и развития, путеводитель восхождения к Богу, которое затем должно было быть продолжено под руководством других учителей вплоть до достижения цели. Однако промежуточный характер этого искусства христианской жизни не отменяет его самостоятельной ценности: пусть «Педагог» не говорит всего, его слова никогда не утрачивают своей силы. Более совершенная жизнь, которой научит верующего другой учитель, откроет перед собою новые истины, но останется послушной тем же нравственным законам. Поэтому, в частности, предписания «Педагога» в отношении брака, половых отношений, удовольствия не являются промежуточным, соответствующим некоей средней жизни, этапом, который сменяется более требовательным или более чистым этапом, подобающим жизни постигшего истину. Видящий то, что не дается взору простого «ученика», тем не менее повинуется тем же, что и «ученик», правилам повседневной жизни.
Это ясно прослеживается в «Строматах», где Климент не дает «постигшему истину» никаких иных предписаний в отношении брака, чем те, что изложены в «Педагоге». Он категорически отказывается осуждать брак, видеть в нем, как иные авторы, porneia, блуд, и даже считать его серьезным препятствием для истинно религиозной жизни, но в то же время и не предписывает брак в качестве обязательства: он оставляет открытыми оба пути, признавая, что каждый из них – как брак, так и целомудрие – налагает свои требования и обязанности[52]. По ходу рассуждения или спора он то подчеркивает величайшую заслугу тех, кто взял на себя ответственность завести жену и детей, то отмечает высокую ценность жизни без половых отношений[53]. Таким образом, сказанное в «Педагоге» о жизни мужа с женой не сводится к описанию некоего вре́менного состояния: Климент дает общие предписания, которые относятся ко всем женатым людям, на каком бы этапе познания Бога они ни находились. Да и суть учения «Педагога» в целом объясняется схожим образом. Ведь Педагог – не просто смертный и несовершенный учитель: он «подобен Богу, Своему Отцу <…>. Он безгрешен, безупречен, Его душа свободна от страстей. Это – всецело Бог, лишь в человеческом образе; это – исполнитель воли Отчей, Бог Слово (Логос), сущий в Отце, сидящий одесную Его, Бог в зримом образе»[54]. Таким образом, Педагог есть сам Христос, а то, чему он учит, – вернее, то, что учит нас в нем, и то, чему мы научаемся через него, – есть Логос. Будучи Словом, он учит закону божьему, и наставления, которые в нем изложены, суть всеобщий и живой разум. Искусству христианского поведения посвящены вторая и третья книги «Педагога», но уже в конце тринадцатой главы первой книги Климент очерчивает суть последующих уроков: «Долг христианина в жизни сей заключается в единении его воли с Богом и Христом, каковое и составляют праведные деяния, ведущие к жизни вечной. Христианская жизнь, которой мы учимся у нашего Педагога, – это совокупность действий, сообразных Логосу, неукоснительное исполнение поучений Логоса, то самое, что мы и называем верой. Оная совокупность состоит из предписаний Господа, которые, будучи Его изречениями, служат нам духовными заветами, полезными как для нас самих, так и для наших ближних». Среди этих заветов Климент выделяет те, которые относятся к жизни дольней, – о них повествуется в тексте «Педагога», и те, которые относятся к жизни горней, – о них иносказательно говорит Священное Писание. Одно дело – уроки, обращенные ко всем, и другое – учение для посвященных? Возможно[55]. Однако и в законах повседневной жизни следует видеть учение Логоса, в послушном этому учению поведении – праведные деяния, ведущие к жизни вечной, а в этих праведных, сообразных Логосу деяниях – единение воли с Богом и Христом.
Слова, к которым прибегает Климент, предваряя изложение своих правил жизни, очень знаменательны. Они ясно указывают на соотнесение этих правил с двумя регистрами: в представлении стоиков ими определяются как просто подобающие поступки (kathêkonta), так и разумно обоснованные действия, через которые совершающий их человек становится причастным всеобщему разуму (katorthômata); и в рамках христианской тематики ими тоже определяются как запрещающие предписания, служащие условием приема в общину, так и вообще форма существования, ведущая к вечной жизни и тождественная вере[56]. В целом предлагаемое Климентом учение «Педагога» – это такой корпус предписаний, где уровень «подобающего» есть лишь видимая сторона добродетельной жизни, которая в свою очередь есть шествие к спасению. Всеприсутствие Логоса обеспечивает солидарность этих трех уровней: Логос вдохновляет на подобающие деяния, указывает верный – разумный – путь и спасает души, объединяя их с Богом[57]. «Практические» разделы «Педагога», следующие за приведенным отрывком, состоят из множества детальных предостережений, способных удивить своим сугубо формальным характером. Однако их нужно рассматривать в свете общего замысла Климента и толковать бесконечные мелочи kathêkonta, в которых, как кажется порой, растворяется его мысль, с оглядкой на тот Логос, который в одно и то же время есть принцип праведного деяния и движение к спасению, разум мира сего и слово божье, влекущее к вечности.
Таким образом, прочтение десятой главы второй книги «Педагога» следует предварить несколькими замечаниями.
1. Традиционно в этом тексте усматривают множество явных и скрытых цитат из трудов языческих моралистов, особенно стоиков. Чаще всего среди них фигурирует Музоний Руф, хотя Климент ни разу не называет его имени. В самом деле, изречения римского стоика приводятся в тексте по меньшей мере четыре или пять раз, причем практически дословно и в ключевых пунктах, касающихся того, что законный {брачный} союз должен стремиться к деторождению[58]; что искать одного удовольствия, даже в браке, неразумно[59]; что нужно оберегать жену от любых непристойных сношений[60]; что чувство стыда, вызываемое каким-либо деянием, объясняется сознанием его ошибочности[61]. Не следует, однако, полагать, что Климент просто пересказывает в этой главе учение, заимствованное у одной философской школы, не прилагая лишних усилий к тому, чтобы придать ему христианское значение. Прежде всего нужно отметить, что отсылок к языческим философам здесь, как и во многих других текстах Климента, великое множество: среди них цитаты из Антипатра {Тарсийского}, Гиерокла и, возможно, из «Изречений Секста». Часто используется Аристотель, опять-таки не называемый прямо, а также натуралисты и врачи. Наконец, – и это тоже отнюдь не исключение для трудов Климента, – одним из немногих авторов, названных по имени, является Платон, цитируемый в этой главе «Педагога» многократно[62]. В то же время ни одна из больших назидательных тем, затрагиваемых Климентом, не обходится без библейских цитат: из Пятикнижия Моисеева, из Книги Левит, из пророков Иезекииля и Исайи, из Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Скорее, чем широкое и не слишком проработанное заимствование положений позднего стоицизма, в этом тексте следует усмотреть попытку Климента подкрепить предписания, которые и так уже были в арсенале моралистов его эпохи, тремя сопряжениями: первое сопряжение – с трудами натуралистов и медиков – показывает, что эти предписания и их разумность подтверждаются природой, и тем самым свидетельствует о наличии Логоса как принципа организации мира; второе сопряжение – с трудами философов, особенно Платона, философа из философов, – показывает, что эти предписания обнаруживаются и оправдываются человеческим разумом, и тем самым свидетельствует о том, что Логос обитает в душе всякого человека; и наконец, третье сопряжение – со Священным Писанием – показывает, что эти предписания, эти заповеди – endolai, – напрямую даны людям Богом, и тем самым свидетельствует о том, что соблюдающие их, будь то в виде моисеева закона или заповедей Христа, по воле своей обретут единение со Всевышним[63].
Таким образом, каждое из основных предписаний десятой главы второй книги «Педагога» повинуется принципу «тройной детерминации»: природой, философским разумом и словом божьим. Конечно, само содержание учения и его кодификация – то, что оно дозволяет, советует или запрещает, – вполне, до мельчайших подробностей, совпадает с наставлениями философских школ предыдущих столетий, и прежде всего стоиков. Однако все усилия Климента направлены на то, чтобы включить эти известные и распространенные афоризмы в сложную ткань цитат, отсылок и примеров, которые превращают их в предписания Логоса, каким он проявляется в природе, в человеческом разуме или в слове божьем.
2. Вторая и третья книги «Педагога» представляют собой свод правил для жизни. За кажущимся беспорядком глав – после главы о питии идет глава о дорогой домашней утвари; между главами о поведении в обществе и о том, что нужно и не нужно делать во время сна, речь заходит об использовании парфюмерии и венков, о выборе обуви (так, женщины должны носить простые белые сандалии), о драгоценных камнях, от блеска которых не следует терять голову, и т. д. – вырисовывается расписание {tableau} некоторого «режима». Медико-моралистическая литература того времени знает несколько моделей подобных расписаний: это мог быть распорядок дня, более или менее четко распределенный по часам суток (так, режим Диокла {Каристского} направляет человека от пробуждения до отхода ко сну, оговаривая сезонные поправки и уделяя особое внимание половым сношениям[64]); это могло быть перечисление, опирающееся на каноническую для многих авторов последовательность Гиппократа: сначала упражнения, затем еда, питье, сон, и наконец, секс[65].
Кватембер[66] утверждает, что свод правил Климента для повседневной жизни следует обычному распорядку дня, но начинает его с вечернего приема пищи, то есть с рекомендаций по поводу питания, питья, бесед и поведения за столом; затем он переходит к ночи, сну и предписаниям по поводу половых сношений; далее следуют суждения относительно одежды и украшений, привязанные к утреннему туалету, а после этого – в большинстве глав третьей книги – речь заходит о дневной активности, об отношениях со слугами, мытье, гимнастике и т. д.
В содержании десятой главы, посвященной супружеским отношениям, Кватембер – хотя другие комментаторы не раз обращали внимание на царящий в этом тексте хаос – тоже видит простой и логичный план: оговорив, что целью брака является деторождение, Климент осуждает противоестественные сношения, затем переходит к жизни в браке и рассматривает друг за другом беременность, соития без зачатия и искусственные выкидыши, после чего провозглашает принципы умеренности и приличий в браке. Несмотря на множество отступлений и сюжетных пересечений, в тексте действительно прослеживается подобная схема. Но можно распознать в нем и другую логическую связь, которая ни в коей мере не противоречит предложенной Кватембером.
Путеводной нитью в ее поиске может послужить выбор Климента в пользу прямых цитат в одних случаях и в пользу скрытых цитат – в других. На протяжении всего текста он заботится о сопряжении авторитета Библии, свидетельств философов и заключений врачей и натуралистов по принципу тройной детерминации. Однако по ходу дела акцент смещается, и характер ссылок меняется вслед за ним. Вначале приводятся примеры из области сельского хозяйства и естественной истории, призванные пояснить моисеев закон (правила посева семян, «смена пола» у гиен, развратный нрав зайцев)[67]. Затем начинают преобладать выдержки из медицинской и философской литературы, касающиеся тела человека, его естественных движений, необходимости управлять желаниями и избегать излишеств, которые истощают тело и возмущают душу[68]. И наконец, цитаты из Библии, мелькавшие в тексте и ранее, но лишь в качестве поддержки других отсылок, в заключительной части выходят на первый план, что, впрочем, не мешает Клименту раз или два прямо сослаться на Платона и сохранить косвенные переклички с Музонием.
Можно сказать, что в этом сложном тексте накладываются друг на друга «тематическая» композиция (идущая от осуждения противоестественных сношений до предписаний умеренности в браке) и «референциальная» композиция, которая придает этим предписаниям «режима» новый масштаб. Чередование цитат позволяет услышать по очереди разные голоса, которыми глаголет Логос: голос природы, голос разума, призванный руководить устройством человека, и голос Бога, прямо обращающийся к людям ради их спасения (два первых голоса, разумеется, тоже суть Логос божий, но в иной форме). В свою очередь эта последовательность голосов позволяет обосновать одни и те же предписания и запреты, неоднократно повторяемые в тексте, на трех различных уровнях: на уровне порядка мироздания, каким установил его Творец («противоестественное» поведение некоторых животных представляет этот порядок в перевернутом виде); на уровне умеренности, которой учат человека мудрость его тела и принципы разума, стремящегося властвовать собой[69]; и на уровне чистоты, которая позволяет приобщиться по окончании земной жизни к нетленному бытию. Возможно, здесь в сжатом виде проявляется важное для антропологии Климента тройное различение животного, душевного и духовного; но даже если в основе обсуждаемого текста лежит иная схема, он явно подчинен восходящему движению от примеров, которые покоятся в природе как ее уроки, к призывам, которые устремляют христиан к жизни, «подобной» Богу. На пути этого движения и определяется экономия половых отношений.
3. Первый вопрос, который ставили трактаты о поведении или диатрибы языческих философов, касался целесообразности вступления в брак: Ei gamêteon. Десятая глава второй книги «Педагога» обходит этот вопрос молчанием: в первых же ее строках сказано, что она обращена к женатым людям, и ниже, после рассмотрения вопроса о половых отношениях во время беременности и о болезнях, которые могут стать следствием любовных излишеств, Климент вновь оставляет этот вопрос в стороне, ссылаясь на то, что он уже обсуждался в трактате «О воздержании». Не ясно, идет ли здесь речь об отдельном сочинении или о фрагментах «Стромат». В «Строматах» есть две части, которые могли бы составлять подобный трактат или по меньшей мере воспроизводить его содержание: это вся третья книга, представляющая собой пространное рассуждение, вращающееся вокруг энкратизма, общего для многих гностических течений, и ряда «распущенных» форм дуалистической морали, а также (что более вероятно) заключительная, двадцать третья, глава второй книги, которая служит введением в третью книгу и сама по себе преподносится как ответ на традиционный вопрос практической философии: нужно ли жениться?[70] К разбору именно этого вопроса и отсылает «Педагог».
Ответ, который дает на него финальный пассаж второй книги «Стромат», не оригинален на фоне философской морали своего времени. Если он с чем-то расходится, то не с общими положениями философов, а, скорее, с позицией, которую они занимали на практике и слабые стороны которой не искупаются теорией. Конечной целью брака полагается в «Строматах», так же как и в «Педагоге», рождение детей[71].[72] Исходя из этого уравнения между ценностью брака и задачей деторождения, Климент устанавливает основные этические правила, призванные регулировать отношения супругов: связь между ними должна относиться не к порядку удовольствия и сладострастия, а к порядку «Логоса»[73]; не следует относиться к жене своей как к любовнице[74]; не следует расточать семя без нужды[75]; нужно держаться принципов скромности – тех принципов, которые соблюдают даже животные[76]; не следует разрывать брачный союз, а коль скоро так случилось, нужно отказаться от вторичного брака, если бывший супруг еще здравствует[77]; и наконец, прелюбодеяние находится под запретом и подлежит наказанию[78].
Большинство этих предписаний, особенно те из них, которые относятся к отношениям между супругами, можно найти и в «Педагоге», где они обсуждаются гораздо подробнее. Преемственность и однородность двух текстов очевидна – с поправкой на то, что «Строматы» говорят о браке и о его ценности с точки зрения деторождения, а «Педагог» говорит о деторождении как о принципе различения половых отношений. В первом случае речь идет о деторождении как конечной цели брака, а во втором – о том же деторождении в рамках экономии половых отношений и актов. Главный интерес {двадцать третьей} главы {второй книги «Стромат»} и ее новизна – если не во всей этической литературе Античности, то по крайней мере в христианской литературе – состоят в том, что в ней пересеклись два круга вопросов, две темы традиционных дебатов: вопросы о правильной экономии удовольствий – тема aphrodisia; и вопросы о браке, его ценности и правилах поведения в нем – с учетом того, что брак оправдывается деторождением и что, исходя из этого, можно установить, что именно делает его благом (этот тезис Климент развивает во второй книге «Стромат» и напоминает в «Педагоге»). Конечно, попытка определить, каким должно быть половое поведение супругов, предпринимается не впервые, но, вероятно, впервые выстраивается целый режим половых актов, обусловленный не столько благоразумием и здоровьем конкретных супругов, сколько правилами, присущими браку. Ранее существовали – и, разумеется, пересекались – некоторый режим половых отношений и некоторая мораль брака. Но в тексте Климента эти две точки зрения совмещаются. То, что происходит между супругами и чего моралисты Античности касались в лучшем случае кратко и поверхностно, ограничиваясь указанием правил приличия и благоразумия, теперь становится предметом заботы, вмешательства и анализа.
Хотя название десятой главы второй книги «Педагога» звучит несколько загадочно: «Что нужно различать в отношении деторождения», в ней рассматривается довольно конкретный вопрос. Этот вопрос появляется в первой же строке текста и повторяется в последней; он касается своевременности, подходящего момента, благоприятного случая – кайроса – для половой связи между людьми, состоящими в браке[79]. Поскольку речь идет о разграничении дня и ночи, термин «кайрос» имеет здесь узкое значение «подходящего момента». Но это отнюдь не единственное его значение. В лексиконе философии, в частности у стоиков, кайрос обозначает совокупность условий, в которых некое деяние, считающееся допустимым, становится деянием, имеющим положительную ценность. Кайрос – это не благоприятный момент, избегающий тех рисков и опасностей, которые могли бы сделать некое нейтральное деяние дурным; кайрос определяет критерии, которым конкретное деяние должно удовлетворить, чтобы стать благим. Если закон разделяет все позитивные деяния на разрешенные и запрещенные, то кайрос определяет позитивную ценность конкретного деяния.
Таким образом, вопрос, рассматриваемый в десятой главе второй книги «Педагога», сводится к определению условий, при которых половые отношения между женатыми людьми приобретают положительную ценность. То, что такой вопрос разбирается в книге о поведении, само по себе существенно. Прежде всего потому, что из этого явствует: теперь, в сравнении с тем, что имело место у языческих авторов предшествующих эпох, вопрос о половых отношениях, об aphrodisia, оказывается в значительной мере подчинен вопросу о браке; мало того, он до такой степени утратил свою независимость, что термин aphrodisia в этом тексте Климента уже не упоминается. Деторождение или, вернее, соитие, ведущее к деторождению, – вот что служит общей темой всей десятой главы второй книги «Педагога». Кроме того, она, вне сомнения, является первым текстом, в котором половые отношения между супругами рассматриваются сами по себе, в подробностях, как специфический и важный элемент поведения. Как мы видели, большинство предписаний, изложенных Климентом, уже фигурировало в трудах языческих философов, но там эти предписания вписывались в общую этику супружеских отношений, в распорядок совместной жизни женатых людей. Так, труд Плутарха «Coniugalia praecepta» {«Наставления супругам»} содержал рекомендации относительно того, как поддерживать благоденствие в обществе, которое образует семейная пара; половые отношения обсуждались в нем лишь как один из элементов, составляющих жизнь, которой брак не должен помешать быть достойной с философской точки зрения. В «Педагоге» о семейной паре говорится мало, тогда как половые отношения между супругами являются важным и относительно самостоятельным предметом рассмотрения. Можно сказать, что перед нами первый пример жанра или, вернее, практики, которая обретет огромное значение в истории западных обществ, – исследования и анализа половых отношений в браке.
И наконец, вопрос о кайросе супружеских отношений показывает, как Климент интегрирует кодекс, действительно подхваченный им у эллинистических философий (и, несомненно, шире – у целого общественного движения), в религиозную концепцию природы, Логоса и спасения. Его решение, как мы увидим, существенно отличается от того, которое предложит святой Августин, а затем усвоят институты и доктрина западной Церкви. В размышлении Климента о кайросе было бы неверно видеть лишь более или менее искусную пересадку элементов, заимствованных из общепринятой морали и слегка подправленных в духе большей требовательности и строгости. Кайрос половых отношений определяется их связью с Логосом. Вспомним, что, согласно Клименту, Логос именуется «Спасателем», ибо он изобрел для людей «лекарства, которые задают верное направление их нравственности и ведут их к спасению», используя благоприятный «случай»[80].
* * *
Климент исходит из положения, согласно которому целью половых отношений является деторождение. Этот тезис был общераспространенным. Мы встречаем его у медиков[81] и у философов – либо в виде сопряжения трех терминов (нет половых отношений вне брака и нет брака, который не обретал бы свою цель в рождении детей[82]), либо в форме прямого осуждения всяких половых отношений, целью которых не является принесение потомства[83].
Здесь, таким образом, Климент не оригинален, как и в различении внутри отношений целеполагания вообще «ближайшей цели», или «побуждения» (skopos), и «высшей цели» (telos). А вот приложение этого различения к области половых отношений, пусть оно и следует «духу» стоиков и логике их анализа, предпринималось до Климента по меньшей мере нечасто. Да и в его тексте оно приводит к результату, который на первый взгляд кажется лишенным плодотворного значения. «Ближайшая цель» – это «paidopoiia», делание детей, потомство в узком смысле слова. А «высшая цель» – это «euteknia», что переводится то как «благочадие», то как «многочисленная семья». Однако этому слову следует придавать более широкое значение: оно подразумевает обретение в своем потомстве, в жизни и благополучии детей счастья и удовлетворения[84]. «Ближайшая цель» (skopos) вступления в половые отношения состоит, в таком случае, в наличии потомства, а «высшая цель» (telos) – в положительном отношении к этому потомству, в чувстве самореализации через него. Два соображения, которые тут же добавляет Климент, предваряя ими основное содержание главы, проливают некоторый свет на ценность этого различения.
Вначале Климент сравнивает половой акт с посевом. Это традиционная метафора: она встречается и у Афинагора, и у Апологетов; в философских диатрибах с ее помощью часто иллюстрировали правило, согласно которому семя нужно бросать в такую почву, где оно сможет дать всходы. Но Климент использует ее также для того, чтобы четче обозначить различие между тем, что должно быть «ближайшей целью» половых отношений, и тем, что должно быть их «высшей целью». Побуждением земледельца, засевающего ниву, служит забота о пропитании, – бесхитростно сказано в тексте «Педагога», – но его целью является снятие плодов, то есть, надо полагать, доведение семян до той стадии их естественного развития, когда они приносят урожай. Это сравнение с посевом довольно-таки эллиптично, и всё же, пожалуй, оно позволяет соотнести с «побуждением» деторождение, о пользе которого для родителей, получающих от детей оправдание своего брака или поддержку в старости, так часто говорили философы, а с «целью» – нечто куда более общее и менее утилитарное, а именно то свершение, каковым является для человека наличие у него потомства[85]. И поскольку именно эту цель Климент стремится очертить в десятой главе второй книги «Педагога», анализируя кайрос половых отношений, он вполне обоснованно не касается личных выгод и общественных благ, которые может сулить рождение детей[86].
В том, что темой Климента является в данном случае именно эта неутилитарная цель, не оставляет сомнений рассуждение, которое следует сразу за метафорой посева. Земледелец «насаждает» лишь «для себя»; человек же должен «насаждать и сеять из послушания Богу». Таким образом Климент объясняет не столько цель, направляющую действие, сколько принцип, который его пронизывает и поддерживает от начала до конца[87]. Акт сотворения – деторождения {[pro]création} должен быть совершен «из послушания Богу» как потому, что Бог сам его предписал, сказав «Размножайтесь», так и потому, что «человек, содействуя происхождению человека, становится образом Бога»[88].
Это рассуждение важно для всего анализа Климента, ибо оно закладывает в деторождение некоторую связь между человеком и Богом – связь тесную и в то же время сложную. То, что человек, рождая детей, становится «образом Бога», не следует понимать в смысле прямого сходства между чадородием потомков Адама и сотворением его самого. Несомненно, – как объясняет Климент в другом месте[89], – Бог «произвел своим всемогущим Словом» на Земле всех животных, а человека «сотворил собственноручно», обозначив тем самым существенную разницу и в то же время особую близость между собой и существом, созданным по Его образу и подобию. Но, согласно Клименту, это не означает, что в результате Творения человеку была передана существенная частица природы или могущества Бога: в нас нет ничего, что «совпадало» бы с Богом[90]. И тем не менее можно говорить о «подобии» Богу, как сказано в Книге Бытия: это подобие было у человека до грехопадения, и оно может и должно быть обретено им вновь. Это подобие – не «телесное сходство», но сходство по «духу» и «разуму», и оно поддерживается послушанием закону[91]: «Закон говорит: „Господу Богу Вашему последуйте <…>“, ибо послушание ему Закон называет уподоблением Богу. Через исполнение заповедей закона мы достигаем, насколько это для нас возможно, уподобления Богу»[92]. Таким образом, не само по себе деторождение в качестве естественного процесса «подобно» Творению, но только такое деторождение, которое осуществляется как до́лжно и как того «требует» закон. И если закон предписывает «жить в согласии с природой», то потому, что природа послушна Богу[93].
В этом движении к подобию и обретает свою возможность «синергия» человека и Бога. В самом деле, Бог сотворил человека потому, что человек был «достоин расположенности {Бога} к нему» и, следовательно, его любви. Если для сотворения человека требовалась причина, то она состояла в том, что «творение без человека не могло быть совершенным»[94]. Поэтому сотворение человека есть проявление благости Бога и Его присутствия. А человек в свою очередь и самим фактом {своего сотворения}, будучи существом, достойным любви Бога, дает Богу возможность проявить свою благость. Таким образом, рождая детей, человек не «подражает» акту творения в смысле естественной аналогии, а совершает нечто большее и совсем иное. Он участвует, оставаясь целокупно человеком, в могуществе и «человеколюбии» Бога: он вместе с Богом порождает людей, достойных той любви, проявление которой стало «причиной» Творения, а затем и Воплощения. «Синергия» человека и Бога в акте деторождения[95] не исчерпывается тем, что Бог способствует размножению людей; она выступает исполнением того, о чем Климент говорит в «Педагоге» выше: «Бог получает от человека то, что он создал, – человека»[96].
Итак, десятая глава второй книги «Педагога» помещает анализ «того, что нужно различать в отношении деторождения» под знаком сложных и основополагающих отношений между Творцом и его тварями. Хотя содержание весьма «обыденных» предписаний, которые даются Климентом в дальнейшем, практически во всем совпадает с учением языческих философов, из этого не следует, что он оставляет регламентацию половых отношений на откуп стоической или платоновской мудрости, принятой и признанной на основании достаточно широкого консенсуса. Конечно, Климент использовал кодексы и правила поведения, выработанные современной ему философией, но он переосмыслил этот материал и включил его в рамки концепции, которую не преминул вкратце напомнить в начале этой главы и которая обнаруживает в деторождении особые отношения между человеком и его Творцом и между Богом и его тварями. Но нужно отметить: тем самым Климент никоим образом не придает половому акту духовной ценности (даже в рамках института брака, пусть единственной целью этого института и является деторождение). Для отношений между человеком и Богом важен, согласно Клименту, не половой акт сам по себе, но то, что, совершая его, люди следуют учению, «педагогике» самого Логоса. Важно соблюдение тех «наставлений», которые Господь дал через природу, через ее примеры, формы и устроения {dispositions}, через организацию тела и правила человеческого разума, через учение философов и слова Священного Писания. Послушание всем этим многоразличным урокам – вот что способно придать брачным отношениям, направленным на деторождение, ценность «синергии» с Богом.
Попробуем лучше понять несколько произвольное на первый взгляд различение, вводимое Климентом между продолжением рода, которое должно быть «ближайшей целью» половых отношений, и ценностью потомства, которое должно быть его «высшей целью». Последняя доставляет родителю «совершенство» – teleiôtes, как говорили стоики: она приводит к совершению то, ради чего человек создан природой и что связывает его через время с другими людьми и с порядком мироздания. А для Бога, как показывает Климент, «благочадие», которое человек с божьей помощью производит на свет, становится предметом, достойным любви, и поводом для того, чтобы выказать свою «благость». Подчиненные «ближайшей цели» «рождения детей», а затем, в дальней перспективе, высшей цели, совпадающей с целью всего Творения в целом, половые отношения должны слушаться «разума», Логоса, который, наличествуя во всей природе вплоть до ее материальной организации, есть вместе с тем слово божье. Различение и сочленение побуждения и цели, поставленные Климентом во главу своего анализа, позволили ему накрепко связать устав половых отношений с общим «указанием природы»: «Но помнить следует уже указание самой природы, что не постоянно время удобное, чтобы сходиться друг с другом на ложе»[97]. «Указание природы» оказывается заключено в том самом, чему учит Логос. Речь идет, можно сказать, о «логике» природы, понимаемой в самом широком смысле, в самых разных ее аспектах: о «логике» животной природы, о «логике» человеческой природы и связи между разумной душой и телом, о «логике» Творения и отношения к Творцу. И далее Климент разворачивает одну за другой эти три логики.
* * *
1. Примеры из животного царства, которые приводит Климент, – это примеры от противного[98]. Гиена и заяц учат тому, чего не следует делать. Дурная слава гиены основывалась на древнем поверье (его упоминает еще Геродор Гераклейский), согласно которому каждое животное этого вида имеет признаки обоих полов и ежегодно меняет половую роль, становясь то самцом, то самкой. Что же касается зайца, считалось, что у него каждый год прибавляется по анусу и он использует свои умножающиеся отверстия самым непотребным образом[99]. Оба эти домысла опроверг Аристотель, и с тех пор натуралисты в большинстве своем не относились к ним серьезно, что не мешало им черпать в естественной истории гиены и зайца уроки морали. В эллинистическую и римскую эпохи естественная история пребывала во власти двух, как кажется, противоположных процессов: с одной стороны, знания приводились в соответствие со всё более строгими правилами наблюдения, а с другой стороны, всё отчетливее проявлялось стремление учиться у природы, с которой, по убеждению философов, человек должен был жить в согласии. Растущая забота о точности и поиск нравственных образцов могли идти рука об руку. Так, хотя регулярная смена пола у гиен и ежегодное пополнение числа анусов у зайцев были признаны суевериями, повадки этих животных служили источниками уроков, касающихся поведения. Как говорил Клавдий Элиан, гиена не словом, но делом «показывает, сколь презрен был Тиресий»[100].
Климент в свою очередь тоже отвергает суеверие, но черпает из него моральный урок, и то, как он это делает, показательно для его концепции отношений между естественным и противоестественным. Гиена, говорит он, не меняет пол каждый год, ибо природа, однажды установив, что есть то или иное животное, уже не может этого изменить. Конечно, у многих животных отдельные черты время от времени меняются. От теплого сезона к холодному могут меняться голос и цвет оперения птиц, но это следствие внешних физических воздействий, никак не затрагивающее саму природу животного[101]. А как обстоит дело с полом? Животное не может ни изменить свой пол, ни обладать двумя полами одновременно, ни относиться к какому-то третьему полу, среднему между мужским и женским: всё это химеры человеческого воображения, не допускаемые природой. Имплицитно и всё же достаточно ясно Климент отсылает здесь к одному «классическому» спору своего времени. Возможность метаморфоз – рождения личинок мух из трупного мяса, пчел из разлагающейся бычьей туши, земляных червей из грязи – служила в глазах эпикурейцев доводом в пользу того, что эти тела не созданы богами; подобные превращения были, по их мнению, следствием «автономных» механизмов[102]. Четко разделяя «устойчивость» видов и механические изменения отдельных черт, Климент присоединяется к позиции тех – перипатетиков, стоиков, платоников, – кто настаивал на сохранении во всех разновидностях животного мира приметы творческого разума, или постоянного присутствия Логоса[103]. Но вместе с тем он, по всей вероятности, держал в уме проблему, отмеченную им в шестой главе первой книги «Педагога», – проблему статуса полового различия по отношению к вечной жизни и одновременно к земному статусу мужчин и женщин. Предлагаемое им решение – простое, хотя и не свободное от некоторого затруднения: в мире ином не будет полового различия; «здесь {на Земле} существует различие между мужским полом и женским, а по ту сторону гроба его нет». Иначе говоря, половое различие, основанное на Логосе, который ведает порядком мира сего, не мешает называть как мужчин, так и женщин одним и тем же именем человека. Тем и другим подходят одни предписания и один образ жизни: «значит, имеют они церковь единую; значит, один и тот же существует для них закон меры {une morale}, тот же естественный стыд, та же пища, те же брачные отношения, те же дыхание, слух, рассуждение, надежда, христианская любовь»[104]. Именно к этой «общей жизни», к этому общему роду, который не ведает различия полов, но и не отменяет его, обращена благодать; именно этот род человеческий спасется и будет обретаться в вечности, где всякое половое различие «исчезнет». Отвергая идею смены пола гиенами, Климент сохраняет принцип «естественности» различия самца и самки для отдельных видовых сущностей {entités spécifiques}. Мужчина и женщина отличны друг от друга и должны оставаться отличными согласно Логосу природы, но это не мешает им ни принадлежать к одному и тому же роду человеческому, ни надеяться на освобождение от «разделяющих их половых влечений» по ту сторону гроба[105].
Однако у гиены есть одна особенность, которой не обладает никакое другое животное. Описывая ее, Климент почти слово в слово повторяет Аристотеля[106]: речь идет о наросте мяса под хвостом, «весьма напоминающем срамные части самки», хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что «отверстия этот нарост никакого не имеет, которое бы выходило в <…> матку или прямую кишку». Но в характеристике этой анатомической особенности Климент расходится с Аристотелем, который показывает на ее примере, как обманчивый внешний вид может привести к ошибочным выводам: поспешные наблюдатели решили, что одна животная особь может иметь оба пола, и Аристотель видит в этом проявление склонности человека доверяться превратным толкованиям. Климент же усматривает в анатомической особенности гиены элемент, являющийся одновременно и следствием, и орудием нравственного порока. Столь странное устройство тела гиены указывает на ее дурную наклонность – наклонность, относящуюся к «природе», если понимать под «природой» свойства конкретного вида, но в то же время живо напоминающую нравственный порок, бытующий среди людей, а именно похотливость. Не иначе как с оглядкой на этот порок «природа» и устроила у гиен дополнительную впадину, чтобы они могли пользоваться ею для дополнительных соитий. Короче говоря, в ответ «излишней» наклонности к удовольствиям, естественной для гиен, природа дала им «излишний» орган, пригодный для «излишних» сношений. Но тем самым природа показала, что излишество определяется не только количеством: коль скоро «кожный мешок» гиен не связан никаким каналом с органами размножения, излишество оказывается «бесполезным» или, точнее, оторванным от цели деторождения, которую природа уготовила органам размножения, половым сношениям, семени и его извержению. Отсутствие этой целенаправленности как раз и делает возможным, провоцирует противоестественное осуществление естественной и в то же время излишней склонности к непотребству. Таким образом, имеет место круговорот естественности и противоестественности или, вернее, постоянное скрещение естественности с противоестественностью, которое и сообщает гиенам предосудительные повадки, склонность к излишествам, избыточные органы и средства их использования «без всякой цели»[107].
В том же духе Климент анализирует пример зайца. На сей раз, однако, дело касается не бесплодного излишества, а непотребной плодовитости. Опять-таки вслед за Аристотелем Климент отбрасывает суеверие о ежегодном приобретении зайцем нового ануса и заменяет его гипотезой суперфетации. Эти животные столь похотливы, что они совокупляются без конца, не прерываясь ни на период вынашивания детеныша, ни на период его кормления. Природа дала зайчихе матку с двумя пазухами, которая позволяет ей зачинать не только от одного самца и даже во время беременности. Естественный цикл матки, который, по мнению медиков, способствует оплодотворению, когда она пуста, и не допускает совокупления, когда она заполнена, нарушается естественным же устройством, которое позволяет зайчихам совершенно «противоестественным» образом совмещать беременность и похотливость.
Этот долгий окольный путь Климента через уроки натуралистов может показаться запутанным, если сравнить его, например, с «Посланием Варнавы», где также упоминаются случаи зайца, гиены, а вдобавок и других животных – коршуна, ворона, вьюна, полипа, коровы и хоря, – но исключительно в связи с ветхозаветными пищевыми запретами. Этим запретам Послание сразу дает распространенное в то время толкование[108]: не допуская употребления мяса перечисленных животных в пищу, они осуждают виды поведения, обозначаемые или символизируемые этими животными; так, хищные птицы обозначают склонность похищать чужое, заяц – совращение детей, гиена – прелюбодеяние, хорь – оральные сношения. Напоминает ветхозаветные пищевые запреты и Климент. Он тоже видит в них иносказательное выражение законов, относящихся к поведению, но не задерживается на этом толковании, кратко упоминая его лишь в начале и в конце своего долгого пути по просторам естественной истории[109], причем сразу отвергает его, как он прямо говорит, «символический»[110] характер, который должен быть заменен серьезным анатомическим анализом. А в конце своего рассуждения подчеркивает, что только подобные экскурсы в естественную историю могут объяснить «загадочные» запреты пророка[111]. Короче говоря, Климент стремится показать, что тот самый Логос, который Моисей передал людям в краткой форме закона, являет нам – во всех подробностях и в понятных нашему уму фигурах – сама природа. Представляя взору человека всех этих непотребных тварей, природа показывает ему, что, будучи разумным существом, он не должен брать пример с тех, кто наделен лишь душой животного. Кроме того, она показывает, до какой степени противоестественности может довести любое излишество, пусть и повинующееся закону, заложенному в самой природе. И наконец, она позволяет обосновать общие запреты, фигурирующие и у языческих философов, и у христиан, – на прелюбодеяние, блуд, растление малолетних – данными естествознания. В этом, бесспорно, и состоит одна из самых показательных особенностей всей десятой главы второй книги «Педагога» и, в частности, пассажа о зайцах и гиенах. Философы неустанно напоминали, что закон, который должен регулировать использование aphrodisia, есть закон природы. Но их рассуждения по большей части касались природы человека как разумного и общественного существа (необходимо заводить детей, чтобы обеспечить себе поддержку в старости; полезно иметь семью, чтобы укрепить свой личный статус; нужно производить новых граждан для государства и новых людей для человечества). Климент же в этом тексте оставляет всё, что касается общественного бытия человека, в стороне и пускается в естественнонаучные рассуждения, позволяющие ему очертить то, что, несомненно, является для него ключевым:
а) природа указывает, что намерение продолжить свой род и половой акт должны быть в точности соразмерны друг другу;
б) допуская игру естественного и противоестественного, природа показывает, что принцип соразмерности является фактом, наблюдаемым в анатомии животных, и в то же время требованием, несоблюдение которого сулит нарушителю порицание;
в) принцип соразмерности запрещает как всякий акт, совершаемый без участия органов размножения (это «принцип гиены»), так и всякий акт, совершаемый при уже осуществленном оплодотворении (это «принцип зайца»).
Никогда еще философы, которые стремились подчинить aphrodisia естественным законам и очистить их от всего противоестественного, не вели свое рассуждение под столь явной эгидой природы в том понимании, в каком натуралисты обнаруживают ее в животном мире.
2. Под эгидой природы – только теперь уже природы человека как разумного существа – Климент ведет и следующее свое рассуждение. На сей раз он переплетает с голосом Моисея[112] и с примером Содома[113] наставления учителей языческой мудрости, всех тех, кто стремился внести закономерность в отношения души и тела, – стоических философов, медиков и особенно Платона, который якобы читал проклятия Иеремии в адрес людей, подобных похотливым «откормленным коням», и говорил вслед за пророком о строптивых скакунах души[114].
Климент выводит на первый план хорошо знакомый философам принцип «умеренности», двумя взаимосвязанными аспектами которого являются, во-первых, власть души над телом – предписание природы, ибо душа по природе своей выше, а тело по природе своей ниже души, как указывает на это положение чрева, которое можно назвать телом тела (нужно «желания вообще сдерживать и над желаниями чрева и подчревного человека господствовать»[115]); и, во-вторых, сдержанность, умеренность в удовлетворении своих «желаний» тем, кому удалось стать их хозяином. Вполне логично Климент связывает применяемое к половым органам прилагательное aidoios, постыдное, с существительным aidôs, которому он придает значение сдержанности и справедливой меры: «Поэтому ведь они {половые органы} и называются постыдными (aidoion), что с этой частью тела до́лжно обходиться со <…> сдержанностью (aidôs)»[116]. Сдержанность, есть, таким образом, правило, которое должно управлять исполнением власти души над телом. В чем же состоит это правило? «В законных сношениях <…> {нужно} делать лишь то, что потребно, полезно и благопристойно»[117]. Первое прилагательное характеризует то, что свойственно этим сношениям по природе, второе – их результат, и, наконец, третье – их моральное и в то же время эстетическое качество. В целом же Климент очерчивает с помощью этой формулы то, что рекомендует людям сама природа. И урок ее оказывается здесь в точности тем же, что и в предыдущем случае, на примере животных: в положительном смысле она учит «желать» деторождения, а в отрицательном смысле – избегать тщетной растраты семени[118]. Таким образом, Климент без изменений повторяет фундаментальные положения, выдвинутые и затем обоснованные им в терминах естественной истории. Однако на сей раз, после того как спираль его рассуждения совершила полный оборот, он повторяет эти положения на уровне человеческого порядка – повторяет их практически дословно, но в другом контексте, характеризуемом терминами Nomos (закон), Nominos (законный), Paranomos (незаконный), Themis (справедливость), Dikaios (справедливый) и Adikos (несправедливый)[119]. И целью его является не противопоставление человеческого порядка природному, а, скорее, демонстрация того, как второй из этих порядков проявляется в первом. «Вся жизнь у тех течет в согласии с природой, кто с самого начала свои желания сдерживает»[120]. Власть над собой, предписываемая разумом и определяющая законные формы поведения, есть еще один способ слушаться Логоса, который правит природой.
Климент выделяет четыре основные формы сдержанности, в которой проявляется власть разума над «желаниями» тела.
a) Во-первых, половые сношения допустимы только с женой. Об этом говорил Платон («вдали ты должен себя держать от всякой жены, за исключением своей»), почерпнувший данное правило, как утверждает Климент, из Книги Левит («И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею» – Лев. 18:20). Однако его обоснование в «Педагоге» совсем иное, нежели у Платона: согласно «Законам», правило моногамии служит средством ограничения жара страстей и предотвращения унизительного рабства, в котором страсти могут держать людей[121]; Климент же видит в этом правиле гарантию того, что семя, которое содержит в себе, как он говорит выше, «законы природы»[[122]] и совершаемое которым оплодотворение, на что он также указывает, вписывается в отношения между Богом и его тварями, [не][123] будет постыдно растрачено. Именно самоценность семени с тем, что оно «содержит в себе», с тем, что оно сулит, с той синергией между Богом и человеком, которую оно вызывает, чтобы прийти к своей естественной цели, делает незаконным и «несправедливым» его излияние кому-либо другому кроме законной супруги.
b) {Во-вторых,} еще один ограничительный принцип: нужно воздерживаться от половых сношений во время менструаций. «Дабы не загрязнять нечистотами тела самую плодотворную долю семени, которая может скоро стать человеческим существом, не подобает погружать ее в мутные и нечистые выделения: ведь таким образом возможное зерно счастливого рождения может не достичь полей матки»[124]. Это предписание древнееврейского происхождения – запрет нечистоты – Климент переносит в контекст имплицитных отсылок к медицине и одновременно в свою собственную концепцию семени[125]. Для него менструации – это в прямом смысле слова нечистое вещество. К тому же, как говорил медик Соран {Эфесский}, «семя разводится кровью и ею извергается»[126]. Иначе говоря, кровь уносит с собой семя, которое с нею смешивается, и не дает ему достичь ни ближайшей цели, то есть матки, ни конечной цели, то есть деторождения. Поскольку семя «по естественным причинам» представляет собой материальное вместилище и поскольку оно хранит в себе возможности, которые при условии их подобающего развития дадут рождение человеческому существу, его не следует ни подвергать контакту с нечистотами, ни топить в бурном потоке выделений.
c) {В-третьих,} не допускаются половые сношения во время беременности: это симметричное дополнение предыдущего принципа. Ведь если нужно оберегать от всяких нечистых выделений семя, то нужно оберегать и матку, как только она приняла в себя семя и начала свой труд. Подлежит соблюдению спонтанный ритм, который Климент описывает так: в порожнем состоянии матка желает деторождения, стремится принять в себя семя, и поэтому соитие, которое отвечает на это законное желание, не может рассматриваться как грех[127]. Здесь вновь угадывается отголосок широко распространенного во времена Климента медицинского учения: «не всякий момент подходит для введения семени в матку путем полового соития»; лишь когда месячные выделения прекращаются и матка приходит в порожнее состояние, «женщины стремятся к любовному акту и желают его»[128]. Согласно Клименту, чередование телесных предрасположенностей ясно показывает, что природой правит разум, и задает четкие рамки умеренному поведению. Однако «Педагог» вносит в значение этого ритма и вытекающего из него правила умеренности существенный сдвиг. Медики советовали воздерживаться во время беременности от половых сношений, «так как они приводят всё тело в движение» и, передавая сотрясения матке, «угрожают вынашиванию ребенка на всем его протяжении», а особенно в последние месяцы[129]. Климент же ссылается на то, что матка на время беременности запирается для работы над «образованием плода» – работы, которую она совершает, «вспомоществуя Творцу»[130]. Пока эта работа в сотрудничестве с Творцом продолжается, новое внесение семени излишне: не следует чинить подобное «насилие». Во время беременности любое внешнее вмешательство – во вред.
d) Но если «природа» женщины диктует столь строгую экономию, то как обстоит дело у мужчин? Несомненно, с оглядкой на этот вопрос Климент обращается к еще одной традиционной медицинской теме и приводит длинный перечень недомоганий, болезней и слабостей, которые угрожают тому, кто слишком часто предается любовным удовольствиям. Его прямые и косвенные доводы на этот счет вполне обычны: воздержание от половых отношений прибавляет жизненных сил всем, как животным, так и людям. Эту банальную идею Климент связывает со столь же широко известным суждением Демокрита: половое соитие есть «кратковременный припадок эпилепсии»[131]. Хотя не все медики разделяли это представление, оно достаточно часто встречается в медицинской литературе как таковое, например у Галена[132], или в более широком варианте, как у Руфа Эфесского, который относит «необузданные телодвижения», сопровождающие половой акт, к «разряду судорожных припадков»[133]. Климент придает этой аналогии между половым актом и эпилепсией точное значение, подкрепленное к тому же двойной отсылкой, в которой формула Демокрита – «Человек вытряхивается {рождается} из всего человека <…> и отрывается от него, отделяемый как бы ударом» [(фрагмент 32 по Дильсу)] – пересекается со стихом Книги Бытия «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). Тело так неистово содрогается при извержении семени, потому что из него выделяется и вытряхивается вещество, которое содержит в себе материальные основы, пригодные для развития другого человека, похожего на того, кто излил семя. Здесь прослеживается характерная для Античности тенденция к аналогии между семяизвержением и родоразрешением. Однако Климент, вспоминая Адама, из тела которого, пока тот спал, Бог извлек ребро, чтобы сотворить ему подругу, ясно указывает на «вспомоществование» Бога в этом творении из мужской плоти. Предписание не злоупотреблять семяизвержением касается не только благоразумного использования тела. Неизбежный вред, приносимый здоровью содроганием при освобождении семени, обусловлен великой важностью синергии человека и Бога.
Из этих основных принципов, ограничивающих половые отношения, выводится целый ряд разнообразных предписаний, которые Климент перечисляет, как кажется, без особого порядка. Одно из них запрещает искусственно вызывать выкидыш; другое не рекомендует совершать половые сношения в течение дня – по возвращении домой «из церкви или с рынка», в час молитвы, – но только по вечерам; третье предписывает не вести себя с женой как с «гетерой»; четвертое осуждает брак между молодыми и старцами. Всё это складывается в своеобразный кодекс умеренности, положения которого, пусть иногда более суровые, сродни тем, что встречаются нам у языческих философов. Основные принципы умеренности Климент повторяет неоднократно: человек должен господствовать над своими желаниями, не позволять их ненасытности взять верх над собой, не поддаваться влечениям тела без контроля разума[134]. Таков идеал «умеренного брака», о котором он говорит в другом месте[135]. И всё же умеренность, судя по всему, не является для Климента конечным принципом. «Господствовать над собой» нужно не столько для того, чтобы сохранять должное равновесие и необходимую иерархию между силами души {facultés}, сколько для того, чтобы соблюдать почтение, целомудрие, сдержанность, каковых требует семя – вместилище «основ», имманентных природе, и повод для сотрудничества человека и Бога. Что такое «умеренный брак» Климента? Союз, в котором благоразумное существо чтит душу, призванную властвовать над телом, и совесть, призванную контролировать непроизвольные движения? Да, несомненно. Однако главное в нем – это почтение к тому, что идет через него от вечного Творца к множеству будущих тварей и находит в семени и оплодотворении важный материальный момент своего движения. Именно «экономия» этого движения, а отнюдь не строение человеческого организма {composé humain}, оказывает решающее влияние на кайрос половых отношений.
3. Последнее рассуждение десятой главы второй книги «Педагога» намного короче остальных; оно вырисовывается уже в заключительных – особенно тонких и требовательных – рекомендациях относительно умеренного брака, которые примыкают к основным запретам. Не произносить неприличных речей, воздерживаться от непристойных жестов, избегать сношений с гетерами и не забывать – здесь Климент дословно повторяет афоризм, встречающийся в философской литературе, – что обхождение с собственной женой как с гетерой равносильно прелюбодеянию. Эти рекомендации вводят нас в область грехов, незаметных со стороны и доступных лишь взору совести. Итак, теневые грехи. Следует отметить, что речь не идет о дурных намерениях и помыслах, о вожделениях и соблазнах, которые составят каркас христианской концепции грехов плоти немного позднее. Климент говорит лишь о грехах, совершаемых наедине с собой. Их покрывают ночь и тишина, их единственный свидетель и судья – совесть {conscience} того, кто их совершает (совесть партнера тут, по всей видимости, ни при чем). Проблема греха, единственным свидетелем которого является совесть, тоже была распространена в философской литературе, и Климент рассматривает ее с помощью классической аргументации. Пытаясь утаить грех во мраке и одиночестве, мы отнюдь не уменьшаем его тяжесть, а лишь показываем, насколько мы сознаем его значительность. Скрытность выдает наш стыд, а стыд – это и есть суд совести. Даже если такой грех никому не наносит ущерба, совесть всё равно сохраняет бдительность как обвинитель и судья: ведь мы наносим ущерб самим себе, и ради самих себя должны быть осуждены. Подобные рассуждения мы находим и у Музония[136], и у Сенеки[137]. Климент вкратце их повторяет.
Но его анализ – или, вернее, довольно свободный перебор тем, связанных с вопросом о тайных грехах, – движется в другом направлении. Первой возникает тема ночи и света. Сколь бы густой мрак ни укрывал грех, всегда есть луч света, который пробивается сквозь него и обнаруживает то, что он прячет. Не око ли это божье, от которого ничто не может укрыться и которое присутствует в мире всегда как духовный свет? Да, несомненно, и это признавали уже языческие философы.
Однако это еще и свет, живущий внутри нас и служащий нашей совестью. Это частица Логоса, который правит миром и вкладывает в наши души крупицу чистоты. По отношению к нему грех, который мы совершаем, есть не только непослушание, не только посягательство на принципы разума, но и пятно скверны. А умеренность есть не только соответствие вселенскому порядку, но и чистейшая частица этого света: да не устремимся мы «укрываться темнотой, ибо свет в нас самих живет; <…> Образом мысли честным и скромным бывает мрак самой ночи. Мысли людей добрых Писание называет „неусыпающими светочами“»[138].
Чистое соприкасается лишь с чистым, и если мы оскверним в наших душах чистоту Логоса, Господь отвернется от нас, оставит нас в нашей «тленной» жизни. Под этим Климент имеет в виду и метафорический смысл – жизнь во грехе, и прямой – жизнь, обреченную на смертный конец. Неумеренность растлевает: она не погасит свет, ибо он как таковой недостижим и его ничем нельзя омрачить; но она заставляет свет покинуть тело, отдать его смерти. Неумеренное тело истлеет, потому что Бог оставит его «трупом»[139], а тот, кто соблюдает умеренность, облечется в «нетленность» Логоса, который живет в нем, готовый ввести его в жизнь вечную.
В концепции «умеренности», изложенной Климентом, содержится нечто большее, чем просто требование слаженного равновесия тела и разума. Но это не радикальный дуалистический отказ от тела как субстанциального начала зла. Логос не томится в теле, как в тюрьме, а живет в нем, и «умеренность» требует поступать так, чтобы тело становилось или оставалось «храмом Господним» и чтобы члены его были и оставались «членами Христовыми». Умеренность – это не отрыв от тела, а движение в теле нетленного Логоса, движение, ведущее тело к жизни иной, в которой только и станет возможным ангельское существование и плоть, полностью очистившись, забудет о различии полов и об отношениях между ними. Так Климент толкует отрывок из Евангелия от Луки, где говорится о вдове, вышедшей замуж за брата покойного мужа[140], – отрывок, вокруг которого вскоре закипят споры. В отличие от ряда авторов, он не усматривает в этом тексте указания на отличие между «чадами века сего», которые женятся или выходят замуж, и теми, кто не вступает в брак, уповая на грядущее воскресение; по его убеждению, речь идет о том, что вслед за браком, каковой есть закон в мире сем, отмена дел плоти и духовное нетление, в которое мы благодаря ей облечемся, позволят нам вести жизнь, «подобную ангельской»[141]. Так могут исполниться «дела Педагога» и само Слово: «по образу и подобию»[142].
Очевидно, что, говоря о внутреннем свете, о чистом и нечистом, о теле как храме Христовом, о восхождении к нетлению и вечной жизни, Климент касается тем, которые приобретут огромную значимость в III и особенно IV веках, под влиянием монашеского аскетизма, – тем строгой чистоты помыслов и девственности сердца как условий ангельской жизни. Но следует сразу отметить, что требование чистоты помыслов, предполагающее самоотречение во всем вплоть до желаний, упоминается им лишь в самом конце главы и в одной-единственной фразе. Кроме того, в отличие от последующих авторов, Климент не призывает к бдительному, постоянному и заблаговременному искоренению самомалейших желаний, которые могут зародиться в наших сердцах, но лишь советует не позволять им взять над нами верх[143], а вслед за этой рекомендацией противопоставляет возможной победе желаний принцип доброго поведения. В конце главы повторяется наставление, данное в ее начале: нужно сеять в подходящий момент, указанный кайросом. Климент не противопоставляет делам плоти безусловное самоотречение; он противопоставляет поражению, которое можно потерпеть от aphrodisia, принцип благих и плодотворных посевов. Сама структура заключительного абзаца текста противопоставляет возможность быть «побежденным aphrodisia» и готовность сеять лишь ради всходов[144]. И наконец, что особенно важно, следует отметить слово, употребляемое Климентом, причем не только в начале текста, при определении естественного разумного основания, которое руководит правильными половыми отношениями, но и в конце, где речь идет о теле как храме Божьем и об облечении нетлением; это слово, которым философы обозначали умеренность: sôphrosynê. Климент, несомненно, придает этому термину значение, отличное от простого господства над собой, своими страстями и своим телом, хотя не вкладывает в него и смысл отказа от половых отношений, для которого систематически (например, в третьей книге «Стромат») использует другой термин, eunoukhia. Под «умеренностью» здесь имеется в виду не что иное, как экономия деторождения. Руководимое естественной разумностью «человеческих посевов», деторождение вместе с тем есть форма взаимного «вспомоществования» Бога и человека. Ни «венец жизни», ни покров бессмертия не могут служить наградой за разрыв с этой экономией (можно даже сказать, что безбрачие есть неправедное деяние, так как оно исключает «рождение детей»[145]). Они станут наградой за неукоснительную верность Логосу, который, дабы эта экономия достигла поставленных перед нею целей, требует рождать детей «со святой и мудрой волей»[146].
В одном из пассажей третьей книги «Стромат» Климент комментирует текст из Книги Бытия о грехопадении прародителей и задается вопросом: заключался ли совершенный ими грех в половом акте? На этот вопрос, обсуждавшийся на протяжении долгого времени[147], Климент дает изящный ответ: грех заключался не в самом факте полового сношения, а в том, что оно было совершено в неподходящий момент, не тогда, «когда следовало». Вопреки повелениям Бога, Адам и Ева соединились, не достигнув должного возраста[148]. Иначе говоря, они нарушили экономию кайроса и попрали закон времени. Непослушные и не по годам развитые дети, они уклонились от разумного основания, которое «Педагог» теперь должен внушать людям, способным обрести новое рождение не иначе, как осознав себя «детьми». В «Протрептике» грехопадение объясняется так: Адама, чадо божье, «попавшее под власть наслаждения», «сбили с пути нечистые желания», после чего он «возмужал в неповиновении»[149], каковое и сделало его «мужем», лишенным всякой поддержки наставляющего логоса. Будучи обусловлено преждевременностью, грехопадение ясно показывает, что деторождение не дурно само по себе, но лишь условия, в которых оно совершается, могут быть дурными. Деторождение – не грех и не вина Адама, вот почему оно не только прощается, но и прославляется в том же пассаже третьей книги «Стромат». Климент играет словом genesis, которое означает как деторождение, так и Сотворение мира. Даже после первородного греха «деторождение остается святым», «потому что через него образуются и мир, и сущности, и существа природы, и ангелы, и власти {небесные}, и души, и заповеди, и законы, и Евангелие, и познание Бога»[150].
Таким образом, акт человеческого деторождения отсылает к власти Творения, в которое он вписывается и от которого он получает собственную власть. Но вместе с тем Климент мыслит его сообразно тому, что служит подобием Творения мира Отцом Небесным в истории самого этого мира, – сообразно новому рождению во Христе через его воплощение, его жертву и его учение. В длинной шестой главе первой книги «Педагога», посвященной употреблению слов «дети» и «младенцы», учение Христа сравнивается с питающим молоком[151]. Климент создает набросок целой «физиологии» крови в ее превращениях. Кровь-Логос – вещество, содержащее в себе все силы тела, – фигурирует здесь и в двух других формах: разогретая, взволнованная, кровь «пенится» и становится семенем, передающим влажности матки первоначала, из которых путем развития сможет образоваться другое тело; напротив, охлажденная и насыщенная воздухом, кровь становится материнским молоком и в такой форме передает младенцу силы, имеющиеся в теле родителей. Кормление грудью оказывается продолжением того акта, которым младенцу, через оплодотворение, была дарована жизнь; та же кровь и те же силы передаются ему теперь в другом виде. Так, отдав людям свою кровь, Христос дает им – младенцам – молоко своего Логоса. Он учит людей, он – их педагог. Будучи причастно и крови, пролитой Христом во время Страстей, и молоку, что бесконечно проистекает из его Слова, деторождение зачинает «младенцев», которых рождает и возрождает Логос.
В этом пассаже «Педагога», где Климент намечает теорию учения, изложенную им в следующих книгах, слово «семя» {sperme} упоминается лишь походя, между кровью и молоком. Основная часть текста касается {духовного} возрождения, а не рождения-сотворения. И всё же место деторождения в великой «физиологии» Логоса обозначается достаточно ясно. Климент подчеркивает родство и подобие, связывающие нас с Богом: «родство» по крови, и «сопричастность» {sympathie} через воспитание[152], о которых здесь говорится, в десятой главе следующей книги будут дополнены взаимным «вспомоществованием» {synergie} в деторождении. Сообщение крови, семени и молока с Логосом, который живет в них и передается ими, связывает нас прочными узами родства с Богом.
И когда «Педагог» – как поучение Христово, как молоко, которым он кормит нас, своих детей, – говорит нам о том, какой кайрос, момент, благоприятен для зачатия, он закрепляет экономию деторождения в рамках великого движения от Сотворения мира к Избавлению, от Бытия к Возрождению.
* * *
Как часто говорилось, «Педагог» обнаруживает глубокое родство с языческой философией и моралью своего времени или недавнего прошлого. В нем используется та же форма предписаний: предлагается «режим» жизни, определяющий ценность отдельных деяний исходя из их разумных целей и «поводов», позволяющих совершить их законным образом. В нем используется «классическая» кодификация: те же запреты (на прелюбодеяние, разврат, растление малолетних, сношения между мужчинами), те же обязанности (ставить себе целью рождение детей при вступлении в брак или в половые отношения), те же ссылки на природу и ее уроки.
Эта связь очевидна, однако не следует полагать, что Климент просто включил в свою религиозную концепцию фрагменты традиционной античной морали с добавлениями древнееврейского происхождения. С одной стороны, он связал внутри одной системы предписаний этику брака и детальную экономию половых отношений – определил сексуальный режим брака, тогда как «языческие» моралисты, даже когда они допускали половые отношения только в браке и с целью деторождения, анализировали экономию удовольствий, подобающую мудрецу, и правила благоразумия и приличия в брачных отношениях по отдельности. А с другой стороны, он придал этой системе предписаний религиозное значение, полностью переосмыслив ее в рамках своей концепции Логоса. Нельзя сказать, что Климент ввел в христианство чуждую ему мораль. Опираясь на кодекс, сложившийся до него, он выстроил христианскую концепцию и христианскую мораль половых отношений, тем самым показав, что эти концепция и мораль не являются единственно возможными и что поэтому было бы ошибочно полагать, будто христианство – христианство вообще, без исторических или иных уточнений, – самостоятельно, в ответ своим внутренним требованиям, сформировало столь причудливую и самобытную систему практик, понятий и правил, которую называют – опять-таки, без каких-либо уточнений – христианской половой моралью.
Рассмотренный нами анализ Климента во всех отношениях весьма далек от тем, которые позднее проявятся у святого Августина и сыграют куда более существенную роль в кристаллизации «этой» морали. Нет сомнений в том, что за разницей между Климентом и Августином угадывается разница между одним христианством – оглядывающимся на греческую философию и стоицизм, устремленным к «натурализации» половых отношений, и другим христианством – более суровым и пессимистичным, мыслящим человеческую природу всецело сквозь призму грехопадения и, как следствие, наделяющим половые отношения негативным значением. Однако просто констатировать это различие недостаточно. А главное, нельзя расценивать происшедшее изменение в терминах «ужесточения», возрастания общей суровости и строгости запретов. Ведь с точки зрения собственно кодекса и системы запретов мораль Климента немногим более «терпима» в сравнении с той, что сложится позднее: кайрос, допускающий половой акт только в браке, только в виду оплодотворения, ни в коем случае не в период менструаций или беременности и ни в какое иное время кроме вечернего, не предоставляет особой свободы[153]. Вообще, основные разграничения между дозволенным и запретным не изменились по существу и общему характеру между II и V веками[154]. Но в тот же самый промежуток времени произошли решительные изменения в общей системе ценностей, где вышла на первый план этическая и религиозная ценность девства и абсолютного целомудрия, а также в терминологии, где возросла важность таких понятий, как «соблазн», «похоть», «плоть» и «первые движения», что свидетельствовало не только о преобразованиях в концептуальном аппарате, но и о сдвиге области анализа. Речь шла не столько об ужесточении этического кодекса и строгом подавлении половых отношений, сколько о начале формирования нового типа опыта.
Очевидно, что это изменение нужно соотнести со всей сложнейшей эволюцией христианских Церквей, которая привела к образованию Христианской империи. А в более конкретном плане его нужно связать с формированием в христианстве двух новых элементов: дисциплины покаяния (со второй половины II века) и монашеской аскезы (с конца III века). Эти практики не просто повлекли за собой усиление запретов или призывы к большей строгости нравов. Они очертили и развили особое отношение себя к себе и особую связь между злом и истиной – точнее, между отпущением грехов, очищением души и выявлением сокровенных грехов, секретов, умолчаний индивида в рамках экзаменовки им самого себя, признания, духовного руководства и других форм покаянной «исповеди».
Тот способ, каким практики покаяния и испытания аскетической жизни завязывают узы между «злодейством» {mal faire} и «правдоизречением» {dire vrai}, собирают в один пучок отношения к себе, злу и истине, бесспорно превосходит в новизне и существенности ужесточение или смягчение существующего кодекса. Дело касается формы субъективности: отныне имеют место испытание себя собой, познание себя собой, превращение себя в предмет исследования и изречения, освобождение себя, очищение себя и спасение себя с помощью процедур, которые проницают все глубины себя и выносят самые сокровенные тайны на свет искупительного явления. Вырабатывается особая форма опыта, которую следует понимать как способ присутствия для себя и одновременно как схему преобразования себя. Именно эта форма опыта постепенно установит в центре своего диспозитива проблему «плоти». И вместо режима половых отношений, или aphrodisia, входящего в общий кодекс праведной жизни, возникнет фундаментальное отношение к плоти, пронизывающее всю жизнь человека и служащее основанием для тех правил, которые ей предписываются.
«Плоть» начинает пониматься как форма опыта, то есть познания и преобразования себя собой, опирающаяся на некоторую связь между уничтожением зла и проявлением истины. Нельзя сказать, что утверждение христианства сопровождалось переходом от одного кодекса, терпимого к половым актам, к другому – суровому, ограничительному, репрессивному. Эти процессы и характер их взаимодействия нужно мыслить иначе: кодекс сексуальности, организованный вокруг брака и деторождения, начал складываться до христианства, без всякой связи с ним и параллельно его развитию; христианство подхватило его уже по большей части готовым. Лишь в процессе дальнейшей эволюции христианства и формирования особых технологий индивида – дисциплины покаяния, монашеской аскезы – возникла форма опыта, которая задала этому кодексу новое направление и позволила ему претвориться, тоже совершенно по-новому, в поступки индивидов.[155]
Чтобы написать историю этого процесса, нужно подвергнуть анализу практики, которые сделали его возможным. Мы не возьмемся прослеживать генезис весьма многоликих институтов покаяния и аскезы, но лишь попытаемся очертить отношения, завязавшиеся в их рамках между отпущением грехов, проявлением истины и «открытием» себя.
44
Св. Юстин. Первая апология. 29. 1 {цит. по: Сочинения святого Иустина, философа и мученика / изд. П. Преображенским. М.: Унив. тип., 1892. С. 59}.
45
[В машинописном оригинале: «рождение как смысл желания».]
46
«Hêmin metron epithumias hê paidopoiia».
47
«Ho gar deuteros [gamos] euprepês esti moikheia».
48
«…mekhri kai tôn tês psukhês hêdeôn». Все цитаты взяты из сочинения Афинагора «Supplicatio pro Christianis» {«Предстательство за христиан»} (глава 33). К. фон Прейзинг в статье «Цель брака и второй брак по Афинагору» (Preysing K. von. Ehezweck und zweite Ehe bei Athenagoras // Theologische Quartalschrift. 1929. S. 85–110) подчеркивает сходство между формулами Афинагора и теоретическими положениями или взглядами Марка Аврелия.
49
К. фон Прейзинг так заключает свою статью: «Wir hoffen dargetan zu haben, dass die zwei Anschauungen des Athenagoras in Bezug auf die Ehe nicht aus der christlichen Umwelt, jebenfalls nichts aus ihr in erster Linie stammen. Stoïsche Beeinflüssung in Bezug auf beide Ansichten dürfte wohl anzunehmen sein» [ «Надеемся, что нам удалось показать, что обе концепции брака, развиваемые Афинагором, уходят корнями – по крайней мере отчасти – не в христианский мир. В них, несомненно, следует допустить стоическое влияние»]. – Ibid. S. 110.
50
Ср. также: Св. Юстин. Первая апология. 15 (об осуждении тех, кто с похотью взирает на женщин или хочет прелюбодействовать) {рус. пер.: Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Указ. соч. С. 44–45}.
51
«Педагог» соответствует этому teknê peri bion [технике или искусству жизни], которое именуется мудростью, поскольку оно блюдет человеческое стадо (II. 2. 25. 3).
52
«Idias leitourgias kai diakonias». – Климент Александрийский. Строматы. III. 12 {рус. пер.: Строматы, творение Климента Александрийского / пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892. С. 363}.
53
[Текст примечания отсутствует.]
54
Климент Александрийский. Педагог. I. 2. 4. 1 {цит. по: Педагог, творение Климента Александрийского / пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1890. С. 30 (с изм.)}.
55
Эту гипотезу предлагает А.-И. Марру в своем примечании к данному пассажу «Педагога» (I. 13. 102. 4 – 103. 2), выпущенному в серии «Христианские источники» (Paris, 1960, p. 294–295).
56
«…послушание разуму (Логосу), которое называем мы верой» {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 37}.
57
Это сопряжение между «kathêkonta», «katorthômata» и спасительной ценностью деяний ясно прослеживается в таких формулах: «to mentoi tês theosebeias katorthôma di’ergôn to kathêkon ektelei». – Климент Александрийский. Педагог. I. 13. 102. 3 {«Добродетельные поступки, вдохновленные религией, осуществляют законные обязанности на деле». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 108 (с изм.)}; или: «kathêkon de akolouthon en biô theô kai Khristô boulêma hen, katorthoumenon aidiô zôê». – Там же. I. 13. 102. 4 {«Обязанности христианина обусловливаются послушанием его воли Богу и Христу; известных добрых порядков жизни держится он потому, что надеется на продолжение ее в вечности». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 109}.
58
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 90. 3; Музоний Руф. Большие фрагменты. XIV. [69–70] {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты / пер. А. Столярова. М.: ИФРАН, 2016. С. 85}.
59
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 92. 2; Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. [63–64] {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты. Указ. соч. С. 83}.
60
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 97. 2; Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. [64] {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты. Указ. соч. С. 83}.
61
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 100. 1; Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. [65] {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты. Указ. соч. С. 84}.
62
Демокрит и Гераклит цитируются по одному разу каждый; Хрисипп – чаще, но только под именем «стоиков»; Платон – еще чаще, в том числе напрямую, не говоря уже о множестве имплицитных отсылок.
63
О различии двух учений см.: Климент Александрийский. Педагог. I. 7. 60. 2. О преемственности между ними: Там же. I. 10. 95. 1, а особенно I. 11. 96. 3 («Во времена древнейшие Логос воспитывал {epaidagôgei} через Моисея») и I. 11. 97. 1.
64
См.: Диокл. О режиме (в составе «Медицинского сборника» Орибасия, изд. Даремберга, т. 3, с. 144).
65
См.: Гиппократ. Эпидемии. VI. 6. 2 {рус. пер.: Гиппократ. Эпидемии / пер. В. Руднева // Гиппократ. Соч. В 3 т. Т. 2. М.: Медгиз, 1944. С. 277}. Но известны и другие варианты последовательности.
66
Quatember F. Die christliche Lebenshaltung des Klemens vonAlexandrien nach dem Pädagogus. Wien, 1946.
67
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 83. 3 – 88. 3.
68
Там же. II. 10. 89–97. 3.
69
О том, что Логос управляет миропорядком и устройством тела и души см.: Там же. I. 2. 6. 5–6.
70
«Zêtoumen de ei gamêteon». – Климент Александрийский. Строматы. II. 23. 3 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 296}.
71
«…sunodos andros kai gunaikos hê protê kata nomon epi gnêsion teknôn spora». – Там же. II. 23. 173. 1 {«Брак есть первый законный союз мужа с женой для рождения детей согласно с общественными законами». – Цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 296}.
72
[В машинописном оригинале далее следует текст, зачеркнутый рукой Фуко: «Исходя из определенной таким образом конечной цели, Климент вполне в духе стоиков рассматривает последовательно: вопрос о том, нужно ли вообще вступать в брак, а также различные условия, которые влияют на это решение и не позволяют дать на указанный вопрос однозначный ответ, подходящий для всех людей и для любой ситуации; мнения философов на этот счет; то, что делает брак благом, а именно: даруя человеку потомство, брак оправдывает его жизнь, предоставляет его отечеству новых граждан, позволяет ему в случае болезни рассчитывать на помощь и заботу со стороны супруги, а по достижении старости – со стороны детей. К этому добавляется негативный довод: бездетность либо преследуется по закону, либо осуждается моралью. Рассуждение Климента строится как вывод позитивной ценности брака из возможных совершенства или полезности потомства. И это ясно показывает, {c одной стороны,} что потомство является {для Климента} целью брака в сильном смысле слова – тем, что придает браку смысл и оправдание, а с другой стороны (это в тексте прямо не проговаривается), что деторождение может быть благом, достойным того, чтобы добиваться его в качестве цели, только в браке».]
73
Климент Александрийский. Строматы. II. 23. 143. 1 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 301}.
74
Там же.
75
Там же. II. 23. 143. 2 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 301}.
76
Там же. II. 23. 144. 1 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 301}.
77
Там же. II. 23. 145. 1–3 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 303}.
78
Там же. II. 23. 146. 1–4 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 303–304}.
79
«Sunousias de ton kairon». – Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 83. 1 {«Рассуждение о наблюдении благопристойности в брачной жизни». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 182}; «<…> Hopênika ho kairos dekhetai ton sporon». – Там же. II. 10. 102. 1 {«[как земледельцу], когда придет время для посева». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 194}.
80
«<…> Epitêron men tên eukairian». – Там же. I. 12. 100. 1 {«[Логос] охраняет их благобытие». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 105}.
81
[Текст примечания отсутствует.]
82
Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. 64 {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты. Указ. соч. С. 83}: aphrodisia оправданы только в браке и с целью деторождения.
83
Окелл Лукан: половые отношения служат не для удовольствия, а для рождения детей (De Universi natura. IV. 2).
84
В «Никомаховой этике» (I. 8. 16) Аристотель говорит, что счастье в жизни определяется тремя вещами: «благородным происхождением», «красотой» и «euteknia» {«хорошим потомством»}, которое в будущем и в наследии человека равнозначно тому, чем при рождении и в прошлом выступают семья и благородное происхождение {см.: Аристотель. Никомахова этика / пер. Н. Брагинской // Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 68}. В таком значении слово употребляется Еврипидом в «Ионе»: «Помолитесь же, о девы, / чтобы древний Эрихтея / наконец венчался род. / В ясном слове Аполлона / обещанием детей» (468–470) {пер. И. Анненского}.
85
Здесь Климент без изменений заимствует тезис стоиков о том, что дети служат «завершением», или «совершенством» (teleiôtes), человека.
86
Климент признает эти преимущества и упоминает их в «Строматах».
87
В оригинальном тексте сказано не «heneka tou theou» {«ради Бога»}, а «dia ton theon» {«из-за Бога»}.
88
[Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 83. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 182 (с изм.)}.]
89
Там же. I. 3, 7, 1 {цит. по: Педагог, творение Климента Александрийского. Указ. соч. С. 33 (с изм.)}. Бог создал человека собственноручно, ekheirourgêsen. Это различие между сотворением животных единым порядком и рукотворным созданием человека было распространенной темой в обсуждаемую эпоху (например, у Тертуллиана).
90
«Божественное же милосердие изливается на нас в изобилии, хотя с Богом мы и не имеем никакого сходства ни по существу нашему, ни по происхождению и ни по каким-либо особенным свойствам нашим (têi ousia, ê physei, ê dynamei)». – Климент Александрийский. Строматы. II. 16. 75. 2 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 241}.
91
«Kata noun kai logismon». – Там же. II. 19. 102. 6 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 267}.
92
Там же. II. 19. 100. 4 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 264}.
93
Стоики, по мнению Климента, ошибались, когда говорили, что нужно соответствовать природе, тогда как следовало бы говорить о соответствии Богу (см.: Климент Александрийский. Строматы. II. 19. 101. 1 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 264–265}).
94
Климент Александрийский. Педагог. I. 3. 7. 3 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 33 (с изм.)}.
95
Климент употребляет глагол sunergein, чтобы обозначить содействие Бога в деторождении, и глагол ekheirourgein, чтобы указать на его роль в Сотворении мира.
96
Эта формула, фигурирующая в первой книге «Педагога» (3. 7. 3), не применяется специально к рождению потомства, но служит для определения отношений Бога как Творца к человеку как существу, в котором Бог проявил свою любовь.
97
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 9. 3 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 190 (с изм.)}. Эта тема «обучающей» природы была распространена у стоиков. Ср., напр., у Гиерокла: «dikaia de didaskalos hê physis» {«природа – справедливая наставница»} (Стобей. Florilegium, изд. Мейнеке, с. 8}. Вместе с тем очевиден вносимый в нее Климентом смысловой сдвиг.
98
В нескольких местах Климент прямо признает, что прибегает к примерам от противного. См., напр.: Педагог. I. 1. 2. 2 и I. 3. 9. 1.
[Ср. ниже, примеч. 59. Фуко дает ссылку: «IV. 192», но к какому именно сочинению она отсылает, неясно.]
99
Это представление, о котором сообщает Архелай {согласно Плинию Старшему; см.: Плиний Старший. Естественная история. VIII. 55. 218}, могло быть заимствовано у Псевдо-Демокрита (Геопоника. XIX. 4; ср.: Овидий. Метаморфозы. XV. 408–410).
100
Элиан Клавдий. De Natura animalium {О природе животных}. I. 25.
101
Климент в основном следует Аристотелю (История животных. IX. 632b {рус. пер.: Аристотель. История животных / пер. В. Карпова. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С. 395–396}).
102
Ср. напр.: Лукреций. О природе вещей. I. 871, 874, 928; III. 719.
103
Об этом же говорит Ориген в работе «Против Цельса» (IV. 57 {рус. пер.: Ориген. Против Цельса / пер. Л. Писарева // Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. С. 742}), подчеркивая, что превращения животных (быков в пчел, ослов в жуков, лошадей в ос) следуют «установленными путями (hodoi tetagmenai)».
104
Климент Александрийский. Педагог. I. 4. 10. 2 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 35 (с изм.)}.
105
«Epithumias dikhasousês». – Там же. I. 4. 10. 3.
106
Аристотель. История животных. VI. 32 {рус. пер.: Аристотель. История животных. Указ. соч. С. 277}. Ср. также: Аристотель. О возникновении животных. III. 757а {рус. пер.: Аристотель. О возникновении животных / пер. В. Карпова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 145}.
107
По сравнению с этой противоестественностью, которая естественным образом проявляется в «излишке» (peritton), добродетельную жизнь Климент характеризует с помощью термина apperttotês {греч. букв. без всякого излишества} (Педагог. I. 12. 98. 4).
108
Ср. примеч. 53 в изд.: Épître du Pseudo-Barnabé / éd. par S. Suzanne-Dominique et F. Louvel. Paris, 1979.
109
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 83. 4–5 и 94. 1–4.
110
Эти объяснения мы находим в «Послании Варнавы»: «„И зайца не ешь“. Почему? Это значит: не развращай детей и не уподобляйся тем, кто так делает, ибо у зайца каждый год появляется новый анус» (10:6).
111
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 88. 3.
112
Правда, Климент приписывает Моисею запрет на блуд, прелюбодеяние и растление малолетних, что правильнее было бы назвать тройным ограничением, традиционным для античной философии.
113
Это один из первых случаев «сексуальной» интерпретации библейской истории Содома.
114
«Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого». – Иер. 5:7–8.
115
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 90. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 186 (с изм.)}. Об этом принципе Климент говорит, что он является верховным и первоначальным для всех прочих (arkhikôtaton).
116
Там же. II. 10. 90. 2 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 186 (с изм.)}.
117
[Там же. II. 10. 90. 3.] О том, что aidôs (почтительная сдержанность) отличается от aiskhunê (стыда), а также о том, что в отношении половых органов подобает первое, а не второе, см.: Педагог. II. 6. 52. 2 {рус. пер.: Педагог. Указ. соч. С. 154, где aidôs передается как стыд, а aiskhunê – как неблагопристойность, позор}.
118
Там же. II. 10. 90. 3–4 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 182 (с изм.)}. В связи с этой темой Климент смешивает учение Платона и закон Моисея.
119
Ср.: Там же. II. 10. 90. 4; 91. 1; 92. 2; 95. 3. Направленный против гностиков тезис о благости и справедливости повелений Бога см.: Там же. I. 8–9.
120
Там же. II. 10. 96. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 190 (с изм.)}.
121
Климент цитирует отрывки из восьмой книги «Законов» (819а – 841е).
122
[Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 88. 3.]
123
[В рукописи «не» отсутствует.]
124
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 92. 1. Ср. также: Филон Александрийский. De specialibus legibus (Об особых законах). 32–33.
125
Климент употребляет слово apokatharma {«нечистое истечение (плоти)»}. [Там же. II. 10. 92. 1].
126
Соран. Трактат о женских болезнях. I. 10.
127
Климент использует слово horexis, обозначающее в словаре стоиков желание как естественное движение (в противоположность epithumia).
128
Соран. Трактат о женских болезнях. I. 10. Еще одно представление античных медиков состояло в том, что женщина может забеременеть лишь в том случае, если желает половой связи. Из этого они заключали, что, если женщина забеременела после изнасилования, значит, дело не обошлось без ее желания.
129
Там же.
130
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 93. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 188 (с изм.)}. Эта фраза прямо отсылает к первым главам «Педагога», где говорится о содействии твари и Творца в рождении людей.
131
Демокрит. Фрагмент В32 по Дильсу {цит. по: Лурье С. Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. Л.: Наука, 1970. С. 343}.
132
Гален. Комментарий на «Эпидемии» Гиппократа. III. 3, где цитируется Демокрит. Ср. также: Гален. De utilitate partium {О назначении частей человеческого тела}. XIV. 10.
133
Rufus d’Éphèse. Œuvres / éd. Daremberg. P. 370.
134
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 89. 2; 90. 2–4; 93. 2; 96. 1.
135
«Sôphron gamos». Следует помнить, что задачей «Педагога» является приобщение к «умеренной жизни» («sôphron bios» – I. 1. 1. 4).
136
Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. 1–2 и 7 {рус. пер.: Гай Музоний Руф. Фрагменты. Указ. соч. С. 83}.
137
Сенека. Нравственные письма к Луцилию. VIII, XVI, LXXXII.
138
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 99. 6 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 192 (с изм.)}.
139
Там же. II. 10. 100. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 193}.
140
Лк. 20:27–37.
141
Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 100. 3 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 193 (с изм.)}. «Отмена дел плоти» (katargêsantes ta tês sarkos erga) не означает здесь отказ от деторождения. По всей видимости, это отсылка к Посланию к Галатам, где делами плоти называются «блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры», то есть все основные грехи (Гал. 5:19–21).
142
Климент Александрийский. Педагог. I. 3. 9. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 193 (с изм.)}.
143
«Итак, не следует нам быть побеждаемыми от любовных удовольствий, томиться пожеланиями, возбуждаться, себя осквернять противоразумными чувственными влечениями и удовлетворением их». – Там же. II. 10. 102. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 194}. Однако в «Строматах» (III. 7) Климент высказывает куда более строгое отношение к желаниям: если для язычников egkrateia {самообладание} – это неподчинение желаниям, то для христиан – это mê epithumein, победа не только над желаниями как таковыми, но и над самим процессом желания.
144
«Oukoun aphrodisiôn hêttasthai <…> Sperein de monon…» – Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 102. 1.
145
Климент Александрийский. Строматы. II. 23. 141. 5 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 300}. Впрочем, эта позиция не является для Климента безоговорочной. Ср. пассаж о возможности жениться или не жениться.
146
«Semnôi kai sôphroni paidopoioumenos thelêmati». – Там же. III. 7.
147
Так, Тертуллиан в трактате «De carne Christi» {«О плоти Христа»} усматривает первоисток грехопадения в том, что змей проник в тело еще девственной женщины. От «слова дьявола» произошел, согласно Тертуллиану, и братоубийца Каин (De carne Christi XVII. 5 {рус. пер.: Тертуллиан. О плоти Христа / пер. А. Столярова // Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс; Культура, 1994. С. 180}).
148
«Thatton ê prosêkon ên; eti neoi pephukotes». – Климент Александрийский. Строматы. III. 17 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 382}. Вообще о том, что молодые люди подвергаются опасности быть воспаляемыми желанием слишком рано, см.: Климент Александрийский. Педагог. II. 2. 20. 3–4.
149
«Pais andrizomenos apeitheia». – Климент Александрийский. Увещевание к язычникам. XI. 111. 1 {«Отрок, возмужав в неповиновении». – Цит. по: Климент Александрийский. Увещевание к язычникам / пер. А. Братухина. СПб., 2016. С. 133}.
150
Климент Александрийский. Строматы. III. 17 {перевод наш; рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 382}. Климент напоминает, что было бы кощунством осуждать genesis, к которому причастен Бог.
151
См.: Климент Александрийский. Педагог. I. 6. 34. 3 и далее, где Климент комментирует Первое послание к Коринфянам (3:2): «…я питал вас молоком, а не твердою пищей».
152
«Sungeneia dia to haima <…> Sumpatheia dia tên anatrophên». – Климент Александрийский. Педагог. I. 4. 49. 4.
153
«Надо признать, что половая мораль у Климента крайне сурова. Ее предписания часто превосходят в строгости те положения, которые станут традиционными для „Большой Церкви“». – Broudéhoux J.-P. Mariage et famille chez Clément d’Alexandrie. Paris, 1970. P. 136.
154
Один из основных «новых» запретов – сложный и расширительно понимаемый режим кровосмешения – практически не будет давать о себе знать вплоть до раннего Средневековья.
155
[В машинописном оригинале далее следует текст, зачеркнутый рукой Фуко: «Короче говоря, схема кодекса, подавления и интериоризации запретов не может дать отчет о тех процессах, которые как раз и позволяют кодексам претворяться в поступки, а поступкам – ложиться в основу кодексов, то есть о процессах „субъективации“. Плоть есть способ субъективации».]