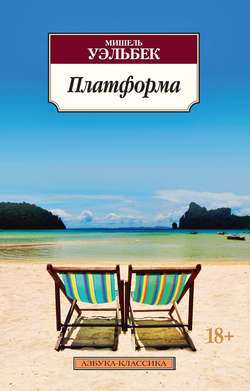Читать книгу Платформа - Мишель Уэльбек - Страница 3
Часть первая
Тропик Тай
2
ОглавлениеВсе когда-нибудь кончается, и ночь тоже. Из оцепенения, в котором я пребывал подобно ящерице, меня вывел четкий звонкий голос капитана Шомона. Он извинялся, что не успел зайти накануне. Я предложил ему выпить кофе. Пока грелась вода, он раскрыл на кухонном столе портативный компьютер и подключил принтер. Таким образом, мои показания он сможет сразу распечатать и дать мне на подпись; я одобрительно крякнул. Жандармерия в наши дни перегружена административными хлопотами, и ей, увы, не хватает времени на исполнение своих первейших обязанностей – на уголовные расследования; такое впечатление я вынес из соответствующих телепередач. Он согласился, и даже с жаром. Одним словом, допрос начался в обстановке взаимопонимания и доверия. Радостно чирикнул компьютер – загрузился «Windows».
Смерть наступила 14 ноября, поздно вечером или ночью. В тот день я был на работе, 15-го тоже. Разумеется, я мог сесть в машину, приехать сюда, убить отца и в ту же ночь вернуться. Что я делал вечером и ночью 14 ноября? Ничего, насколько я помню; ничего примечательного. Во всяком случае, мне ничего не запомнилось, а ведь и недели не прошло. У меня не было постоянной сексуальной партнерши, не было закадычных друзей – оттого и вспомнить нечего. День прошел, и ладно. Я сокрушенно взглянул на капитана Шомона: мне хотелось ему помочь, подсказать хотя бы направление поисков.
– Сейчас посмотрю в записной книжке, – засуетился я.
Я не ожидал в ней что-нибудь увидеть, но, как ни странно, обнаружил записанный на 14-е число номер мобильного телефона, а под ним имя: «Корали». Какая еще Корали? Всякая ерунда понаписана.
– Голова совсем дырявая, – констатировал я, виновато улыбаясь. – Не знаю, может, я был на каком-нибудь вернисаже.
– На вернисаже? – Он терпеливо ждал, занеся пальцы над клавиатурой.
– Да, я работаю в Министерстве культуры. Готовлю документацию по финансированию выставок, иногда концертов.
– Концертов?
– Концертов… современного танца… – Я был близок к отчаянию, сгорал со стыда.
– Короче, работаете на культурном поприще.
– Ну да… Можно сказать и так.
Он смотрел на меня серьезно и доброжелательно. О существовании некоего культурного сектора он представление пусть смутное, но имел. По роду занятий Шомон встречался с самыми разными людьми, и ничто в жизни общества не было ему совсем уж чуждым. Жандармы, они в известном смысле гуманисты.
Дальше беседа потекла по накатанному руслу; мне доводилось видеть нечто подобное по телевизору, и я чувствовал себя подготовленным к диалогу. У вашего отца были враги? Насколько мне известно, нет; о друзьях, по правде говоря, мне тоже ничего не известно. Что касается врагов, отец не такая значительная фигура, чтобы их иметь. Кому выгодна его смерть? Разве что мне. Когда я приезжал к нему в последний раз? Вероятно, в августе. В августе в министерстве делать особенно нечего, но коллеги вынуждены идти в отпуск из-за детей. Я же остаюсь на работе, наедине с компьютером, а в середине месяца прибавляю денек-другой к выходным и в это время навещаю отца. Хорошие ли у нас были отношения? Что сказать? И да и нет. Скорее нет, но я ездил к нему раз или два в год – это уже неплохо.
Он кивнул. Судя по всему, дача показаний подходила к концу, а мне хотелось сказать еще что-нибудь. Я испытывал к капитану необъяснимую, безотчетную симпатию. Но он уже заправил бумагу в принтер.
– Отец много занимался спортом! – выпалил я. Капитан взглянул на меня выжидающе. – Нет, ничего, – пробормотал я, разводя руками, – я только хотел сказать, что он занимался спортом.
Капитан Шомон досадливо отмахнулся и запустил печать.
Подписав показания, я проводил его до дверей.
– Понимаю, что разочаровал вас как свидетель, – сказал я ему.
– Свидетели всегда разочаровывают, – ответил он.
Некоторое время я обдумывал этот афоризм. Перед нами лежали бесконечно унылые поля. Усаживаясь в свой «Пежо-305», капитан Шомон пообещал сообщать о ходе расследования. В случае смерти прямых родственников по восходящей линии государственным служащим предоставляется трехдневный отпуск. Я вполне мог возвращаться не спеша, закупить здешних камамберов, но ничего такого делать не стал и выехал сразу на парижскую автостраду.
Оставшийся свободный день я ходил по турагентствам. Туристические каталоги нравились мне своей абстрактностью и умением сводить все на свете к череде счастливых мгновений и соответствующих расценок; система звездочек, обозначавших степень счастья, на которую вы вправе рассчитывать в том или ином месте, представлялась мне подлинной находкой. Сам я не был счастлив, но счастье ценил высоко и все еще мечтал о нем. Английский экономист Маршалл представляет покупателя рациональным индивидом, стремящимся максимально удовлетворить свои потребности исходя из финансовых возможностей; Веблен анализирует воздействие социальной среды на процесс приобретения (в зависимости от того, желает ли индивид с этой средой идентифицироваться или, напротив, от нее отмежеваться). Коупленд же при определении покупательной способности учитывает категорию продукта или услуги (текущая покупка, запланированная покупка, целевая покупка); а вот из модели Бодрийяра – Беккера следует, что потребление само по себе есть производство знаков. В глубине души я чувствовал, что модель Маршалла мне ближе.
Вернувшись на работу, я заявил Мари-Жанне, что нуждаюсь в отпуске. Мари-Жанна – это моя коллега, мы вместе готовим документацию к выставкам, вкалываем на благо современной культуры. Ей тридцать пять лет, у нее гладкие светлые волосы и бледно-голубые глаза; о ее личной жизни мне ничего не известно. На служебной лестнице она стоит чуть выше меня, но предпочитает этого не показывать и всячески подчеркивает, что в своем отделе мы работаем сообща. Если нам случается принимать по-настоящему важную персону – представителя Управления изобразительных искусств или члена кабинета министров, – она никогда не забывает упомянуть, что у нас единый коллектив. «А вот и самый главный человек в нашем отделе! – произносит она, заходя ко мне в кабинет. – Он жонглирует цифрами и сметами… Без него я как без рук».
И смеется; важные посетители тоже смеются, по крайней мере счастливо улыбаются. Улыбаюсь и я – уж как умею. Пытаюсь вообразить себя жонглером; но на самом деле тут достаточно владеть простыми арифметическими действиями.
Хотя Мари-Жанна в буквальном смысле не делает ничего, ее работа сложнее моей: ей необходимо всегда быть в курсе новейших течений, движений, тенденций; взвалив на свои плечи тяжкое бремя ответственности за культурный процесс, она ежеминутно рискует, что ее заподозрят в косности или даже обскурантизме; ограждая себя от подобной напасти, она тем самым оберегает и вверенный ей участок. Поэтому она постоянно поддерживает контакты с художниками, галерейщиками и редакторами журналов, о которых я понятия не имею; телефонные разговоры с ними наполняют ее радостью, ведь современное искусство она любит искренне. Сам я тоже ничего против него не имею: я не из тех, кто ставит ремесло превыше всего и жаждет возврата к традиционной живописи; я веду себя сдержанно, как и подобает человеку, чья профессия – управленческий учет. Вопросы эстетики и политики – это не для меня; не моя забота вырабатывать и утверждать новые концепции, новое отношение к миру; я завязал с этим еще в ту пору, когда спина моя только начинала горбиться, а лицо грустнеть. Я насмотрелся выставок, вернисажей и выдающихся перформансов и пришел к окончательному заключению: искусство не может изменить жизнь. Мою уж точно нет.
Мари-Жанна знала, что у меня горе; она встретила меня сочувственно, даже руку на плечо положила. Мою просьбу об отпуске сочла естественной.
– Тебе необходимо подвести итоги, Мишель, – рассудила она, – заглянуть в себя.
Я попытался представить себе, как буду это делать, и подумал, что она, скорее всего, права.
– Проект бюджета докончит Сесилия, – продолжила она, – я с ней поговорю.
О чем это она и какая такая Сесилия? Я огляделся по сторонам, увидел эскиз афиши и вспомнил. Сесилия была толстая рыжая девица, беспрестанно поедавшая шоколад «Кэдбери» и работавшая у нас всего месяца два – то ли по временному соглашению, то ли вообще по программе трудоустройства безработных; короче, мелкая сошка. А известие о смерти отца действительно застало меня за подготовкой бюджета выставки «Руки вверх, проказники!», которая должна была открыться в январе в Бур-ла-Рен. Речь шла о заснятых при помощи телеобъектива зверствах полицейских в департаменте Ивелин; однако зрителям предлагались не просто фотодокументы, а некая пространственная, так сказать, театрализованная композиция, к тому же полная намеков на различные эпизоды сериала «Полиция Лос-Анджелеса». Обычному в таких случаях социальному обличению автор предпочел пародию. Словом, любопытный замысел, притом не слишком дорогой и не слишком сложный; даже такая бестолочь, как Сесилия, вполне могла справиться с проектом бюджета.
Обычно после работы я отправлялся на пип-шоу. Это обходилось в пятьдесят франков, иногда в шестьдесят, если мне не хватало времени, чтобы кончить. Вид курчавых лобков в движении хорошо прочищает мозги. Противоречивые тенденции в современном видеоискусстве, бережное отношение к культурной традиции и поощрение новаторства… – все это мигом улетучивалось из головы под воздействием примитивной магии колыхающихся передков, и я спокойненько опорожнял свои яички. Сесилия же в это время лопала шоколадные пирожные в ближайшей к министерству кондитерской; мотивировки у нас были весьма схожие.
Отдельный кабинет за пятьсот франков я брал редко, только в тех случаях, когда мой дружок совсем сникал, когда я ощущал его капризным, никчемным придатком, вдобавок пахнущим сыром; в такие дни мне требовалось, чтобы девушка взяла его в руки, повосхищалась, пусть неискренне, его мощью и обилием семени. Так или иначе, я возвращался домой не позднее половины восьмого. Перво-наперво смотрел «Вопросы для чемпиона», автоматически записывавшиеся на видео, затем переходил к новостям. Ситуация с коровьим бешенством меня мало беспокоила – питался я в основном пюре «Муслин» с сыром. Вечерние программы шли своим чередом. Когда имеешь сто двадцать восемь каналов, скучать не приходится. Заканчивал я часам к двум турецкой музыкальной комедией.
Несколько дней я прожил относительно спокойно, а потом мне снова позвонил капитан Шомон. Оказалось, дела продвинулись и предполагаемый убийца найден; собственно, уже и не предполагаемый: он сознался. Через два дня они намеревались провести следственный эксперимент. Желаю ли я на нем присутствовать? Да, разумеется, ответил я.
Мари-Жанна одобрила мое мужественное решение, сказала что-то об испытании горем и загадке родственных связей; она произносила подобающие случаю слова, запас которых невелик, но это и не важно: я чувствовал в них искреннюю теплоту, что было удивительно, но приятно. До чего же все-таки женщины любвеобильны, думал я, садясь в поезд на Шербур, они даже на службе стремятся установить сердечные отношения, им трудно существовать в мире, лишенном эмоций, они в нем чахнут. В этом их слабость и причина многих неприятностей, недаром психологические странички «Мари-Клер» постоянно твердят об одном и том же: необходимо четко разграничивать работу и эмоции; только женщинам это плохо удается, о чем с не меньшим постоянством свидетельствуют документальные страницы того же журнала. Когда миновали Руан, я стал перебирать в уме подробности дела. Великое открытие капитана Шомона заключалось в том, что Айша имела «интимные отношения» с моим отцом. Как часто и насколько интимные? Этого он не знал, но для дальнейшего расследования оно и не понадобилось. Один из братьев Айши признался вскоре, что пришел к отцу и «потребовал объяснений», но разговор принял дурной оборот; потом он ушел, а старик остался лежать на бетонном полу котельной, «как неживой».
Следственным экспериментом руководил суровый сухонький человечек во фланелевых брюках и темном поло, с лица которого не сходила саркастическая усмешка; но капитан Шомон сразу отобрал у него бразды правления. Живой, подвижный, он встречал участников, находил приветливое слово для каждого, разводил всех по местам; он прямо-таки лучился счастьем. Подумать только, первое же дело об убийстве он раскрыл менее чем за неделю; в этой жуткой и банальной истории он оказался единственным героем. Айша сидела на стуле сникшая, удрученная, с черным платком на голове; она едва взглянула на меня, когда я вошел; на брата не смотрела вовсе. Тот сидел между двух жандармов, уперев взгляд в пол. Безмозглое животное – я не испытывал к нему ни малейшего сочувствия. Он поднял голову, встретился со мной взглядом и наверняка понял, кто я. Надо думать, его предупредили о моем приезде: по его примитивному разумению, мне надлежало ему отомстить, отплатить за кровь отца. Между нами установилась особого рода связь; сознавая это, я смотрел ему в лицо не отводя глаз; я медленно проникался ненавистью, и от этого приятного и сильного чувства мне становилось легче дышать. Будь я вооружен, я бы его прикончил не раздумывая. Убийство подобной гадины не просто не казалось мне преступлением, но представлялось поступком положительным, благотворным. Жандарм начертил мелом какие-то отметки на полу, и эксперимент начался. По словам обвиняемого, все произошло очень просто: во время разговора он погорячился и резко толкнул отца; тот упал навзничь и раскроил себе череп об пол; сам же он испугался и убежал.
Разумеется, он лгал, и капитан Шомон без труда вывел его на чистую воду. Осмотр черепа убедительно доказывал, что жертва подверглась избиению; судя по характеру ушибов, отца били ногами. Его возили лицом по полу так, что один глаз превратился в зияющую кровоточащую рану.
– Не помню, – сказал обвиняемый, – я был не в себе.
Глядя на его жилистые руки и тупое злобное лицо, всякий охотно в это верил; он действовал непредумышленно, а когда отец ударился головой об пол, впал в бешенство от вида крови. Простая и убедительная система защиты: он выкрутится на суде, получит несколько лет условно, не более того. Капитан Шомон, удовлетворенный результатами своей деятельности, готовился подвести итоги. Я поднялся со стула, подошел к окну. Вечерело, брели на ночлег овцы. Они тоже тупые, может, еще тупее, чем брат Айши, но в генах у них агрессивная реакция не запрограммирована. В свой последний вечер они заблеют от страха, у них учащенно забьется сердце, ноги отчаянно задергаются; потом грянет выстрел, жизнь улетучится, а тело превратится в мясо. Мы пожали друг другу руки и расстались; капитан Шомон поблагодарил меня за то, что я приехал.
На другой день я встретился с Айшой: агент по недвижимости посоветовал мне произвести в доме полную уборку, прежде чем его придут смотреть первые покупатели. Я передал ей ключи, затем она отвезла меня в Шербур на вокзал. В лесу уже воцарялась зима, над изгородями висел туман. Рядом с Айшой я чувствовал себя напряженно. Она совокуплялась с моим отцом, что порождало между нами совершенно неуместную близость. Поразительная, в общем-то, история: серьезная с виду девушка, да и отец менее всего походил на соблазнителя. Значит, он все-таки обладал некими привлекательными чертами, которых я не сумел разглядеть; в сущности, я и лица-то его не мог как следует вспомнить. Люди живут и друг друга не видят, ходят бок о бок, как коровы в стаде; в лучшем случае бутылку вместе разопьют.
«Фольксваген» Айши остановился на вокзальной площади; понимая, что на прощание надо бы сказать какие-то слова, я протянул:
– Н-да…
Прошло еще несколько секунд, потом она заговорила глухим голосом:
– Я уеду отсюда. Один знакомый может устроить меня подавальщицей в Париже; продолжу учебу там. Все равно в семье меня считают шлюхой.
Я понимающе помычал.
– В Париже больше народу, – выдавил я наконец.
Сколько ни напрягался, ничего другого о Париже придумать не смог. Убожество реплики ее не смутило.
– Дома меня ничего хорошего не ждет, – продолжала она, сдерживая злость. – Мало того, что они нищие, они еще и кретины. Отец два года назад совершил паломничество в Мекку, и с тех пор с ним говорить невозможно. А братья – того хуже: один другого тупее, только и знают, что хлещут пастис и воображают себя при этом носителями истинной веры; меня же обзывают стервой, потому что я предпочитаю работать – всё лучше, чем выйти за такого же, как они, идиота.
– Да, мусульмане, они вообще-то не очень… – Тут я замялся. Потом взял сумку и открыл дверцу. – Думаю, у вас все наладится, – пробормотал я не слишком уверенно.
В эту минуту миграционные потоки представились мне кровеносными сосудами, пронизывающими Европу, а мусульмане – медленно рассасывающимися сгустками крови. Айша смотрела на меня с сомнением. В раскрытую дверцу врывался холод. Умозрительно я мог испытать влечение к влагалищу мусульманки. Я улыбнулся немного натянуто. В ответ она улыбнулась более искренне. Я неторопливо пожал ей руку, ощутил тепло ее пальцев, почувствовал, как бьется жилка на запястье. Отойдя на несколько метров от машины, я обернулся и помахал ей на прощание. Под конец все-таки получился какой-то человеческий контакт.
Устраиваясь в комфортабельном вагоне фирменного поезда, я подумал, что должен был дать ей денег. Хотя нет, она могла бы меня неправильно понять. И как ни странно, только в эту минуту до меня дошло, что я теперь стану богатым; ну, относительно богатым. Перевод денег с отцовских счетов уже состоялся. Продажу автомобиля я доверил автомобильному мастеру, продажу дома – агенту по недвижимости; все уладилось само собой. Стоимость имущества определялась законами рынка. Разумеется, какая-то возможность торга оставалась: десять процентов в ту или другую сторону, не больше. Ставки налогообложения тоже тайны не составляли, достаточно заглянуть в прекрасно изданные брошюрки, которые распространяет налоговая служба.
Отец наверняка не раз подумывал лишить меня наследства, но в конце концов плюнул, решил, видать, что хлопот много и неизвестно еще, чем они увенчаются (лишить детей наследства непросто, закон сводит возможности к минимуму: маленькие мерзавцы не только отравляют вам жизнь, но еще и пользуются потом всем, что вы накопили ценой изнурительных усилий). А главное, говорил он себе, все бессмысленно, и какое ему дело до того, что случится после его смерти. Полагаю, он примерно так рассуждал. Теперь старый черт помер, и мне предстоит продать дом, где он провел последние годы, а также «тойоту-лендкрузер», на которой он привозил упаковки воды «Эвиан» из шербурского гипермаркета. Сам я живу возле Ботанического сада и, зачем мне «тойота-лендкрузер», не знаю. Разве что привозить равиоли с рынка на улице Муффтар. В случае прямого наследования налоги невелики, даже если родственные узы были не слишком крепки. После всех выплат у меня останется миллиона три – около пятнадцати моих годовых зарплат. Приблизительно за такую сумму неквалифицированный рабочий в Западной Европе вкалывает в течение всей трудовой жизни; словом, деньги немалые. Можно зажить по-человечески; хотя бы попробовать.
Через несколько недель я наверняка получу письмо из банка. Поезд подъезжал к Байе, я уже представлял себе, как сложится разговор. Сотрудник филиала констатирует значительные поступления на мой счет и попросит уделить ему несколько минут – рано или поздно любому человеку может понадобиться посредник в размещении капитала. Я отнесусь к его предложению настороженно, скажу, что хотел бы вложить деньги самым надежным способом; он выслушает мой ответ – ответ типичный – с легкой улыбкой. Ему прекрасно известно, что новички в большинстве своем предпочитают надежность прибыльности; он с коллегами частенько над этим посмеивается. Мне следует правильно понять его: в вопросах распоряжения имуществом и вполне зрелые люди ведут себя как сущие новички. Он, со своей стороны, желал бы привлечь мое внимание к несколько иному сценарию, оставив мне, разумеется, время на размышление. Почему бы, в самом деле, не вложить две трети состояния под незначительные, но гарантированные проценты? И почему не инвестировать оставшуюся треть более рискованным образом, но с возможностью реального увеличения капитала? Я знал, что, поразмыслив несколько дней, соглашусь с его доводами. Ободренный моим согласием, он с неподдельным воодушевлением возьмется за подготовку документов; на прощанье мы с жаром пожмем друг другу руки…
Я жил в стране умеренного социализма, где обладание материальными благами неукоснительно охраняется законом, а банковские вклады защищены могущественными государственными гарантиями. Мне не грозило ни разорение, ни злостное банкротство, если, конечно, я не стану выходить за рамки законности. Короче, мне больше не о чем было особенно беспокоиться. Впрочем, я и прежде ни о чем особенно не беспокоился: учился серьезно, хотя блистать не блистал, по окончании института сразу устроился в государственный сектор. Это было в начале 80-х, в эпоху модернизации социализма, когда руководимая незабвенным Жаком Лангом{ Жак Ланг – министр культуры Франции (1981–1986.).} культура купалась в роскоши и славе; при приеме на работу мне положили приличную зарплату. А потом я состарился, наблюдая без волнения за чередой политических перемен. Я всегда держался вежливо и учтиво, меня ценили коллеги и начальство, однако темпераментом я обладал сдержанным и обзавестись настоящими друзьями не сумел.
На Лизье и окрестности стремительно опускалась ночь. Почему я никогда не отдавался работе страстно, как Мари-Жанна? Почему я вообще ничего в жизни не делал со страстью?
Последующие несколько недель не принесли мне ответа, а утром 23 декабря я взял такси и отправился в аэропорт.