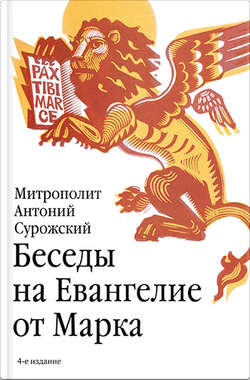Читать книгу Беседы на Евангелие от Марка - митрополит Антоний Сурожский - Страница 4
Глава 1. Евангелия от Марка
«Я возвещаю вам великую радость»[2]
ОглавлениеТеперь приступим к самому тексту. Евангелие от Марка начинается так:
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божий, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего (т. е. вестника Моего. – М.А.) пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою[3]. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему[4]. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым (Мк. 1:1-8).
Вот об этом отрывке Евангелия я хочу сегодня с вами говорить. Но сначала: что значит само слово «Евангелие»? Евангелие – греческое слово, и означает оно «благая весть» – нечто новое и вместе с этим приносящее радость, новизну, жизнь. И тут мы сразу можем поставить себе вопрос. Если весть эта такая благая, в чем она заключается? В Евангелии от Марка об этом не говорится, но в Евангелии от Луки говорится следующее: И сказал им [пастухам] Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2: 10-11). Здесь ангел возвещает пастухам самое существо этой радости. Бог стал Человеком, и этот Человек, Который одновременно является Богом нашим, спасет всех людей от их бедственного состояния, от того, что мы называем грехом. К этому мы еще вернемся. Но в чем состоит новизна этой вести? Неужели до этого никто не надеялся, не ожидал, что рано или поздно случится нечто подобное, что разрешится горе, что всякая слеза утрется, что новая жизнь настанет? Да, действительно, об этом мечтали, и больше того: этого ожидали, потому что об этом неоднократно говорили ветхозаветные пророки. И Малахия, и Исайя, и Иеремия – все призывали ждать Того, Который сделает весь мир новым, но новизной не той, которая была изначально, при сотворении мира, а новизной, которая уже принадлежит будущему веку. Тогда произойдет обновление падшего человека, и вслед за ним, через него – обновление всей твари, пострадавшей через падение Адама, обновление нашей земли, когда не останется на ней ни следа зла, ни следа страдания и все будет сиять радостью и торжеством. В этом исполнение пророчеств Ветхого Завета о Мессии. В седьмой главе пророчества Исайи говорится о том, что родится от Девы Младенец, Который спасет мир[5].
Но новизна не заключается только в том, что исполнилось наконец, хотя бы зачаточно, это обещание Божие; вместе с этим пришло в мир новое представление о Боге – не только как о Творце, как о Промыслителе, как о Хозяине жизни. Наш Бог – не только «Бог вдали». Действительно, став человеком, воплотившись, Бог стал предельно нам близок. Он нам свой, Он нам родной. Он носит нашу плоть, у Него есть родословная. У Него есть земная судьба, у Него есть лик, лицо.
В Ветхом Завете нельзя было изображать Бога, потому что Он был неописуем, но через воплощение Бог получил и облик человеческий, и имя человеческое. Во всем Он стал нам подобным, за исключением греха, – греха как оторванности от Бога, как исковерканности человеческого облика, как уродства. И еще: через воплощение мы вдруг обнаруживаем, что Бога можно не только бояться. Страх, конечно, бывает разный. Можно рабски бояться наказания; можно бояться как наемник, который не хочет потерять свой заработок или награду; можно бояться и по-сыновьи: как бы не огорчить любимого. Но и этого недостаточно. В воплощении Христа открылась как бы еще новая черта в Боге: это Бог, Которого мы можем уважать. Это слово звучит странно применительно к Богу, и я должен его разъяснить.
Большей частью люди себе представляют, что Бог сотворил мир, сотворил человека, не спрашивая его, хочет ли он существовать или нет, да еще наделил его свободой, т. е. возможностью себя погубить, а затем, то ли в конце нашей личной жизни, то ли в конце судьбы мира, в конце времен, Бог нас будто бы ожидает и произнесет суд. Справедливо ли это? Мы не просились в существование, мы не просили той свободы, которую Он нам дал, – почему же мы должны односторонне отвечать за свою судьбу и за судьбу мира? Этот вопрос с такой резкостью мало кто ставит; но я его ставлю и ответ нахожу в Воплощении Слова Божия, Сына Божия.
Бог делается человеком. Он вступает в мир на началах человечества, Он на Себя берет не только тварность нашу, т. е. плоть, душу человеческую, ум, сердце, волю, судьбу, но Он берет на Себя всю судьбу человека в этом падшем, изуродованном мире, в страшном мире, где постоянно (порой даже торжествуя) так или иначе действуют зло, ненависть, страх, жадность, столько других пороков. Он входит в этот мир и берет на Себя все последствия не только Своего первичного творческого акта, вызвавшего из небытия мир и человека, – Он берет на Себя все последствия того, что человек сделал из этого мира. Он живет, чистый от всякой скверны, в мире, где на Него обрушивается все нечистое, все скверное, все развратное, все безбожное, все недостойное человека, потому что для падшего мира Он – вызов. Бога, Который на Себя берет такую судьбу, Который готов так заплатить за то, что Он нам дал бытие и свободу, – да, можно уважать. Он нас не пустил в жизнь, с тем чтобы мы расплачивались за нее, Он вошел в эту жизнь и вместе с нами Сам готов ее преобразить, изменить. Об этом все Евангелие говорит, и я не буду сейчас останавливаться на этом. Но если так себе представлять Бога, то понятно делается, что не напрасно Бог говорит о Себе в Книге Откровения устами апостола Иоанна Богослова: «…вот, Я все делаю новым»[6].
И это относится не только к человеку, не только к обществу, это относится и ко всему творению. Воплощение можно назвать событием космическим, и вот в каком смысле. Плоть, которой облекся Бог, человеческое тело, которое было Его телом, состоит из того же вещества, что и вся вселенная. Вы, может быть, помните, что в начале Книги Бытия нам говорится о том, что Бог создал Адама, человека, взяв персть земную, т. е. самое основное, из чего можно творить. И Христос, став человеком, приобщился к самому коренному, что составляет творение. Всякий атом может себя узнать в атомах Его тела, всякая звезда, всякое созвездие может узнать себя по-новому в Его плоти, увидеть, чем атом и все то, что состоит из атомов, может стать, если только соединится с Богом, если только начнет сиять не естественным тварным своим светом, а Божественной славой. Это же так дивно! Представьте себе, что во Христе вся тварь – и человек, и все вещественное творение – может узнать себя во славе Божией. Разве это не новизна? Разве это не благая весть?
Плоть, которой облекся Бог, человеческое тело, которое было Его телом, состоит из того же вещества, что и вся вселенная. ‹…› Всякий атом может себя узнать в атомах Его тела, всякая звезда, всякое созвездие может узнать себя по-новому в Его плоти.
И все это, как сила взрыва в атоме, содержится в двух наименованиях Христа Спасителя: Эммануил, что по-еврейски значит «с нами Бог», «Бог посреди нас», и Иисус: «Бог спасает».
Я могу вам вычитать из Послания апостола Павла маленький отрывок: Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2: 11-14). Вот о чем идет речь, вот каков у нас Бог и вот каков Господь наш Иисус Христос. Вот почему апостол Марк, который пережил сам в себе перемену, которая его делает из земного – духовным существом, начал свою книгу словами, что это начало Благовестия, это начало такой благой вести, вне всякого сравнения с любой другой.
Об этой вести нам первым говорит Предтеча (т. е. предвозвестник), Иоанн Креститель. О его приходе уже возвещалось в Ветхом Завете, но взглянем на него глазами Нового Завета, взглянем на его личность. Молодой человек тридцати лет, на несколько месяцев старше Господа Иисуса Христа, отказавшийся от всего земного для того, чтобы с самых ранних лет уйти в пустыню, очистить себя от всякого влечения к нечистоте, к неправде, отдать себя Богу безвозвратно и до конца; подвижник, который ничего не знает и знать не хочет, кроме Бога, Его воли и той вести, которую он должен принести на землю. Эта личность нам представляется такой изумительно сильной. В чем эта сила? В том, мне кажется, что он настолько стал гибок в Божией руке, настолько прозрачен для Бога, что люди, встречая его, уже видели не Иоанна-пророка, говорящего с ними о Боге. Он назван в Евангелии от Марка словами пророчества: глас вопиющего в пустыне. Люди слышали в нем только Божий голос, он сам как бы уже не играл никакой роли, он был рупором, он был Богом, говорящим через человека. Вот в этом его сила. Апостол Павел позже тоже должен был говорить от имени Божия; ему показалось, что у него никаких сил для этого нет, и он стал молить Бога, говоря: Господи, дай мне силу! – и Бог ему ответил: Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12: 9).
Вот таким был Иоанн Креститель. Он всецело отдал себя Богу, и поэтому Бог в нем действовал, не он; он был подобен хорошо настроенному музыкальному инструменту, на котором гениальный композитор или исполнитель может играть так, что уже не замечаешь ни инструмента, ни композитора, ни исполнителя, – только пронизываешься тем переживанием, какое рождает в тебе звучащая мелодия.
А с другой стороны – какое смирение! Я уже упоминал, что, согласно Евангелию, Иоанн Креститель говорит о себе: «Я недостоин, нагнувшись, развязать ремень сапог Того, Который грядет за мной»[7], – т. е. Иисуса Христа. С одной стороны, такая непостижимая, ничем не победимая, не сокрушимая сила, а с другой стороны, сознание: я – только прозрачность, я – только голос.
О чем же говорит этот голос? Вот тут я хочу вам прочесть из Евангелия от Луки первую проповедь Иоанна Крестителя: При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими: и узрит всякая плоть спасение Божие[8]. Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его (Лк. 3: 2-18).
Дальше я буду говорить о том, что является сердцевиной проповеди Иоанна Крестителя: о покаянии.
Имя Иисус, как уже было сказано, означает «Бог спасает». И Иоанн Креститель ясно указывает, от чего Бог нас спасает и каким путем можно приобрести это спасение. Бог спасает нас от греха, и путь к этому спасению – покаяние.
Но что же такое грех? Часто мы думаем о грехе как о нарушении добрых отношений с людьми. Но грех заключает в себе гораздо больше, он опаснее, он страшнее. Вот несколько представлений о том, что такое грех; я их беру из Ветхого и, главным образом, из Нового Завета.
Грех является нарушением закона, но какого закона? – закона жизни. Жизнь в настоящем смысле слова возможна только через участие в жизни Самого Бога, так как Он является единственным необусловленным, самостоятельным источником жизни, лучше сказать: Он – сама жизнь. Оторваться от Него – значит вступить в область потускнения, вымирания и, наконец, самой смерти. Поэтому грех есть беззаконие (1 Ин. 3: 4).
Но не надо обманываться. Быть послушным закону не значит быть «законопослушным» в юридическом смысле этого слова, т. е. быть исполнителем правил, остающихся для нас внешними. Чтобы лучше это понять, мы можем сравнить то, что Ветхий и Новый Завет говорят нам о законе. Ветхозаветный закон, данный через Моисея на горе Синайской, состоит из большого числа разных правил, и те люди, которые придерживались этих правил, оставались им верными до конца в течение всей жизни, всю свою энергию, силу, волю отдавая на послушание этим правилам, могли считать себя праведниками. Богу нечего было с них спросить, потому что они выполнили каждую букву, каждое слово, сказанное Им в законе.
В Новом Завете Христос тоже дает нам заповеди, но отношение к ним иное, чем к ветхозаветным предписаниям: заповеди Христовы учат нас не как поступать, а какими быть; заповеди Христа – путь. Мы не можем относиться к ним рабски, повинуясь из страха или в надежде на награду. Путем заповедей Христовых мы вырастаем в общение, в глубокое, все более совершенное единство с Богом, приобщаемся Его совершенству и святости. Это значит то, что не исполнением приказов Божиих, а сроднением с тем, что апостол Павел называет ум Христов (1 Кор. 2: 16), сроднением с подходом, с пониманием Божиим мы можем спасти себя. А спастись – значит приобщиться к жизни Божественной. То, что нам представлено в Новом Завете в виде законов, в сущности, не правила жизни, а указания на то, что должно бы в нас, в нашем сердце, в нашем уме быть движущей силой нашей жизни. Это не внешний закон, а описание «внутреннего человека»[9]. В этом отношении когда я говорю, что мы не можем спастись, если нарушаем закон жизни, то я говорю не о поступках, а о том, чтобы этот закон жизни стал действительно нашим существом и мы не могли иначе поступить, потому что уже приобщились к мысли, к замыслу Божиему. Мы с Ним разделяем Его желание, любим то, что Он любит, – мы с Ним едины.
И это очень важно, потому что очень легко превратить новозаветные правила, которые нам дает Христос, в ветхозаветный закон, стать исполнителями, оставаясь как бы вне этого опыта. Я помню человека, который так воспринял Евангелие. Он считал себя чистым, светлым христианином. Он никогда не пропускал нищего, не позвав его и не дав ему тарелку супа и медную монетку; но он нищего никогда не пускал в дом. Он останавливал его в дверях и говорил: «Только не смей вступать твоими грязными башмаками в мой чистый коридор!» И когда тот кончал есть похлебку и получал грош, он говорил: «А теперь иди и не возвращайся ко мне, я тебе все дал, что тебе нужно!» Он считал, что он исполнил дело милосердия, – а в сердце у него никакого милосердия не было.
Вот в этом и заключается разница между исполнением закона в юридическом смысле слова и тем, чтобы стать человеком, для которого заповедь является зовом жизни: стать таким человеком, который иначе поступить не может.
Второе понятие о грехе, тоже очень важное и связанное с предыдущим, это оторванность от Бога. Мы только потому относимся к воле Божией как к внешнему закону, что мы от Бога оторваны сердцем. Эта оторванность нашего сердца от Бога, нашей воли от воли Божией, наших мыслей от мыслей и представлений Божественных и является основной нашей греховностью, тем состоянием полусмерти, потускнения, о котором я говорил раньше. Но грех развивается еще дальше, и из этого состояния оторванности рождаются и последствия ее: осиротелость, внутренний разлад, рознь с людьми, вражда с остальной тварью. И в этом отношении грех расползается, приобретает бесконечное число разных оттенков: ненависти, страха, жадности, всех видов сосредоточенности на себе, – потому что мы потеряли Бога. В начале Евангелия от Иоанна говорится (в славянском переводе) о том, что Слово Божие было «к Богу»[10]. В греческом тексте говорится не о том, что Слово «к Богу», а о том, что Слово как бы рвется, тянется, всецело направлено на Бога и Отца. Таково должно быть настоящее отношение человека к Богу, образцом чего является Христос. Мы же оторваны от Него, и мы засыхаем, как сучок, который отрезан, отрублен, оторвался от дерева.
Третье, что я хочу сказать по поводу греха: нельзя утешаться мыслью, будто есть крупные и мелкие грехи. Конечно, разница есть; но и малый грех, если он произвольный, сознательно, цинично выбранный, может убить душу. В пример того, что может сделать мелкий грех, я приведу сравнение. Во время войны я был военным врачом, и в какую-то ночь с близкого уже фронта принесли в наше отделение тяжело раненного офицера, пробитого насквозь пулеметной очередью. Можно было ожидать, что ему остается только умереть. Но ему посчастливилось: ни один из жизненно важных органов не был затронут, его оперировали, лечили, он выжил. В ту же ночь меня вызвали, потому что привезли молодого солдатика. Он был в кабаке, повздорил с другим солдатом, оба были пьяны, тот размахивал маленьким перочинным ножом, ударил своего товарища в шею и разрезал у него крупный сосуд; когда раненого принесли в больницу, он был при смерти, его едва удалось спасти. Вот сравнение: что такое перочинный нож по сравнению с тяжелым пулеметом? А вместе с тем человек мог от него умереть.
То же бывает, если мы небрежно относимся к нашим греховным желаниям; нас тянет к греху, и мы этот «мелкий» грех начинаем любить и лелеять, так что наконец доходим до того, что совершаем его. В сравнении с этим крупный грех порой менее убийственный. Первый человек, который ко мне на исповедь пришел, был убийца. Сердце его было разбито покаянием, ужасом от того, что он сделал. Да, он потом отбывал срок в тюрьме, и это время в тюрьме было временем исцеления. Тогда как тысячи и тысячи людей живут в тумане мелких грехов, накапливают их, не замечая, как эти грехи их гноят, делают бессильными, безответственными. В этом отношении можно сказать: где бы ты ни перешел реку, как бы ты ее ни перешел – вброд, вплавь, по мосту, на лодке, – ты оказываешься на вражьей стороне, ты изменил своему подлинному призванию, именно изменил себе, потому что ты перестал быть цельным человеком. Вот разные подходы ко греху.
Я к этому еще вернусь в ином разрезе. Но теперь я хочу перейти к другому вопросу: к вопросу о том, как же избыть грех, что делать для этого.
Первое, о чем возвещает Иоанн Креститель, – это покаяние. Что же такое покаяние? Покаяние – с греческого это значит «поворот»: поворот души, поворот жизни. Это момент, когда мы осознаем свое бедственное положение, когда чувствуем отвращение к нему и к себе, когда вдруг рождается в нас, хоть зачаточно, решимость перестроиться, начать заново и по-новому жить. Вы, наверное, слышали фразу, которая взята из Нового Завета:
«вера без дел мертва» (см.: Иак. 2: 17). Плакаться – недостаточно, больше того – бесплодно. Покаяние заключается в том, чтобы прийти в сознание, принять решение и действовать соответственно. И тут я могу вам привести отрывок из поучения святого Тихона Задонского. Он советует одному молодому священнику говорить людям, что в Царство Божие идут большей частью не от победы к победе, а от падения к падению, но доходит до Царства Божия тот, кто после каждого падения, вместо того чтобы садиться у края дороги и плакать над собой, встает и идет дальше; и сколько бы раз он ни падал, каждый раз поднимается и идет. Вот о чем мы должны всегда помнить: что покаяния всецелого, мгновенного не бывает. Да, конечно, некоторые души, некоторые великаны духа могут вдруг осознать свою греховность и переменить сразу весь ход своей жизни, но мы большей частью исправляем его постепенно, шаг за шагом. Давайте помнить то, что святитель Тихон Задонский говорит: не плачься над собой, встань и иди, пусть в слезах, пусть в ужасе, но иди, не останавливаясь.
Первый человек, который ко мне на исповедь пришел, был убийца. Сердце его было разбито покаянием… и время в тюрьме было временем его исцеления. Тогда как тысячи и тысячи людей живут в тумане мелких грехов, не замечая, как эти грехи их гноят, делают бессильными.
Но что же может так потрясти душу, чтобы человек решился все изменить в своей жизни? Я вам могу привести несколько примеров. Первый: будучи тюремным священником в Лондоне, я встретил одного заключенного, у которого, не в пример другим, было радостное лицо, чувствовалась в нем какая-то надежда. Я сначала думал, что кончается его срок, но он только начинался. Я его спросил: «Откуда у тебя такое вдохновение?» Он ответил: «Вы этого не можете понять. Я с юношества был вором, и вором талантливым; меня никто не мог словить, никто не сумел меня обличить. Но постепенно я начал понимать, что я на дурном пути. Я начал видеть последствия своих поступков, видеть, как люди, обокраденные мною, оплакивали драгоценные для них вещи, пусть безделушки, но такие вещи, которые им были дороги как воспоминания о детстве, о скончавшихся родителях. Я решил меняться. Но я заметил, что каждый раз, когда я делал попытку перемениться, люди на меня смотрели с подозрительностью: раз он меняется, значит, что-то неладное в нем… И я каждый раз возвращался к прошлому. А потом я был взят, меня поймали на деле, судили, посадили, и теперь все знают, что я был вором. И когда я вернусь в свободную жизнь, я могу сказать: да, я был вором, но теперь я решил быть честным человеком, мне нечего скрывать ни от кого».
Это редкий случай, это не всякому удается. Редко кто среди нас вор; но кто из нас может сказать, что у него нет в жизни таких тайн, которые он хотел бы скрыть от других людей, – во всех областях, не только в порядке честности, но и в плане человеческих отношений. Я сейчас не хочу в это вдаваться, к этому мы вернемся по поводу какого-либо другого высказывания Спасителя Христа. Но каждый из нас может перед собой поставить вопрос: хватает ли у меня мужества себя обличить перед людьми? – даже не провозглашением своей неправды, а тем, что люди заметят, что я не такой, каким был.
Второй пример, который я хочу вам дать, сложный. Он относится к двум людям. Во время Гражданской войны одна русская женщина с двумя малолетними детьми оказалась в городе, который сначала был во власти Белой армии, потом попал под власть красных. Она была женой белого офицера и знала, что, если ее обнаружат, она, вероятно, будет расстреляна. Женщина с детьми спряталась в хижине на краю города. Спускались сумерки, и вдруг стук в дверь. С замиранием сердца она подошла, открыла ее – перед ней стояла молодая женщина ее же возраста, лет двадцати пяти. «Вы такая-то?» – спросила эта женщина. «Да». – «Вам надо немедленно уходить, вас выдали, за вами придут через несколько часов». Мать посмотрела на своих детей и сказала: «Куда же я пойду, они далеко уйти не могут, и с ними ведь меня сразу узнают». И эта Наталья, чужая женщина, вдруг стала тем, что Евангелие называет ближним, т. е. самым близким человеком в жизни и в смерти. Она сказала: «Нет, вас искать не станут, я останусь здесь и назовусь вашим именем». – «Но вас же расстреляют!» – «Да, – сказала Наталья, – но у меня-то детей нет». И мать ушла с детьми. Наталья осталась. Ранним утром, на рассвете, она была расстреляна. Я близко знал и мать, и двоих детей, которые были приблизительно моих лет. Они мне говорили: «Поступок Натальи нам показал, что мы должны так прожить, чтобы оказаться достойными этой жертвы». Преждевременная смерть молодой женщины, дарование им жизни – подарок неизвестной Натальи – потряс их до глубин, они всю жизнь прожили только с одной мыслью: чтобы смерть Натальи не лишила мир того величия, той правды, той неописуемой духовной красоты, которая была в ее душе. Они были так потрясены, что для них началась новая жизнь.
И те люди, которые встречали Иоанна Крестителя, встречались не только с его силой (я уже об этом говорил), с его прозрачностью, которая делала его только гласом Божиим, или с его смирением; они встречались с бескомпромиссностью в его лице, с человеком радикальной цельности. Видя его, они могли себя сравнить с тем, что он собой представлял, и это было для них побуждением каяться, т. е. увидеть с ужасом свое бедственное состояние и решить: таким, такой я жить больше не могу. Я видел, я видела нечто, что уже положило конец прошлой моей жизни, теперь должно начаться новое.
3
См.: Мал. 3: 1.
4
См.: Ис. 40: 3.
5
См.: Ис. 7: 14-16.
6
См.: Откр. 21:5.
7
См.: Мк. 1:7.
8
См.: Ис. 40: 3-5.
9
См.: Рим. 7: 22.
10
См.: Ин. 1: 1.