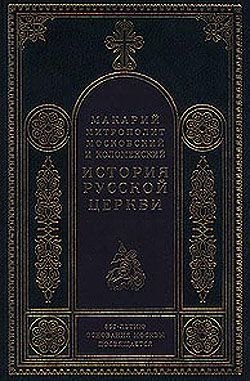Читать книгу История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). Отдел первый: 1240-1448 - Митрополит Макарий - Страница 5
Глава I Иерархия
III. Смутное время в митрополии и митрополит Киприан (1378–1406)
ОглавлениеМногие снова убеждали преподобного Сергия Радонежского принять архипастырский сан, но напрасно. Митяй сильно враждовал на старца, предполагая в нем своего совместника и думая, что он-то внушил святителю Алексию не благословлять его, Митяя, на митрополию. Самого Митяя никто в России не желал видеть первосвятителем, ни епископы, ни прочее духовенство, а иноки даже молили Бога спасти Церковь от такого митрополита. Но избранник великого князя нимало не смущался. Совершенно неожиданно он нашел себе твердую опору в тогдашнем Цареградском патриархе Макарии. Этот патриарх, как только узнал о смерти святого Алексия, немедленно написал в Москву, чтобы отнюдь не принимали митрополита Киприана, и прислал грамоты свои на имя архимандрита Михаила (Митяя), о котором слышал, что он в чести у великого князя. Грамотами патриарх передавал Русскую Церковь Михаилу и предоставлял ему полную власть над нею еще до рукоположения его в сан архипастыря, а вместе приглашал его для рукоположения в Константинополь. Этим-то обстоятельством, которое не записано в наших летописях, объясняется, как Митяй, будучи только архимандритом, осмелился переселиться в митрополичий дом, надеть на себя белый клобук митрополичий, носить митрополичью мантию и жезл, садиться в алтаре на митрополичьем месте, распоряжаться всею прислугою, казною и ризницею митрополита, править делами Церкви, собирать дани с духовенства. Любимец великого князя действовал смело и грозно: он начал вооружаться не только на священников и иноков, но и против игуменов, архимандритов, самих епископов и осуждал их своею властию, многих даже сажал в железные оковы и строго наказывал. Скоро во всем духовенстве открылся ропот, все ненавидели Митяя и горько сетовали.
Таким настроением московского и всего русского духовенства, может быть, надеялся воспользоваться Киприан и счел благовременным отправиться в Москву. Не доезжая до этой столицы, он 3 июня 1378 г. послал из городка Любутска (ныне село Лубудское в Калужском уезде) письмо игуменам Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому, извещая их о своем путешествии в стольный город и желании видеться с ними. Они отправили своих послов навстречу митрополиту, но великий князь Димитрий велел послов воротить, а сам расставил по дороге заставы с толпами солдат под начальством воевод, чтобы они не пропускали в Москву Киприана, ехавшего с большою свитою на 46 конях. Киприана кто-то предупредил, и он проехал в столицу окольными путями. Но едва только явился здесь, вечером в половине июня, как по приказанию великого князя был схвачен каким-то боярином Никифором, который ограбил митрополита, осыпал его неслыханными ругательствами и насмешками и совершенно нагого и голодного запер под стражею в сырую клеть. Иноков, сопровождавших его, заключили в другой тюрьме. Патриаршим послам, находившимся в его свите, также нанесли оскорбления, называя «литвинами» и патриарха, и Собор его, и императора. Слуг митрополита, обобрав с ног до головы, посадили на избитых кляч без седел и с крайними поруганиями выгнали из города и преследовали. Наконец на другой день, в вечерние сумерки, когда митрополит целые уже сутки просидел в своей сырой тюрьме, томимый голодом, к нему приехали на конях и седлах Никифор и воины, все переодетые в одежды его изгнанных слуг, и в таком виде с бесчестием выпроводили его из столицы. Остановившись неподалеку от Москвы, святитель, оскорбленный до глубины души, написал от 23 июня послание к тем же игуменам Сергию и Феодору, в котором излил всю скорбь свою на несправедливости, каким подвергся от великого князя, сильно восставал против незаконных притязаний Митяя и предал проклятию всех, кто был участником в задержании его, законного митрополита, и в нанесении ему такого неслыханного бесчестия и поругания. Чтобы понять сколько-нибудь этот поступок великого князя Димитрия Иоанновича, надобно взять во внимание, что он видел в Киприане избранника давнего врага своего Ольгерда, что сам Ольгерд когда-то поступил точно таким же образом с святителем московским Алексием, а Киприан поступил с ним едва ли даже не хуже, когда так недостойно оклеветал святого старца и покушался его низвергнуть, и что теперь Киприан насильно, наперекор желанию великого князя намеревался поселиться в Москве и управлять Русскою Церковию.
Чрез несколько месяцев (от 18 октября) Киприан извещал преподобных Сергия и Феодора, которые были преданы ему и находились с ним в переписке, что он непременно поедет в Константинополь, и с наступлением весны (1379) действительно туда отправился. Здесь прежде всего пришлось ему присутствовать на Соборе, который судил и свергнул с престола патриарха Макария, столько благоволившего к нашему Митяю и приглашавшего его к себе для рукоположения в митрополита. Весть об этом, вероятно, скоро достигла до Митяя: по крайней мере он, прежде все собиравшийся в Царьград, вдруг передумал и начал убеждать князя, чтобы сами русские архипастыри посвятили его во епископа и в первосвятителя. Князь и бояре согласились. Епископы были созваны в Москву, и все представлялись к Митяю с поклоном и за благословением. Один епископ Суздальский Дионисий, уважаемый по своему уму и благочестию, друг преподобного Сергия Радонежского, явился прямо к великому князю и настоятельно доказывал, что предполагаемое поставление митрополита в России было бы противно церковным правилам, так что князь счел нужным уступить, к крайнему огорчению своего любимца. Митяй увидел в Дионисии нового своего врага, и взаимная неприязнь между ними не замедлила обнаружиться. Митяй послал спросить Дионисия: «Отчего ты, по приезде в Москву, не явился ко мне с поклоном и за благословением? Разве ты не знаешь, кто я, и что я имею власть и над тобою и над всею митрополиею?» Дионисий явился к нему и сказал: «Ты не имеешь надо мною никакой власти, и тебе следовало прийти ко мне с поклоном и за благословением, ибо я епископ, а ты поп». Раздраженный Митяй воскликнул: «Ты назвал меня попом, а я не оставлю тебя даже попом, когда возвращусь из Константинополя». Дионисий сам собирался ехать туда, вызываемый патриархом, который наслышался о его достоинствах и высокой жизни. Но великий князь велел задержать его в Москве по просьбе своего любимца. Насилие не привело к доброму концу. Чтобы освободиться из-под строгого надзора, Дионисий дал слово князю не ездить без его позволения в Царьград и поручителем за себя представил преподобного Сергия Радонежского; а между тем, едва получил свободу, менее нежели чрез неделю, отправился в Грецию. В крайнем негодовании и на Дионисия, и на преподобного Сергия Митяй, управлявший Русскою Церковию уже около 18 месяцев, увидел необходимость спешить туда же. Он отправился (в июле 1379 г.) с огромною свитою, в которой находились три архимандрита, несколько игуменов, митрополичий печатник, протоиерей московского Успенского собора, протодиакон и весь клир владимирской соборной церкви, два переводчика, митрополичьи бояре, слуги и другие люди, так что свита представляла собою целый полк, заведование которым поручено было большому боярину, великокняжескому послу. Пред отъездом Митяй выпросил у великого князя несколько неписаных грамот, скрепленных княжескою печатью, чтобы воспользоваться ими в Константинополе, судя по нужде. Сам великий князь с своими детьми и боярами и все русские епископы провожали Митяя до Оки. За рязанскими пределами он был остановлен татарами, но скоро отпущен с честию, получив новый ярлык от хана Тюлюбека, подтвердивший прежние льготы Русской Церкви. В Кафе сел на корабль и уже приближался к Константинополю, как внезапная смерть положила предел честолюбивым замыслам; тело Митяя похоронили в Галате.
Спутники Митяевы позволили себе самовольный поступок: они сами вздумали избрать для России митрополита из числа трех находившихся в свите архимандритов. Мнения оказались несогласными: одни желали Иоанна, настоятеля Петровского монастыря в Москве, другие – Пимена Переяславского. Бояре приняли сторону последнего и немедленно написали о поставлении его послание к греческому императору и патриарху на одной из неписаных грамот, скрепленных княжескою печатью, а Иоанна, грозившего открыть их обман, заключили в оковы. Быть не может, чтобы в Константинополе не знали истины: там находились уже и Дионисий, епископ Суздальский, враг Митяев, и Киприан, митрополит Киевский, незадолго прибывший, которые не могли не возвестить, кто правил Русскою Церковию более года и кого великий князь собирался послать в Грецию для принятия митрополитского сана. Император, однако ж, Иоанн VI Палеолог и патриарх (Нил), когда прочитано было на Соборе послание, не показали никакого сомнения и сказали только: «Зачем русский князь пишет о Пимене, когда есть на Руси готовый митрополит Киприан? Его мы и отпускаем на Русскую митрополию, а ставить другого митрополита не считаем нужным». Пимен и бояре, пользуясь остальными неписаными хартиями Димитрия Иоанновича, заняли на имя его огромные суммы у купцов восточных и итальянских до 20 тысяч рублей серебром и «разсулиша посулы многие, и раздаваша сюду и сюду, а яже поминков и дары, никтоже может рещи или изчислити, и тако едва возмогоша утолити всех». Вследствие того в июне 1380 г. в Константинополе состоялось соборное определение, чтобы Киприана лишить и Киева и всей России, как вступившего в эту Церковь обманом и рукоположенного незаконно, еще при жизни действительного ее митрополита Алексия, и только из снисхождения оставить его, Киприана, митрополитом одной Малой России и Литвы, а собственно в митрополита Киева и Великой России рукоположить Пимена. Нельзя при этом не остановиться на словах соборной грамоты о значении Киева: «Пусть возглашается он (Пимен) и Киевским. Ибо невозможно ему быть первосвятителем Великой России, если он не будет именоваться прежде Киевским, так как в Киеве соборная церковь всей России и главная митрополия». Даже второю митрополиею все еще оставался Владимир. «Он должен, – говорится далее в той же грамоте, – называться Киевским и вслед за тем Владимирским и всея России по примеру прежнего митрополита Алексия». Во Владимире продолжал еще тогда иметь свое пребывание и кафедральный клир митрополичий при соборной церкви. А имя Москвы доселе не упоминалось в титуле наших митрополитов, хотя они жили в ней около полустолетия.