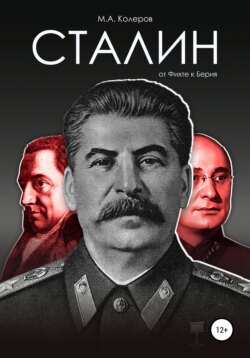Читать книгу Сталин: от Фихте к Берия - Модест Алексеевич Колеров - Страница 8
Большой стиль Сталина "GESAMTKUNSTWERK ALS INDUSTRIEPALAST"
Дворец-казарма
ОглавлениеОдин из первых систематических трудов по истории советского коммунизма как политико-экономического режима и идеологической практики, оставшийся, однако, вне должного внимания мировой историографии, поскольку вышел в свет уже после пика послевоенной антисталинской литературы и одновременно с началом продвижения на Западе «теории тоталитаризма» К. Фридриха и З. Бжезинского (1956), в своей детализированной критике «тоталитаризма» как самозарождённого зла невольно и анонимно затронул и его общие модерные основания, когда апеллировал к авторитету Ф. М. Достоевского. Авторы из круга профессиональных антикоммунистов периода «холодной войны» США против СССР – русского эмигрантского Национально-Трудового Союза (НТС) – писали: «Великий защитник свободы человека, провидец большевистской революции – Достоевский с ненавистью именовал эту утопическую картину [коммунизма] “муравейником”, “хрустальным дворцом”, “многоэтажным домом с квартирами для бедных жильцов”…»89. Критики советского коммунизма явно – к позору своему – упустили, что писатель образом тогдашнего общеевропейского проекта коммунизма избрал «вавилонский» по масштабу и духу именно британский апологетический по отношению к «свободе торговли» и капитализму «Хрустальный дворец». Достоевский вспоминал о своём посещении Лондона и вавилонских коннотациях этого «Хрустального дворца» именно как о торжестве капитализма90:
«буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка… Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, “едино стадо”. Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся»91.
А вот гуру русской «революционной демократии» Н. Г. Чернышевский (1828–1889) одновременно, в 1863 году, в своей картине антикапиталистического будущего изобразил именно символическую «копию» этого Хрустального дворца:
«…ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание (…) что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намёк на нее, – дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло – только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, – а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены – будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же (…) Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. (…) И повсюду южные деревья и цветы; весь дом – громадный зимний сад. Но кто же живёт в этом доме, который великолепнее дворцов? (…) По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. (…) Почти всё делают за них машины…» 92
И именно на этот коммунистический проект, равно эксплуатирующий и присваивающий образы коммунистического фаланстера и капиталистического «Хрустального дворца», затем отреагировал Достоевский, когда в следующем, в 1864 году писал:
Тогда-то, – это всё вы говорите, – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец… (…) Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? (…) Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить» 93
Так Достоевский придал – специально для России – коммунистическому мифу образ высшего достижения современного индустриализма, осудив таким образом коммунизм как естественный плод капитализма – вместе с его истоком. Антикоммунисты из НТС, видимо, не входили так глубоко в детали истории образа, а опирались не на источник, а на хрестоматийно известный труд неонародника Р. А. Иванова-Разумника (1878–1946), в котором тот, выступая в защиту своего индивидуалистического учителя Н. К. Михайловского от коллективистского марксизма писал, что для первого важнее личность сейчас, а для второго – класс и человечество завтра:
«Конечная цель марксизма – это грядущий рай на земле, этот тот Zukunftstaat, который Достоевский называл “Хрустальным дворцом”…» 94
В романе-утопии врача-исследователя, философа, большевикапрактика и основателя системы пролетарского классового искусства «Пролеткульт» А. А. Богданова (1873–1928) «Красная звезда» (1907) дано описание гигантского коммунистического города-завода, которое близко следует образу лондонского «Хрустального дворца» и его отражению в романе Чернышевского «Что делать?» – это многофункциональное, многоуровневое (многоэтажное) строение из стекла и металла95. А в столь же фантастическом рассказе «Праздник бессмертия» (1914) Богданов вскрывает «вавилонский» масштаб подобной постройки: «На месте городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения». А один из руководящих героев этого рассказа продолжал множить эти циклопические образцы и был «занят сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус»96. Именно в «городов вавилонские башни» помещает себя герой поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» (1915).
Современный российский теоретик географии обнаруживает в организации и централизации любого «культурного ландшафта» доминанты, которые символически рифмуются с образом Вавилонской башни: узловыми районами такого ландшафта – крупные города (агломерации) и горы. Он пишет: «Города создают вокруг себя зоны и предпосылки сгущения жизни. Горы создают у своих подножий особые условия для биоценозов». И вместе они создают то, что географ называет «большим стилем ландшафта»97. Библейский образ Вавилонской башни в массовом сознании, несомненно, был, прежде всего, образом (почти построенной) гигантской Башни как целого изолированного мира, отдельного города98, а не символом Божьего гнева и разноязычия, уничтожившего строительство. Именно такова известная Вавилонская башня у Брейгеля. И в советском массовом сознании она рифмовалась с родственным образом из русского народного сознания, в котором сказочно фигурирует посреди моря Рыба-Кит («чудо-юдо рыба-кит»), по описанию П. П. Ершова (в «Коньке-Горбунке», 1834), на спине кото- рого выросло целое село, окружённое пахотными землями99.
Осваивая, похоже, информацию о строительстве ДнепроГЭСа в ряду первых гигантских сталинских строек в 1927–1932 годах, советское массовое сознание описало её в категориях Вавилона. Пропагандист автоматически записал как нелепый слух, распространявшийся в рабочей казарме текстильной фабрики недалеко от Мурома: «Большевики строят огромную башню на Днепре, которая провалилась»100.
Схему, сходную с концепцией Х. Зедльмайра в применении к практике революционного искусства, задолго до этого историка искусства, отталкиваясь от опыта архитектуры, изложил классик авангарда Казимир Малевич (1879–1935). «Тотально» обращаясь прямо к материальной основе бытия и к смерти как изменению его формы, Малевич систематизирует формы бытия и человеческого общества в уже знакомых категориях: «Бытие направляет моё сознание. Куда? В одном случае понимания бытия к храму, в другом – к фабрике, в третьем – к художеству, т. е. в ту сторону, которой нет в самом бытии. В бытии нет ни храма, ни академии, ни фабрики»101. Следовательно, именно творческая воля, «художество», творение целого и создаёт формы бытия. Такое творение целого, как сказано, и есть Gesamtkunstwerk. И это целое – не только некоторая историческая модельная абстракция, в разной степени внятности подчиняющая (но имеющая своей целью одинаково подчинить) все формы творчества Большому стилю102. Это – единое здание технологий, производства, науки и знаний, которое даже в применении естественных наук мыслит себя как Gesamtkunstwerk. Ревниво утверждая образ своего тотального искусства, Малевич не случайно избрал объектом своих критических атак здание Казанского вокзала в Москве, построенного по проекту архитектора А. В. Щусева (1917–1919). Малевич упорно стремился доказать, что Щусев не понял, не почувствовал и не реализовал синтетическую природу вокзала как постройки, фокусирующей в себе главные интуиции и задачи Большого стиля и его городской утопии. Он писал: «Задавал ли себе строитель вопрос, что такое вокзал? Очевидно, нет. Подумал ли он, что вокзал есть дверь, тоннель, нервный пульс трепета, дыхание города, живая вена, трепещущее сердце? Туда, как метеоры, вбегают железные 12-колёсные экспрессы; задыхаясь, одни вбегают в гортань железнодорожного горла, другие выбегают из пасти города, унося с собою множества людей, которые, как вибрионы, мечутся в организме вокзала и вагонов. (…) Вокзал – кипучий вулкан жизни, там нет места покою»103. И вновь:
«Вот вам наглядный образец у нас в Москве. Постройка Казанского вокзала, где, как ни здесь, можно создать памятник нашего века? Но разве понятна была задача, разве архитектор уяснил себе вокзал? Вокзал – дверь, тоннель, первый пульс, дыхание города, отверстие живой вены, трепещущее сердце. (…) Комок, узел, связанный временем жизни. (…) Мир мяса и кости ушёл в предание старого ареопага. Ему на смену пришёл мир бетона, железа. Железо-машинно-бетонные мышцы уже двигают наш обновляющийся мир. Мы – молодость ХХ века – среди бетона, железа, машин в паутине электрических проводов, будем печатью новой в проходящем времени»104.
Литературный образ вокзала как символа прогресса, в архитектурной и инженерной традиции более всего связанного с внешним обликом лондонского «Хрустального дворца», для русских радикалов дополнительно восходил к культу В. Г. Белинского. Толкуя рассказ Достоевского о Белинском105, Н. В. Устрялов (1890–1937) писал: «Наши отцы и деды, воспитанные на бессмертных принципах <17>89 года и горевшие пафосом служения общественного, трогательно верили в незыблемость начал исторического преуспеяния. (…) Нельзя забыть благородный образ Белинского: больной, умирающий, он приходил ежедневно взглянуть на первый строившийся тогда в России вокзал. Этот вокзал был для него великим символом, своего рода моральной иконой, – верным документом торжествующего прогресса»106.
89
[Р. Н. Редлих, С. А. Левицкий, Н. И. Осипов]. Большевистские мифы и фикции // Очерки большевизмоведения / Институт изучения СССР при Национально-Трудовом Союзе / [Под ред. Р. Н. Редлиха]. [Frankfurt/Main] 1956. С. 31.
90
В советской детской литературе образ Вавилона как символа капитализма – системы эксплуатации, репрессий и потребительского подкупа масс с целью их дебилизации и буквального превращения в бараньи стада – стоял в центре известнейшей политической сказки Н. Н. Носова (1908–1976) «Незнайка на Луне» (1965) – в виде центрального капиталистического города «Давилона» (в этом имени соединено название Вавилон и коннотации давки (русского фразеологизма «вавилонское столпотворение» как обозначения хаотичной большой толпы, а вовсе не творения столпа) и давления – эксплуататорского «выжимания соков» из трудящихся). Коннотации давки и сплетения звучат в народном понимании слова «вавилоны» как «переплетения узоров волнистыми линиями» и как «ям, вырытых по берегу (реки) для хранения пойманной рыбы» (Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 72).-
91
Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863).
92
Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863). Глава XVI. Четвёртый сон Веры Павловны. [Главка] 8
93
Ф. М. Достоевский. Записки из подполья (1864). Главы VII, IX, X.
94
Иванов-Разумник. История русской общественной мысли [1906–1918]. В 3-х т. Т. 3. М., 1997. С. 98.
95
А. А. Богданов. Красная звезда. Часть II. Глава II. На заводе.
96
А. Богданов. Праздник бессмертия. Избранные произведения. СПб., 2014. С. 353, 357.
97
Владимир Каганский. Города как горы – горы как города [1996] // В. Л. Каганский. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. Сб. ст. М., 2001. С. 97, 100–101, 115. См. также: О. А. Ливинская. Понятие культурного ландшафта в отечественной географии // Псковский регионологический журнал. Вып. 14. Псков, 2012.
98
Впрочем, в своём тексте, посвящённом языковой множественности и переводу, Ж. Деррида, напротив, исходит не из разноязычия, а из архетипа, отмеченного Вольтером в его статье о Вавилоне в «Философском словаре»: «Я не знаю, почему в книге Бытия сказано, что Вавилон (Babel) означает смешение, поскольку на восточных языках “Ва” (Ba-) означает отец, а “Вил” (Bel) означает Бог, Вавилон означает град Божий, град святой» (Жак Деррида. Вокруг Вавилонских башен [1985] / Пер. В. Лапицкого. СПб., 2002).
99
При желании в этом можно увидеть модель-пародию на «Изолированное государство» И. Г. Тюнена (1826), окружённое пахотными землями.
100
В. Ермилов. Быт рабочей казармы. М.; Л., 1930. С. 19.
101
Казимир Малевич. Архитектура как степень наибольшего освобождения человека от веса [1924] // Казимир Малевич. Чёрный квадрат [Статьи об искусстве и манифесты]. СПб., [2014]. С. 167.
102
Исследователь цитирует черновую формулу К. Малевича, близкую к пониманию Gesamtkunstwerk: «архитектура будущего примет формы супрематические, необходимо будет выработывать и весь ансамбль формы, тесно связанный с архитектурой» и далее – «синтез архитектурного здания наступит тогда, когда формы вещей, в нём находящихся, будут связаны единством их формы и цвета» (Ю. А. Грибер. Градостроительная живопись и Казимир Малевич. М., 2014. С. 28).
103
К. Малевич. Архитектура как пощёчина бетоно-железу [1918] // Красный Малевич. Статьи из газеты «Анархия» / Сост. Т. Батыров. М., 2016. С. 39.
104
К. Малевич. Мир мяса и кости ушёл [1918] // Там же. С. 147–148.
105
Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» 1873 года о Белинском начала 1847-го: «Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой. – Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда ещё строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога».
106
Н. В. Устрялов. Проблема прогресса [1931]. М., 1998. С. 3–4.