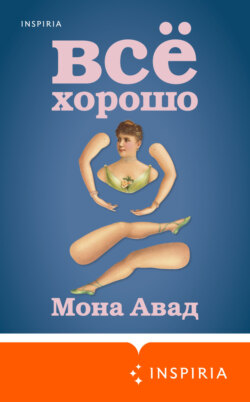Читать книгу Все хорошо - Мона Авад - Страница 5
Часть первая
Глава 3
ОглавлениеМы с Грейс сидим в «Проныре». Это шотландский паб неподалеку от колледжа. Мы частенько заглядываем сюда после занятий и репетиций, когда нужно обсудить постановку или нет моральных сил идти домой. Грейс с жадностью поглощает бургер с картошкой фри. Так спокойно, будто никакого бунта и не было. Будто сегодня самый обычный вечер и репетиция прошла, как всегда. Будто все хорошо. Я смотрю, как она вливает в себя из кружки густое темное пиво, увенчанное пенной шапкой цвета сливок. Меня бы после такого количества точно вынесли отсюда ногами вперед. Рядом с кружкой стоит почти допитый стакан скотча. Грейс здоровая, как лошадь. Совершенно неубиваемая. Я же чахну над бокалом белого вина с содовой и тарелкой салата. Все тело пульсирует и ноет. Ногу от бедра до колена прошивают спазмы. Позвоночник стискивают кулаки. То тут, то там снова вспыхивает пламя. А унижение и гнев только подкидывают дровишек в этот костер.
– Ты в порядке? – спрашивает Грейс.
В порядке? Она в своем уме? Можно подумать, ее там не было. Можно подумать, она не видела все собственными глазами. Хочется рявкнуть, сорвать на ней злость. Но отвечаю я:
– Все нормально.
Грейс наблюдает, как я горблюсь над тарелкой.
– Ты даже не притронулась к своему… Что это, кстати?
– Салат.
Грейс морщит нос. И снова набрасывается на свой бургер, в который, похоже, запихнули и сыр, и бекон. И, кажется, даже яичницу. Не понимаю, как это она до сих пор жива. Но нет, эта еда ее не убьет. Где-то через час, сидя в своей гостиной и пялясь в «Нетфликс», она сыто рыгнет. Потом легонько, словно послушную собачку, похлопает свой безотказный живот. А затем отправится в свою на удивление девчачью спальню – каждая поверхность в ней уставлена изящными нарядными шкатулочками, в которые не поместится больше одного кольца, а каждая стена задрапирована бледно-розовым, – рухнет на заваленную подушками кровать и уснет, как ангел. И сердце не будет истошно колотить ей в уши. И картины собственной неминуемой кончины не заставят ее лежать без сна. Она уснет глубоко, а утром, в назначенный час, проснется и выйдет на пробежку. Отдохнувшая. Готовая жить дальше.
Когда я попросила принести мне салат и шорле, Грейс скривилась, а потом, будто в качестве извинения за мою немощь, заказала себе обильный ужин.
«Просто мне из-за таблеток не стоит много пить», – объяснила я.
«Конечно, понятно», – кивнула Грейс.
Но это правда, мне в самом деле нельзя пить. Эти препараты даже друг с другом сочетать нельзя, не говоря уж о том, чтобы заливать их алкоголем. Мне их назначили два разных врача, у которых, в отличие от реабилитологов в форменных поло, есть право выписывать лекарства. Один из них косился на меня подозрительно, другой же оказался на редкость милосердным и все улыбался, благостно, как хитрый божок, которого мне посчастливилось застать в хорошем настроении. «Что ж, мисс Фитч, почему бы нам с вами не попробовать эти пилюли?»
«Да, – вскричала я. – Да! Давайте попробуем!»
«Только учтите, мисс Фитч, что с другими препаратами их сочетать нельзя».
«Нет-нет, что вы, не буду, – заверила я доброго доктора, отчаянно тряся головой. – Мне бы такое и в голову не пришло». Его белый халат сиял, словно одеяние самого господа бога. Даже слезы на глаза навернулись.
Я отпиваю из бокала и смотрю на Грейс, которая, довольно потягивая пиво, таращится в экран телевизора над моей головой. Передают хоккейный матч. Грейс смотрит очень увлеченно, она определенно совершенно выбросила из головы разразившуюся сегодня вечером катастрофу. Что ж, она может себе это позволить.
– Как все ужасно сегодня прошло, – наконец выдаю я.
– Что? – невозмутимо переспрашивает Грейс.
– Репетиция…
– Да ладно, – пожимает плечами она. – Не так уж страшно.
– Не так уж страшно? Но как? Ты разве не видела?
– Видела, – отвечает она, не отрываясь от экрана.
– Тогда сама все знаешь. Они меня ненавидят, – шепчу я.
– Миранда, не глупи, – закатывает глаза Грейс.
– Нет, правда. Они ненавидят и меня, и пьесу.
– Боже, Миранда, ну, конечно же, они ненавидят эту пьесу. «Все хорошо, что хорошо кончается»? Да брось, серьезно?
– Это великая вещь, – бормочу я.
– Насчет величия судить не берусь. Нет, в смысле, она нормальная. Но куда ей тягаться с психами, ведьмами и убийцами?
– Ведьма там есть, – возражаю я.
– И кто же?
– Елена. Она ведь исцелила Короля.
Грейс мотает головой, словно говоря: «Отвяжись ты от меня со своей сраной Еленой». Каждый раз, когда при упоминании Елены, сраной Елены, Грейс принимается качать головой, мне кажется, что это она таким пассивно-агрессивным способом пытается донести свое отношение ко мне. «Елена не желает видеть дальше собственного носа. Елена чокнутая. Елена жутко эгоцентрична, зациклена на своих чувствах. Елена только и делает, что ноет. Во всех своих страданиях Елена виновата сама. Она представления не имеет о том, что такое настоящая боль. Давно могла бы взять себя в руки и покончить с этой навязчивой идеей».
– Она влюблена, – убеждаю я. – Это история любви.
Грейс фыркает и залпом допивает пиво.
– Больной любви.
– А мне ее любовь кажется прекрасной, – бормочу я, уставившись в стол.
– Елена живет самообманом.
– Что ж, – говорю я, – у каждого из нас свое видение этой пьесы.
– Ну да, у меня такое, – заявляет она, глядя мне в глаза.
Я разглядываю свой бокал. Она что же, намекает на те случаи, когда я, задержавшись в театре после окончания репетиции или перебрав тут, в пабе, названивала Полу, своему бывшему мужу, и рыдала в трубку?
«Миранда, у тебя все хорошо?» – участливо кричала она мне через дверь.
«Да, отлично, просто говорю по телефону».
Или, может, она догадалась о моей безответной страсти к Хьюго? Застукала, как я, забывшись, таращилась на вздувавшиеся под его футболкой мышцы спины, когда он разрисовывал деревянный задник, превращая кусок фанеры в изысканный интерьер французского дворца? Нежно, как розу, зажав в белоснежных зубах кисть?
«Грейс, тебе не кажется, что он похож на скандинавского бога? На Тора, например?»
«Нет», – бросила бы Грейс.
А Хьюго, почувствовав, что на него смотрят, обернулся бы и увидел в темном углу мою скрюченную фигуру. «Привет, Миранда, – дружелюбно поздоровался бы он. – А я тебя и не заметил».
«Конечно, не заметил, – подумала бы я. – Ты и сейчас меня не замечаешь. И никогда не заметишь». А вслух сказала бы как всегда: «Оу!»
Может, он даже спросил бы: «Что я могу для тебя сделать?»
Увидь во мне ту женщину, какой я была когда-то. Ту, с которой ты мог бы лечь в постель. Но нет, моя страсть – хилый, давно увядший цветок. И, по правде говоря, если бы Хьюго в самом деле обернулся ко мне и сказал: «Миранда, я мечтаю оказаться с тобой наедине», я бы в ужасе поковыляла прочь. В моих фантазиях он просто находится где-то рядом, маячит в смутно эротической дымке. Многозначительно улыбается мне – иногда, в свете свечей. Но в жизни Хьюго всегда смотрит мимо меня, на висящие на стене часы. Я отрываю его от работы. Если же он и бросает на меня взгляд, то жалостливый, вот как сегодня.
– Миранда, ты меня слушаешь? – спрашивает Грейс.
– Да.
– Ты же знаешь, мне, в общем, все равно. Я просто люблю ставить спектакли. Ну а студенты злятся, что ты решила отказаться от «Шотландской пьесы».
Ага, так и вижу, что бы из этого вышло. Бриана в роли Леди Макбет. Вся в бутафорской крови. Дефилирует по сцене, встряхивая своими пышными блестящими волосами. В вырезе белого платья виднеется усыпанная веснушками ложбинка между грудей. Вот она принимается истошно вопить про пятно. Но как ей изобразить муки и страдания, откуда взять подобный опыт? Неоткуда. Вот почему вся ее игра – чистейшая фальшь.
– Слушай, в моей жизни и так достаточно боли, – говорю я Грейс.
– Неужели тебе не хочется посмотреть на Бриану в роли Леди М?
– Не смеши, – фыркаю я.
– Тут ты права, она была бы ужасна. А вот роль Елены ей идеально подходит. Кому же еще играть девчонку, жаждущую, чтобы вселенная по щелчку выполняла все ее желания?
Я закрываю глаза. Так и подмывает сказать Грейс: «Ты ни черта не знаешь про Елену». Чтобы ее понять, нужно иметь тонкую, чуткую душу. Нужно прожить жизнь, полную боли. Нужно пожить в тени других и обрести мудрость. Уж, казалось бы, Грейс, как специалист по Оскару Уайльду, должна понимать такие вещи!
– С Брианой мое решение никак не связано, – лгу я. – Если честно, я считаю, что и на роль Елены она не слишком подходит.
Грейс молча смотрит на меня.
– Честное слово, мне просто хотелось для разнообразия поставить что-то необычное. И я не понимаю, что здесь плохого.
– Абсолютно ничего.
– Мы сойдем с проторенной дорожки, понимаешь? Разве тебе самой не надоело смотреть, как они уродуют «Гамлета»? Или «Ромео и Джульетту»?
– Миранда, они студенты.
– Вот именно.
– Слушай, ты режиссер. У тебя были свои соображения.
Мои соображения. Знаю, Грейс относится к ним с большим подозрением.
Сколько раз она заставала меня в кабинете лежащей на полу перед ноутбуком и просматривающей на «Ютьюбе» ролик с самой собой в роли Елены? Невероятная постановка. Но запись паршивая. Снимал, должно быть, какой-то забредший на спектакль торчок с трясущимися руками. Но как же я благодарна ему за то, что он запечатлел мою игру и зрителей, и весь тот вечер. Мне даже кажется, что я могу разглядеть в толпе Пола. Вот вроде бы его плечо, а вот кусочек обращенного к сцене лица.
Грейс не раз видела, как я, со слезами на глазах, как загипнотизированная, любовалась собой, еще не знающей, какое будущее меня ждет, своим лицом, еще не изборожденным скорбными морщинами, своей легкой, совершенно человеческой походкой.
«Миранда, ты что делаешь?» – спрашивала она, стоя в дверях.
«Ничего, – отвечала я. – Так, изучаю кое-что».
– У тебя были свои соображения, – повторяет она. – Так заставь их тебя слушаться.
Я вспоминаю, как все они смотрели на меня мертвыми глазами. Как потрескивал в воздухе этот их безмолвный вызов.
– А если они не захотят?
– Заставь. Ты же режиссер.
– Я же режиссер, – шепчу я.
Ноги под столом омертвели. Когда я, наконец, поднимусь, мне придется дорого заплатить за то, что я так долго сидела. Марк утверждает, что мне нельзя сидеть на стуле дольше двадцати минут подряд. Но другие врачи, разумеется, с ним не согласны. Джон, например, считал, что и от тридцати минут ничего страшного не случится. Садист Мэтт твердил: «Просто вставайте каждый час, разминайте ноги, и все будет в порядке». Фаталист Люк тянул: «Да какая, собственно, разница?» «Просто прислушивайтесь к себе, пусть боль вас направляет», – слабо улыбаясь и пожимая своими скульптурными плечами, говорил доктор Харпер, хирург, оперировавший мой тазобедренный сустав. К моей операции он отнесся, как к одноразовому сексу, который наутро хочется выбросить из головы. И каждый раз, когда я приходила к нему, жаловалась, что все еще мучаюсь от боли, зачитывала список симптомов из заметок на телефоне, а потом задавала заранее подготовленные вопросы, он, стараясь не смотреть мне в глаза, бормотал что-то про «адвил» и мать-природу. А ведь был еще доктор Ренье, тот вообще считал, что мне ничего не нужно делать. Помню, как серебристым шлемом поблескивали под флуоресцентными лампами его волосы, когда он глядел на меня с этакой непрошибаемой самодовольной уверенностью. О да, он уверен был, что моя боль не имеет никакого отношения к травме бедра, за которой последовала неудачная операция, к тяжелому восстановительному периоду, повлекшему за собой травму позвоночника, в результате которой у меня защемило несколько нервов. Нет-нет. Моя боль – это смерть матери, развод и рухнувшие надежды на театральную карьеру.
«Мисс Фитч, я готов прооперировать любого жителя Новой Англии, но только не вас, – с улыбкой качал головой он. – Вас я резать не стану. С чего бы? – продолжал он, ласково глядя на меня. – У вас нечего вырезать».
И я казалась себе распутницей, что сидит перед ним, бесстыдно раздвинув ноги, а он ласково, но твердо отказывается ее трахать.
«Не стоит настаивать, мисс Фитч, это даже как-то недостойно, неловко для нас обоих».
«Но я не могу ходить, – в отчаянии повторяла я. – И сидеть, и стоять».
«Мисс Фитч, – наклонялся ко мне он. – Если вы не можете ходить, поведайте, как же вы сюда попали?»
«Не знаю».
– Что? – переспрашивает Грейс. – Миранда, ты слышала, что я сказала?
– Ты сказала, что я режиссер, – шепчу я.
– Верно.
– Это не важно. Они не будут играть по правилам.
Я разглядываю этот факт словно со стороны, как будто издали любуюсь горящим костром.
– Времени еще полно. – Она кивает на метущую за окном метель, а потом подзывает официанта.
– Ты же знаешь, это всегда происходит слишком быстро. Не успеешь оглянуться, а она уже здесь.
– Кто? – спрашивает она, роясь в сумочке.
– Весна.
Меня пробирает дрожь. С тех пор, как меня назначили режиссером, я ненавижу весну. Умираю от ужаса при виде таящего снега. Содрогаюсь, увидев набухшие почки на ветвях. Запах совокупляющихся деревьев, щебет птиц, аромат влажной травы… Бриана, наверное, все это обожает. Ждет с нетерпением. Даже какие-нибудь ритуалы устраивает, чтобы весна поскорее наступила.
Я поднимаю глаза на Грейс. Лицо ее теперь словно подернулось дымкой.
– Миранда, ты уверена, что с тобой все хорошо? Ты какая-то…
– Какая?
– Не знаю. Словно ты не здесь…
– Просто… – я растираю ногу, – просто тяжелый период. Как-то все навалилось.
И пытаюсь натянуто улыбнуться, как будто преодолевая что-то. Острую боль, например. Это правда, мне в самом деле очень больно, но гримаса все равно выходит фальшивая. Я откровенно плохо играю. Как дрянная актрисуля из рекламы обезболивающего. Умоляю зрителя мне поверить.
И Грейс это видит. Опускает глаза. И берет из тарелки ломтик картофеля.
– Миранда, слушай, ты всегда можешь попросить о помощи. Ты ведь помнишь об этом, правда? Я же буквально на соседней улице живу. Могу в прачечную для тебя сходить. Продукты принести. Окна позакрывать, если нужно.
«А сама-то даже о помощи не просит».
«Да она постоянно просит о помощи».
– Знаю. Спасибо.
Раньше мы с Грейс тесно общались. Дружили? Пожалуй, да. Еще не так давно я чуть ли не каждый вечер по дороге домой заглядывала к ней выпить. Ложилась на пол в ее гостиной, а она сворачивалась клубочком на цветастом диване и выпускала на себя свою бородатую ящерицу. Мы ругали факультет английского языка. Жаловались друг другу, что наш курс театроведения висит на волоске. Она просила рассказать о времени, когда я была актрисой. Или я сама заводила об этом разговор. Выпив сильнее обычного, Грейс всегда требовала историй о том лете, когда я работала в Диснейленде Белоснежкой. Почему-то эта моя роль интриговала ее куда больше, чем участие в тех или иных шекспировских постановках. Иногда мы намазывали на лица самодельную маску из розовых лепестков и смотрели один из ее излюбленных детективных сериалов. Она так и писала мне в сообщениях: «Как сегодня насчет роз и угроз?» А я всегда присылала в ответ смайлик, несмотря на то, что детективы она смотрела сплошь банальные, а от ее маски у меня начиналась крапивница. Мне просто хотелось побыть с Грейс. У нее в холодильнике всегда была припасена для меня бутылка белого вина. А я регулярно покупала пиво на случай, если она ко мне заглянет. И она мне сочувствовала – пускай и в этой своей жесткой, рассудочной манере.
Говорила, например: «Это тяжело».
А я отвечала: «Да» и всегда добавляла: «Но…», искренне желая закончить предложение чем-то позитивным, чтобы разрядить обстановку. Но в итоге просто замолкала. Грейс тоже ничего не говорила.
А паузу заполняла тем, что подливала мне в бокал еще вина.
Но в прошлом году, как раз накануне премьеры «Ромео и Джульетты», она вдруг заявила, что моя боль живет только у меня в голове. Заявила, не глядя на меня. Вцепившись руками в руль своего внедорожника. Не сводя глаз с исчерченного полосами лобового стекла, за которым серела новоанглийская весна. Я только что перенесла очередной бесполезный курс эпидуральных инъекций стероидов. И она везла меня домой из больницы.
«Давай я тебя заберу», – предложила она.
«Не хочу тебя напрягать», – ответила я. Я всегда так отвечала.
«Ничего страшного», – отмахнулась она. Нам обеим было известно, что больше меня забрать некому. И добавила: «Я с радостью». Но радостной при этом вовсе не выглядела.
«Ну, тебе получше?» – спросила она, когда я, прихрамывая, вышла из отделения амбулаторной хирургии.
«Через пару дней станет ясно», – отозвалась я.
Молчание. Машина тронулась.
«Хотя, скорее всего, уколы не помогут, – добавила я. – Еще ни разу не помогли».
И рассмеялась. По большей части, ради Грейс, но смешок вышел жалобный и неестественный. А потом к глазам подступили слезы. Покатились по щекам, такие горячие и нелепые. И Грейс внезапно свернула на обочину. «Слушай, Миранда, – сказала она, не глядя на меня. – Я ради твоего же блага это говорю. Тебе никогда не приходило в голову, что все это может быть…»
Пока она распиналась, мы обе смотрели вперед, на засыпанную гравием обочину.
Собственно, с того дня. С того дня мы и отдалились. Конечно, мы до сих пор вежливо общаемся, мы же профессионалы. И по привычке заходим вместе выпить после репетиции, но все изменилось. Теперь она смотрит на меня как бы со стороны. А мне хочется сказать ей: «Ты не обязана это делать. Притворяться, будто тебе интересно. Будто тебе не наплевать».
Но говорю я:
– Спасибо, я очень это ценю. И ты права, в итоге все уладится.
– Что уладится?
– Ну, проблемы с постановкой.
– Конечно, уладятся. Миранда, это ведь, в конце концов, всего лишь пьеса.
– Конечно. Ты права. Всего лишь пьеса, – лгу я.
– Ну ладно, – заключает она, – мне, пожалуй, пора. Ты идешь?
Я воображаю, как ковыляю к своему жалкому подобию машины. К черному «Жуку», который Пол когда-то подарил мне на тридцатилетие. До сих пор помню, как он улыбался мне сквозь лобовое стекло, подгоняя машину к дому. Даже воткнул маленький букетик ромашек в пластиковую вазочку. В те времена я еще могла более или менее грациозно влезть в маленькую низкую машинку. И мысль о том, что после предстоит из нее вылезать, не заставляла меня содрогаться от ужаса. Теперь же я заранее представляю, как мучительно будет забираться в «Жук». Корчиться в машине по дороге к дому. Вылезать из нее. Карабкаться на крыльцо, подволакивая омертвелую ногу. На обледенелых ступенях наверняка уже сидит обдолбанная комендантша нашего дома и прихлебывает текилу прямо из бутылки. И мне придется из последних сил стоять перед ней и слушать ее разглагольствования о погоде. Надо же, сколько снега навалило, она никак такого не ожидала! Стиснув зубы, отвечать ей. Изображать голосом веселье, натягивать на лицо улыбку. О, поверьте, когда-то я была очень хорошей актрисой.
– Нет-нет, ты иди, а я, наверное, еще посижу. Выпью немного. Послушаю волынку.
Грейс смотрит на мой пустой бокал. Потом на меня. Третий стакан? Волынка? Я что, издеваюсь? И где это я услышала волынку?
– Ну, музыку… – не отступаю я.
Но в баре тихо. Слышно только, как гудят у стойки пьяные посетители. Хоккейный матч тоже транслируется без звука.
– Скоро начнется караоке, – заверяю я.
Мне отчего-то не терпится, чтобы она ушла. Мне больно от ее голоса, от ее вида, от вопросов, которые она задает, удивляясь моему необычному поведению. Болит все тело, но больше всего – голова. Я пытаюсь выгнать ее силой мысли. Интересно, получится? Нет, она по-прежнему сидит напротив. И смотрит на меня с тревогой.
– Миранда, с тобой правда все в порядке?
– Все нормально.
Мой голос – это пара рук, выпихивающих ее за дверь.
– Ну ладно. Слушай, может, пересечемся на выходных? Кофе попьем или еще что-нибудь?
– Может быть. Да, конечно. Увидимся. – Я растягиваю губы в улыбке.
* * *
«Я больше никогда не улыбнусь»[2], – поет музыкальный автомат. Как в тему. Взор мой туманится. Хочется спать. Может, все дело в таблетках и алкоголе? Их же нельзя смешивать. А я смешивала. «Поздно, Миранда! Наслаждайся теперь тем, как медленно кружатся темно-красные стены». Я вдруг замечаю, что зал как будто окрасился в красный цвет. Как такое возможно? А со стен на меня таращатся блестящими черными глазами звериные головы. Олени. Черные козы. Как странно, почему я их раньше не замечала?
– Как думаешь, они бутафорские? Или всех этих животных кто-то подстрелил? – спрашиваю я Грейс, а потом вспоминаю, что она ушла.
Я вытолкнула ее руками своего голоса. И осталась одна. За высоким двухместным столом возле барной стойки. Мои руки обнимают пустой бокал, словно прикрывают от ветра готовый вот-вот погаснуть огонек.
Свет в зале постепенно меркнет. Правда же, меркнет? Может, они уже закрываются? Я оглядываюсь по сторонам. До сих пор я и не замечала, какой этот бар огромный. Все тянется и тянется. И, похоже, я здесь совсем одна. Только у барной стойки сидит пара человек. А больше – никого. Как же это случилось? Куда все подевались? Алло? Песня стихает, постепенно сменяясь другой мелодией. Играет скрипка. Я уже слышала эту вещь раньше. Так ведь? Точно. Пол ее мне играл. Не на скрипке, на пианино. Он каждый вечер садился за пианино после работы. И по выходным играл по несколько часов в день. Это был его способ расслабиться, испытать блаженство. «Для меня пианино, как для тебя – театр». Не помню, как называется эта мелодия, но ее я любила больше всего. Она похожа на теплый дождь, на лунный свет, мерцающий на воде. Стоило Полу ее заиграть, как я, где бы ни находилась, сразу застывала и прислушивалась. Бывало, останавливалась в дверях гостиной и смотрела в его склоненную над клавишами спину и золотистый затылок. Можно бы сейчас ему позвонить… Нет, нельзя. Не нужно докучать ему приправленными таблетками и спрыснутыми алкоголем звонками. Не стоит рыдать в потрескивающую тишину в трубке. Шипеть: «Я скучаю по тебе. А ты по мне?» Он, наверное, сейчас ужинает со своей новой подружкой в нашем старом доме, в доме, из которого я, прихрамывая, бежала прочь, словно он был охвачен пожаром. «Это ведь ты уковыляла прочь, помнишь?»
Так, нужно выпить. Но все официанты куда-то испарились. Как такое возможно? Эй, народ, вы открыты или нет? Алло? Свет еще горит, хотя и тускнеет с каждой минутой. Автомат теперь играет «Звездную пыль»[3]. Чарующий голос Нэта Кинга Коула звучит слишком громко. Может, это какой-то фокус? Почему свет постепенно меркнет? Как так вышло, что в зале стало темно, только бар по-прежнему ярко освещен? За стойкой остался всего один бармен, бледный такой, в пиратской рубашке. Тут, в городе, таких типов полным-полно. Наверняка в свободную минуту гадает туристам на картах Таро. Хотя сразу видно, он не из тех, кто всем подряд предсказывает счастливое будущее. Нет, такие чаще всего предрекают что-нибудь невероятное и жуткое. И вот, что удивительно, чаевых за такие пророчества им дают даже больше, я сама видела.
«Вижу, тебя мучает боль», – с напускным пафосом сообщают такие типы легковерным дурачкам.
А те отчаянно выкрикивают за занавесом: «Верно! Верно!»
Иногда и я оказываюсь на их месте. Сижу за занавесом и позволяю себя одурачить. Шепчу, заливаясь слезами: «Это правда. Все правда. Как вы узнали?»
Бармен протирает бокал, который, несмотря на его усилия, вовсе не становится чище. И я понимаю, что предназначен он для меня.
Встав из-за стола, я хромаю к барной стойке.
Заметив, что я приближаюсь, бармен берет бутылку скотча и льет его в этот самый пятнистый бокал, на краешке которого виднеется след чьей-то губной помады.
Надо бы сказать ему, что стакан грязный, но я просто вытираю помаду большим пальцем.
И делаю большой глоток. Давненько я так не поступала. В последнее время всегда цежу напитки медленно, по капельке. Осторожничаю. Но не сегодня. К чертям осторожность! На хрен опасливые шажки! Не желаю помнить, какие из препаратов нельзя смешивать! Не стану высчитывать, как долго я сижу или стою. Нужно просто выкинуть все это из головы. И отпустить себя. Разве не этому учили меня аудиоуроки медитации? Одно время я очень усердно по ним занималась. Даже свечку зажигала, представляете? Для атмосферы. Для создания правильного настроя. И солевую лампу включала. Из ближайшего диффузора мне в лицо брызгало лавандовое масло. А я трупом лежала на полу, раскинув руки в стороны. Смешно сейчас вспоминать, как я верила во все эти ритуалы. Как искренне полагала, что однажды они меня исцелят.
Ладно, разрешу себе еще немного пройтись по тропе воспоминаний. Она чем-то напоминает дорожку, которую показывали в рекламе обезболивающего. По обеим сторонам пестреют странные цветы. Справа темнеет покосившийся деревянный забор, а слева колышется на ветерке море травы. Я смотрю вперед, но вижу по-прежнему нечетко, взор туманится, словно я во сне. Ведь были же времена, когда ходить было так легко. Просто ставишь одну ногу перед другой – вот и все. Шаг за шагом – навстречу счастью. В те дни я носила исключительно шикарные французские платья. И легкие кофточки с бантиками вместо пуговиц. Как чертовски хороша я была тогда, вы бы глазам своим не поверили. И, может, даже захотели бы свернуть мне шею. А что, если в этом все дело? Что, если это вы шепотом прокляли меня, когда я танцующей походкой проходила мимо? А я вас даже не заметила. В голове у меня было благословенно пусто. В своих кожаных туфельках с каблуками в виде сердечек я легко взбиралась на любую вершину. Да, мои сердечки твердо стояли на земле. А бархатная сумочка, набитая косметикой, распечатками пьес и журналами, похлопывала меня по бедру. Могла ведь и синяк оставить. Но мне было все равно. В те времена я была непобедима. Носила шелковые чулки, можете себе представить? Даже когда собиралась карабкаться в горы! И колготки в сеточку, которые в любой момент могли поехать, расползтись до самых щиколоток. Но мне и на это было плевать. Даже когда каблуки утопали в грязи, а кожа с них обдиралась, я не останавливалась. Вот что я сейчас делаю. Иду в своих старых туфельках по дорожке, которая постепенно превращается в горную тропу в окрестностях Эдинбурга, куда я приехала на фестиваль Фриндж, играть Елену. Мне двадцать четыре, и ноги у меня сильные и послушные. Там, наверху, смотровая площадка, с которой можно увидеть весь город. Чувствую спиной взгляд спешащего за мной Пола. На лицо ему падают золотисто-рыжие пряди. Он весь раскраснелся и тяжело отдувается. Боится от меня отстать. Мы познакомились только две недели назад, когда он увидел меня на сцене. Пол родом из Новой Англии, из Мэна, в Шотландию он приехал, чтобы отправиться в поход по горам, а в Эдинбург заскочил всего на пару дней. Но в горы в итоге так и не попал. Каждый вечер приходил посмотреть на мою Елену, а после караулил меня у театрального крыльца. Звучит немного жутковато, но так оно и было. Наверное, я не приняла его за чокнутого фаната только потому, что он был молод и очень хорош собой. И это его агрессивное внимание, эта настойчивость очень меня заводили. Ночевать я должна была вместе с остальными членами труппы в однокомнатной квартире в Лите, но вместо этого каждую ночь проводила в его номере отеля на Принцесс-стрит. И каждый вечер, выходя из театра в еще не успевшие сгуститься сумерки, я видела его. Рослого, улыбающегося, совершенно мной околдованного. Он готов был последовать за мной куда угодно – хоть на дно самого глубокого ущелья, хоть на заоблачную вершину. А я ходила, как обдолбанная, от внимания этого красавчика, этого незнакомца, который почему-то казался мне до странности знакомым. Его тихий голос, его добрые глаза… В общем, с ним я чувствовала себя, как дома. Вот сейчас обернусь – и увижу его. Он будет идти за мной след в след и смотреть мне в спину. Ах, как он смотрел на меня! Снизу вверх и с таким странным выражением на лице. Что же это было? Восхищение? Не совсем. Страх? Трепет.
Да, наверное, трепет.
«Тебя невозможно остановить», – говорил он мне, а я в ответ улыбалась.
Но вот я оборачиваюсь – а за спиной никого. Только чернота.
Облака сгущаются, заволакивая образ произносящего эти слова будущего мужа.
Я бреду по тропе воспоминаний одна, в ортопедических ботинках, в растянутой кофте, в карманах которой гремят пузырьки с таблетками. Кругом все темнее. Солнце уже зашло. Исчезли странные яркие цветы. Ничего больше нет. Куда хватает глаз – только тьма и звезды.
– Вы вернулись, – произносит голос.
Мужской голос. Мягкий. Негромкий. Почти шепот.
Я открываю глаза. Их трое. Трое мужчин возле барной стойки. Один сидит справа от меня, а еще двое – слева. Первый – очень высокий, второй – толстый, а третий ничем особенно не выделяется. Все они одеты в темные костюмы. И держат в руках стаканы с напитками. И как это я раньше их не заметила?
Непримечательный смотрит на меня так, словно я мираж, появления которого он ждал весь вечер. Должно быть, это он ко мне обратился. Серое лицо. Красные глаза завзятого алкоголика. В руке низкий стакан, в котором плещется какая-то золотистая жидкость.
– Простите? – переспрашиваю я.
А он грустно улыбается. Толстяк рядом с ним склонился над стаканом со скотчем и закрыл лицо руками, будто не в силах смотреть на окружающий мир. У него длинные вьющиеся седые – а местами желтоватые – волосы. Лица сквозь короткие пальцы не разобрать, но я замечаю оспины, расширенные сосуды, красные пятна – и все это отчего-то выглядит очень знакомо. Он похож на какого-то политика, которого я видела в новостях. Но нет, не может такого быть. Что бы такому человеку делать в понедельник вечером в захудалом баре?
Справа ерзает третий. Высокий. Стройный. Даже краем глаза я замечаю, какой он красивый. Я не столько вижу его, сколько чувствую рядом его присутствие, и волоски у меня на загривке встают дыбом. Что-то подсказывает, что не стоит смотреть ему прямо в глаза.
Непримечательный по-прежнему улыбается, словно мы с ним вовсе не угодили в какой-то трагический сон.
– Где вы были? – спрашивает он.
– Где я была? – повторяю я.
Он окидывает меня взглядом. Я сижу, склонившись над стаканом и вцепившись руками в стойку так крепко, словно это перила корабля.
– Мне показалось, вы ушли далеко-далеко. В своих мыслях, конечно.
Я поднимаю на него глаза. «Ни хрена ты не знаешь о моих мыслях!» И все же отчего-то медленно киваю и произношу:
– Да, все верно.
Зачем я ему это говорю? Этот незнакомец с глазами пьянчуги таращится на меня так, словно прямо сквозь кожу видит мою душу.
– Не лучшее вышло путешествие, как я понимаю? – спрашивает он.
А я не знаю, что ответить.
И, не успев ничего придумать, выпаливаю:
– Да.
– Очень жаль. – Он корчит печальную гримасу. Вроде как сочувствует.
«Да кто ты такой, черт тебя возьми?» – так и подмывает меня спросить. Но вдруг к глазам подступают слезы. Какая глупость. Мой собеседник мгновенно превращается в улыбающееся, облаченное в костюм размытое пятно.
– Позвольте угадаю. Когда-то это у меня неплохо получалось. – Он смотрит на меня, склонив голову набок.
Так и буровит своими слезящимися глазами. Надо бы просто встать и уйти. Сказать этому мужику, чтобы не лез не в свои дела. Но его взгляд как будто пригвоздил меня к месту. Я отпиваю из бокала. А его красные глаза тем временем вонзаются в меня. Впиваются в мое скрюченное тело. Я крепче вцепляюсь в стакан. Лицо пылает, перед глазами все плывет от слез и принятых таблеток.
– L4–L5, – наконец, произносит он. – Это справа. И L2–L3 слева.
Я снова ударяюсь в слезы.
– Преднизолон, – мягко, словно это слово должно меня успокоить, добавляет он. – Потом инъекции стероидов, верно ведь? А врачей-то сколько! Не сосчитаешь… И у каждого свое мнение по поводу вашей МРТ. И каждый качает своей докторской головой и строит из себя бога. Один говорит: «Давайте ее взрежем». Другой: «Зачем? Ей нечего вырезать». Что дальше? Терапевты со своими пилюлями. Реабилитологи со своими упражнениями. Одни говорят – делайте растяжку. Другие – ни в коем случае, и думать о ней забудьте. Одни твердят – наклоняйтесь вперед. Другие – нет, назад. Одни повторяют – просто побольше отдыхайте, всем нам иногда нужен отдых. А другие – главное двигайтесь, не останавливайтесь, движение – это жизнь. Одни прописывают тепло, другие – холод. Третьи – то и другое. А четвертые – все что угодно, от чего вам становится легче. Но ведь вам ни от чего легче не становится, верно?
Я трясу головой. Ни от чего, абсолютно ни от чего.
– Попадаются и такие, которые советуют позволить боли вас направлять, – улыбается он. – Тот еще наставник, верно ведь?
Я киваю.
– Дальше? Дайте-ка угадаю. Вы испробовали все методы альтернативной медицины. Акупунктура. Биологическая обратная связь. В вашем сердце снова и снова вспыхивала надежда. А помните того японского рефлексотерапевта, который забыл в вас иглу? Вы так и вышли от него с иголкой между глаз и даже не заметили. А массаж? Полагаю, от него вам стало только хуже?
– Он же хотел как лучше, – шепчу я.
– О, они все хотят как лучше, мисс Фитч. И вам нравится, что к ним можно обратиться. Поговорить. Что каждое воскресенье к вам прикасаются чьи-то добрые руки. У вас ведь почти совсем не осталось друзей.
Он что, только что назвал меня мисс Фитч?
– Сэр, мы знакомы?
Он грустно улыбается.
– Вы ужасно подавлены.
– Подавлены, подавлены, – эхом повторяет мужчина, сидящий справа.
А Толстяк подвывает, уткнувшись в ладони.
– Внутри у вас все умерло.
– Умерло, умерло…
– Вы растеряны, вас унесло в бензодиазепиновое море.
– Вы плещетесь в его черных волнах.
– Откуда вы все это знаете? – спрашиваю я. – Вы… У вас тоже проблемы со здоровьем? Мы с вами в одной лодке?
– В одной лодке, – повторяет Толстяк.
А третий мужчина принимается хихикать.
Толстяк уже истерически хохочет, все так же прикрывая лицо руками и мелко трясясь всем своим необъятным телом.
Но Непримечательный по-прежнему смотрит на меня с убийственной серьезностью.
– Я ваш товарищ по несчастью, мисс Фитч. Я такой же, как вы.
Он достает из внутреннего кармана платок. Темно-красный платок. На вид шелковый. Я думала, матерчатыми платками уже никто не пользуется.
– Возьмите, – говорит он и протягивает его мне.
Я качаю головой, но он не отстает. Все машет алым лоскутом у меня перед носом. «Сдавайся, сдавайся». В конце концов, я все же беру у него платок и аккуратно промакиваю им уголки глаз. Шелк на ощупь холодный и почему-то влажный.
– Спасибо, – говорю я. И смотрю на сидящего рядом Толстяка. Тот уже повалился на барную стойку. Уткнулся своим красным пятнистым лицом в сгиб локтя, но стакан из руки так и не выпустил. – С ним все в порядке?
– С ним? О да, все чудесно. Он в расцвете сил.
Третий мужчина усмехается и небрежно облокачивается спиной о барную стойку. Лица его мне по-прежнему не видно.
Непримечательный салютует мне стаканом. В нем плещется что-то золотистое. И очень красивое.
– Золотое снадобье, – говорит он.
И бармен наливает мне в стакан такой же золотистый напиток.
Непримечательный смотрит на меня так пристально, что это просто невыносимо. Скользит по моему лицу мрачным взглядом, а сам весело улыбается, будто я – какой-то забавный сон. Потом салютует мне бокалом и бормочет какую-то ерунду. Мне даже кажется, что он произносит слова задом наперед.
Не сводя друг с друга глаз, мы осушаем бокалы. Толстяк все так же лежит на стойке, а высокий, как я подмечаю, покосившись на него, слегка светится.
«До дна, до дна. До последней капли! Нырни в золотой огонь. Утони в пламени. А теперь отправляйся, насвистывая, гулять по золотому пляжу».
– Лучше? – спрашивает Непримечательный.
– Да, – отвечаю я.
И это правда. Музыкальный автомат теперь играет «Голубые небеса»[4]. И мне кажется, что внутри у меня тоже распахнулось голубое небо. Незамутненная лазурь. Костей я не чувствую. И кровь моя вдруг стала легка, как воздух. Кажется, я сейчас снова расплачусь, но нет, на моих губах играет улыбка.
– Конечно, это только временное улучшение. Ведь так они всегда говорят, да, мисс Фитч?
«Черт возьми, откуда ты знаешь, как меня зовут?» Мне хочется спросить его об этом, но мои губы, растянутые в широкую улыбку, отказываются шевелиться. Глядя на Непримечательного, я медленно качаю головой. Слезы я вытерла, и все равно его образ расплывается. Кожа вокруг глаз очень холодная. Кажется даже, что на ней выступила роса, и она вся светится.
– Я понятия не имею, как говорят.
Он накрывает мою руку своей.
– «Как часто человек свершает сам, что приписать готов он небесам!»[5]
Акт первый, сцена первая. Двести восемнадцатая и двести девятнадцатая строки из монолога Елены. Строки, в которых она впервые открывает зрителям свою душу. Строки, которые Бриана бормочет себе под нос. Строки, которые я шепчу вместе с ней, сидя в темном углу зрительного зала. Глаза мои застят слезы, как и сейчас. Я думаю о своей Елене. Я играла ее такой, какой ее видел автор, девушкой-загадкой. Ох, жаль, что вас там не было! Я говорила негромко, но голос был звучным и глубоким. Меня снедало отчаяние, и в то же время я была решительна и спокойна, как и подобает Елене. И по лицу моему было видно, что я твердо знаю, как мне поступить, как побороть выпавшие на мою долю невзгоды. Знаю, что другого пути нет, нужно взять дело в свои руки. Произнося эти строки, я смотрела зрителям прямо в глаза. Напускала на них колдовские чары, и все они были мной очарованы. Да, я была очаровательна.
Я смотрю на Непримечательного.
Как так вышло, что он помнит наизусть именно эту пьесу? Почему он процитировал мне эти строки? Может, он мне снится? Может, я сейчас лежу в своей постели? И мои веки трепещут в темноте?
Но вместо всего этого я спрашиваю:
– Вы как-то связаны с театром?
И тут Толстяк, который, как мне казалось, давно отрубился, снова начинает хохотать. Молотит кулаком по стойке. Вслед за ним принимается тихо посмеиваться мужчина справа, тот, кого я не могу рассмотреть. Тот, кого вижу только мысленным взором.
А Непримечательный отзывается:
– Как и все мы, разве нет?
2
I’ll Never Smile Again – песня, написанная в 1940 году Рутом Лоу. Исполнялась разными артистами, в том числе Фрэнком Синатрой.
3
Stardust – джазовая песня, написанная в 1927 году Хоуги Кармайклом. Считается одной из наиболее часто записываемых песен XX столетия.
4
«Blue Skies» – популярная песня, написанная в 1926 году Ирвингом Берлиным.
5
У. Шекспир «Все хорошо, что хорошо кончается» (здесь и далее в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник).