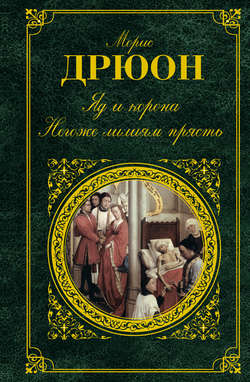Читать книгу Яд и корона. Негоже лилиям прясть (сборник) - Морис Дрюон - Страница 8
Яд и корона
Часть первая
Франция ждет королеву
Глава V
Взвивается королевский стяг
ОглавлениеВо время суда над Ангерраном де Мариньи Карл Валуа обвинил бывшего правителя государства в том, что тот продался фламандцам, заключив с ними мирный договор в ущерб интересам Франции.
А ведь не успели вздернуть Мариньи на цепь Монфоконской виселицы, как граф Фландрский тут же нарушил договор. Сделал он это более чем просто: отказался даже под страхом неизбежного королевского гнева прибыть в Париж и принести вассальную присягу новому королю. Одновременно он перестал платить дань и вновь предъявил свои требования на территории Лилля и Дуэ.
Когда до Людовика X дошла эта весть, он впал в неописуемую ярость. Он был подвержен подобным приступам бешенства, недаром его прозвали Сварливым; в такие минуты все окружающие трепетали, но не столько за себя, сколько за самого Людовика, так как всякий раз он бывал на грани умопомешательства.
И сейчас, узнав о непокорности фламандцев, он впал в такой гнев, какого у него еще не видели. Несколько часов подряд кружил он по своему кабинету, как дикий зверь, попавший в ловушку, со встрепанными волосами, побагровевшей шеей, опрокидывал ударом ноги кресла, скамьи, швырял об пол все, что попадалось под руку, выкрикивал бессмысленные слова. Вопли его сменялись приступами похожего на удушье кашля, сгибавшего короля пополам.
– Обложения! – кричал он. – И тут еще эта непогода! Заплатят они мне и за эту непогоду тоже! Виселиц! Дайте мне виселиц! Кто уговорил меня отказаться от сбора? На колени, на колени, граф Фландрский! И склоните голову под мою стопу! Брюгге? Спалить! Я спалю Брюгге!
С уст Людовика срывались вперемежку имена мятежных городов, сетования на задержку в пути Клеменции Венгерской, страшные угрозы. Но чаще всего на язык ему приходило короткое слово «сбор», ибо как раз за несколько дней до того Людовик X приостановил сбор особого налога, предназначавшегося для покрытия военных издержек минувшего года.
Вот тут-то и пожалели о Мариньи, конечно, не смея высказывать свои мысли вслух; вспомнили, как умел он обходиться в подобных случаях с мятежниками, как, к примеру, ответил он аббату Симону Пизанскому, когда тот сообщил, что фламандцы-де слишком разгорячены: «Сей великий пыл ничуть меня не удивляет, брат Симон, ибо он действие жары. Наши сеньоры тоже пылки и тоже любят войну… И запомните, кстати, что одними словами не развалить королевства Французского, тут потребно иное». Попытались было принять в переговорах с фламандцами тот же тон, но, к несчастью, человека, который умел так говорить, уже не было в живых.
Подстрекаемый своим дядей, ибо в душе Валуа сбывшиеся мечты о власти отнюдь не притушили воинского пыла и жажды бранной славы, Сварливый тоже начал мечтать о подвигах. Он непременно соберет многочисленную армию, какой еще не видала никогда Франция, обрушится, как горный орел, на мятежных фламандцев, раздерет одних на куски, потребует выкуп с других, в течение недели приведет их к повиновению, и там, где Филиппу IV никогда не удавалось полностью добиться успеха, он, Сварливый, покажет, на что способен. Он уже представлял себе, как возвращается с поля брани, впереди несут победные стяги, сундуки с добычей и данью, которой обложат города; и тогда он не только затмит славу покойного отца, но и заставит народ забыть о своем первом браке, ибо, чтобы изгладить память о супружеских злоключениях, требуется не меньше чем война. Затем среди всеобщего ликования и оваций он – монарх, победитель и герой – поскачет галопом навстречу своей нареченной, поведет ее к алтарю, а затем коронуется.
В общем, этого молодого человека не следовало принимать слишком всерьез, можно было просто его пожалеть, поскольку при всех своих благоглупостях он, вероятно, мучился в душе; но, к сожалению, под его властью находилась Франция с ее пятнадцатью миллионами человеческих душ.
Двадцать третьего июня он собрал Совет пэров и столь же злобно, сколь несвязно, объявил о вероломстве графа Фландрского и о своем решении в первых числах августа двинуть «ост», то есть королевскую армию,{5} к Куртре.
Выбор был сделан не особенно удачно. Существуют, по-видимому, злополучные места, как бы созданные для бедствий, и слово «Куртре» для людей тогдашнего времени звучало примерно так, как звучит в наши дни слово «Седан». Разве что Людовик X и его дядя Карл по непомерному своему самомнению выбрали Куртре именно с целью уничтожить память о поражении 1302 года, о битве, пожалуй, единственной, проигранной в царствование Филиппа Красивого, когда тысячи рыцарей в отсутствие короля бросились как безумные в атаку, падали в ров и гибли под ножами фландрских ткачей – настоящая резня, к концу которой некого уже было брать в плен.
Для содержания огромной армии, которая должна была послужить воинской славе Людовика Х, требовались деньги; Валуа прибег все к тем же крайним мерам, которые применял Мариньи, и в народе заговорили о том, что вряд ли стоило посылать на виселицу бывшего правителя государства, если его преемники действуют теми же методами, и притом неумело.
Решено было отпустить на свободу всех сервов, которые могут внести за себя выкуп; наложили на евреев непосильную дань за право жительства и торговли в столице; потребовали новую подать от ломбардцев, которые отныне начали глядеть на новое царствование куда менее благосклонным оком. Две срочные контрибуции в год{6} – этого они уже никак не желали терпеть.
Задумали также обложить налогами духовенство, но священнослужители. ссылаясь на то, что Святой престол, мол, до сих пор вакантен и за отсутствием папы принимать решения они не уполномочены, отказались платить; после долгих переговоров епископы все же согласились помочь в виде исключения, но воспользовались случаем и испросили себе льгот и освобождений от дальнейших поборов, что в итоге обошлось казне куда дороже, чем полученная единовременно помощь.
Войско собрали легко, без осложнений, даже бароны встретили это с восторгом, так как засиделись без дела и радовались, что можно наконец извлечь на свет божий кирасы и попытать счастья на поле брани.
Простой люд не был склонен ликовать.
– Неужели мало того, – говорили в народе, – что половина из нас уже перемерла с голодухи, теперь еще отдавай наших мужчин и наши денежки потому, что король воевать задумал!
Но народ уверили, что во всех бедах повинна Фландрия; солдат разжигала надежда на добычи и привольные деньки грабежей и насилий; для многих война была единственной возможностью покончить с монотонным ежедневным трудом и заботами о хлебе насущном; никто не желал прослыть в чужих глазах трусом, и, ежели бы нашлись такие, что отказались идти на войну, у короля хватило бы стражников или сеньоров поддержать порядок, украсив придорожные вязы трупами повешенных. Согласно ордонансам Филиппа Красивого, по-прежнему остававшимся в силе, всякий здоровый мужчина от восемнадцати до шестидесяти лет считался военнообязанным, разве что он мог внести за себя денежный выкуп или занимался полезным для государства ремеслом.
В ту эпоху мобилизация проходила по территориальному принципу. Рыцари считались как бы принесшими воинскую присягу офицерами, которым вменялось в обязанность набирать себе войско среди своих вассалов, подданных или сервов. Ни один рыцарь или даже конюший не отправлялся на войну в одиночку. Их сопровождали вооруженные слуги, оруженосцы, пешие ратники. Рыцари считались владельцами своих коней, своего вооружения, равно как и оружия своих вассалов. Простой рыцарь, не имевший собственного знамени, приравнивался примерно к лейтенанту; собрав и вооружив своих людей, он присоединялся к рыцарю более высокого ранга, то есть к своему сюзерену. Рыцарь – обладатель знамени – соответствовал примерно капитану; знатные рыцари, имевшие право распускать знамя, – полковнику, а рыцари с двойными знаменами были как бы генералами и командовали крупными соединениями, собранными, по тогдашней юрисдикции, в их графстве или на их баронских землях.
Случалось, что во время битвы всадники, оставив в тылу пеших ратников, соединялись для совместной атаки, что, как известно, приносило иной раз прекрасные результаты.
Под знаменами королевского брата графа Филиппа Пуатье собралось войско, равное по численности целому армейскому корпусу, поскольку в него входили одновременно войска Пуату и войска графства Бургундского, пфальцграфом которого Филипп был по жене; сверх того, под его началом находилось десять рыцарей, имеющих право распускать знамя, и среди них граф д'Эвре, дядя короля, граф Жан де Бомон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвилль, сын великого Жуанвилля, и даже Гоше де Шатийон, который хоть и был коннетаблем Франции – иными словами, главнокомандующим всеми армиями, – однако ленные его войска были приданы вышеназванному крупному соединению.
Не без умысла Филипп Красивый доверил своему второму сыну, когда тому не исполнилось еще и двадцати двух лет, неограниченную власть над войском, а также объединил под его началом самых верных людей с целью эту власть укрепить.
Под знаменами Карла Валуа шли одновременно войска Мэна, Анжу и Валуа, в числе их находился престарелый рыцарь д'Онэ, отец двух погибших на плахе любовников Маргариты и Бланки Бургундских.
Города, так же как и села, не избежали контрибуции. Париж обязался выставить четыре сотни всадников и две тысячи пеших ратников, содержание коим должно было выплачивать купечество квартала Ситэ каждые две недели, а это доказывало, что, по мнению короля, война надолго не затянется. Необходимые для обоза лошади и повозки реквизировали в монастырях.
Двадцать четвертого июля 1315 года с некоторым запозданием, как и во всех прочих случаях, Людовик получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамбли, который был также хранителем знамени, орифламму Франции – длинное полотнище красного шелка с золотыми языками пламени (отсюда и само название орифламмы: оr – золото и flamme – пламя). Полотнище заканчивалось двумя языками и было прикреплено к длинному древку, покрытому позолоченной медью. По обе стороны от орифламмы, почитаемой наравне с главнейшими реликвиями Франции, несли два королевских знамени: одно голубое с вышитыми на нем лилиями и другое с белым крестом.
И вот огромная армия двинулась в поход, ведя за собой пеших ратников, прибывших с запада, с юга, с юго-востока, лангедокских рыцарей, войска Нормандии и Бретани. «Знамена» герцогства Бургундского и Шампаньского, а также Артуа и Пикардии должны были присоединиться к ним по дороге, у Сен-Кантена.
День выдался безоблачный – редкость по нынешнему промозглому лету. Солнечные блики играли на боевых гербах, расписанных яркими красками. Рыцари хвастались друг перед другом новинками по части доспехов: у одного новой формы шлем, у другого забрало надежнее защищает лицо и одновременно дает лучший угол видимости, у третьего нараменник лучше защищает плечи от ударов палицы и по нему, не причиняя вреда, скользит лезвие меча.
Вслед за войском на десятки лье растянулись цугом четырехколесные повозки, груженные съестными припасами, кузнечным оборудованием, запалами и стрелами для арбалетчиков; ехали торговцы самыми различными товарами, получившие разрешение следовать за армией, и целые выводки девок под началом содержателей непотребных домов. Все это продвигалось вперед среди удивительной атмосферы героизма и ярмарочной суеты.
На следующий день снова начался дождь, пронизывающий, упорный, размывавший дороги, углублявший колеи, стекавший по железным шлемам, по кольчугам, оседавший каплями на лоснившихся лошадиных крупах. Каждый человек стал тяжелее фунтов на пять.
И в последующие дни дождь, дождь, дождь…
Войско, идущее на Фландрию, так и не достигло Куртре. Оно остановилось в Бондюи, неподалеку от Лилля, перед разлившимся Лисом, который перегородил путь, затопил своими водами поля, размыл дороги, насквозь промочил глинистую почву. Так как дальше двигаться было невозможно, лагерь разбили тут же, среди потопа.