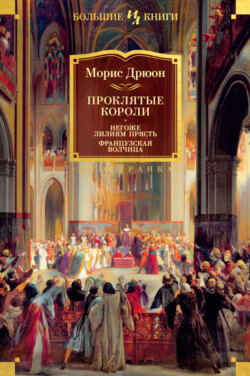Читать книгу Проклятые короли: Негоже лилиям прясть. Французская волчица - Морис Дрюон - Страница 10
Негоже лилиям прясть
Часть первая
ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА
Глава VI
Из Нофля в Сен-Марсель
ОглавлениеРанним июльским утром, еще до рассвета, старший де Крессе вошел в спальню сестры. Толстяк Жан держал в руке чадившую свечу; при свете ее было заметно, что брат Мари успел умыться, расчесал бороду и надел лучший свой кафтан для верховой езды.
– Вставай, Мари, – сказал он, – сегодня ты уедешь. Мы с Пьером сами тебя отвезем.
Молодая девушка приподнялась на локте.
– Уеду?.. Как так? Уеду сегодня утром?..
Она еще не очнулась от сна и пристально смотрела на брата большими темно-голубыми глазами, стараясь понять, о чем идет речь. Машинальным жестом она откинула назад свои длинные густые шелковистые волосы, отливавшие золотом.
Жан де Крессе хмуро глядел на красавицу-сестру, так, словно сама эта красота тоже была грехом.
– Собирай пожитки. Домой ты вернешься не скоро.
– Но куда вы меня везете? – спросила Мари.
– Сама увидишь.
– Но вчера… почему вчера вы мне ничего не сказали?
– Тебе скажешь, а ты снова с нами какую-нибудь шутку сыграешь. Что, разве нет?.. Ну ладно, торопись; выедем пораньше, чтобы наши крестьяне не заметили. Хватит с нас позора, незачем им снова трепать языками на твой счет.
Мари ничего не ответила. Вот уже целый месяц только так обращались с ней домашние, только таким тоном говорили. Она тяжело поднялась с постели: по утрам, особенно в первые минуты, давала себя знать пятимесячная беременность, хотя днем она почти ее не ощущала. При свете свечи, которую оставил ей брат, она стала собираться в дорогу, ополоснула лицо и шею водой, быстро заколола волосы; тут только она заметила, что руки ее дрожат. Куда ее везут? В какой монастырь? Мари надела на шею золотую ладанку, подарок Гуччо, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. «Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала, – подумалось ей. – А может быть, я недостаточно молилась?» Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умывания.
– Наденешь плащ с капюшоном, – бросил Жан, снова появляясь в спальне.
– Но ведь я в нем сгорю! – воскликнула Мари. – Это зимняя одежда.
– Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым лицом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся.
Во дворе младший брат де Крессе собственноручно седлал лошадей.
Мари отлично знала, что рано или поздно этот день наступит; и хотя сердце ее сжимал тоскливый страх, она не слишком страдала от предстоящей разлуки, больше того, постепенно стала ее желать. Самый неприветливый монастырь, самый строгий устав все же лучше, чем ежедневные уколы и укоры. По крайней мере, там она будет наедине со своим горем. Ей хотя бы не придется больше выносить яростных приступов материнского гнева; после всех этих трагических событий мать, которой кровь бросилась в голову, слегла в постель и всякий раз, когда Мари приносила ей целебную настойку, проклинала и оскорбляла дочь. Тогда приходилось срочно вызывать из Нофля цирюльника, чтобы он отворил кровь тучной владелице замка. Таким образом за две недели у мадам Элиабель выпустили не меньше шести пинт дурной крови, но даже при этих энергичных мерах вряд ли можно было надеяться, что к ней полностью вернется здоровье.
Оба брата, а особенно старший, Жан, обращались с Мари как с преступницей. Ох, уж лучше любой монастырь, в тысячу раз лучше! Одно страшно: сможет ли дойти в святую обитель весть о Гуччо и когда? Вот эта-то мысль доводила ее до умопомрачения, лишь поэтому она страшилась своей участи. Злые ее братья уверяли, что Гуччо бежал за пределы Франции.
«Они скрывают от меня, – думала Мари, – но они, наверное, запрятали его в темницу. Невозможно, немыслимо, чтобы он меня бросил! Должно быть, он вернулся в наши края, чтобы меня спасти; вот поэтому они так торопятся меня увезти, а потом убьют его. Ах, почему я не согласилась убежать с ним! Я не желала слушать доводов Гуччо, боялась оскорбить мать и братьев, и вот за то, что я хотела сделать им добро, они отплатили мне злом!»
В ее воображении рисовались картины одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение – это дитя, что она носит под сердцем; но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем, хоть и вселяло мужество в душу Мари.
Когда наступил час отъезда, Мари де Крессе спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик – видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель, – что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками.
– Она говорит, что у нее нет дочери, – пояснил он.
И Мари снова подумала: «Лучше бы я убежала с Гуччо. Сама во всем виновата; я обязана была последовать за ним».
Братья вскочили на коней, и Жан де Крессе посадил сестру позади себя на круп своей лошади, которая была все же получше, вернее, менее заморенная, чем у Пьера. Пьер восседал на запаленной кобыле, которая при каждом шаге тяжело выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по железу водили напильником; именно на этом одре в прошлом месяце братья де Крессе совершили торжественный въезд в столицу.
Мари бросила прощальный взгляд на маленький замок, которого не покидала со дня рождения и который сейчас, в первых, еще нежных проблесках зари, вставал перед ней в сероватой дымке, будто уже из прошлого. С тех пор как она помнит себя, каждое мгновение ее жизни проходило в этих стенах, на фоне этого пейзажа; ее детские игры, чудесное открытие самой себя и окружающего мира, который день за днем каждый творит как бы заново. Неистощимое разнообразие луговых трав, удивительные венчики цветов и чудесная пыльца на самом их донышке, мягчайший пушок на брюшке утенка, переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы… Здесь оставляла она все пережитые часы, те часы, когда впервые заметила, что взрослеет, когда впервые прислушалась к голосу грез, когда зорко подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменования, надеясь узреть Господа Бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца и где итальянский монах тайно обвенчал ее с Гуччо.
– Надвинь пониже капюшон! – приказал старший брат Жан.
Как только они перебрались вброд через речку, он подстегнул лошадь и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух.
– А не слишком ли ты быстро скачешь? – сказал Пьер, движением головы указывая на сестру.
– Ничего, дурное семя – оно цепкое, – отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари стряслась беда.
Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять лье, отделявший Нофль от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула. Из-под низко надвинутого на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов да людей без голов. Сколько ног! Какая обувь! С огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум, невнятное мощное гудение столицы, крики глашатаев, продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что лошади с трудом пробирались вперед. Прохожие задевали ноги Мари. Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную, запыленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща.
– А где мы? – спросила она, с удивлением оглядывая двор и красивый дом.
– У дядюшки твоего ломбардца, – пояснил Жан де Крессе.
А через несколько минут мессир Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного сира де Крессе, сидевших перед ним рядком, – бородача Жана, безусого Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы.
– Значит, понимаете, мессир Толомеи, – начал Жан, – вы дали нам обещание…
– Как же, помню, помню, – подтвердил Толомеи. – И я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь.
– Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. Значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем, мужики и те нам вслед смеются, а когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу не будет.
На языке у Толомеи вертелся ответ: «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум! Никто вас не заставлял бросаться как одержимых на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев».
– И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь, и держать Мари дома, значит, никак нельзя, мы боимся, что матушка отдаст Богу душу от гнева. Значит, понимаете…
«…Этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их „понимали“, должно быть, просто болван. Ничего, поболтает и перестанет! Но я-то отлично понимаю теперь, – думал банкир, – почему мой Гуччо наделал столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но, когда она вошла, я сразу сдался: и если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову. Прелестные глазки, прелестные волосы, прелестная кожа… Настоящая весенняя ягодка! И по-видимому, мужественно переносит свою беду, а эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности! Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом! У нее добрая душа, это сразу видно. Какая жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами, и как бы я радовался, если бы Гуччо мог обвенчаться с нею открыто, если бы она жила здесь и краса ее стала бы утехой моей старости».
Толомеи не спускал с Мари глаз. А Мари, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо, почему он так настойчиво за ней наблюдает?
– Значит, понимаете, мессир, ваш племянник…
– Ох, не говорите мне о нем, я от него отрекся, лишил его наследства! Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. Если бы я знал, где он сейчас скрывается… – Толомеи сокрушенно склонил голову на руки.
И тут из-под ладоней, приставленных ко лбу щитком, он незаметно для братьев Крессе, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника, и не могла удержать вздоха облегчения. Гуччо жив, Гуччо находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри мира!
Мари перестала слушать разглагольствования Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Крессе молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли. И он не прерывал старшего брата, который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждений о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок.
Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, братья Крессе увидели королевское жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства, изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. «Хоть она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо», – твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. «Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование?»
Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе.
«Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином, – думала она, – или если бы у нас не было дворянства! Да и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтоб из-за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница – пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций?»
– Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои, – проговорил наконец Толомеи, – и во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек – исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель – королевский монастырь для девиц. Ну как, довольны?
Братья Крессе переглянулись и одобрительно закивали. Монастырь Святой Клариссы, что в предместье Сен-Марсель, пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей. Туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь кого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Крессе утихла – его дворянское тщеславие было удовлетворено. И, желая показать, что они, Крессе, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил:
– Вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни; матушка неоднократно об этом говорила.
– Значит, все устроилось как нельзя лучше, – произнес Толомеи. – Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру…
Братья, как по команде, слегка склонили голову в знак уважения к столь высокой персоне.
– От него-то я и добился этой милости, – продолжал Толомеи, – и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре. Поэтому отправляйтесь с миром восвояси; я буду сообщать вам все новости.
Братьям только это и требовалось. Им удалось отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи; причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в Крессе не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом.
– Да хранит тебя Господь и да направит на путь раскаяния, – сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой.
Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками – зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку.
– Да хранит тебя Господь, Мари, – взволнованно произнес Пьер.
Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомеи, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей.
Братья Крессе выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы – последний отзвук родного Крессе, уже отходившего вдаль.
– А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой слез не льют, – сказал Толомеи.
Он помог своей молодой гостье снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась; Мари кинула на него удивленно-признательный взгляд, ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости.
«Гляди-ка, материя-то моя», – подумал Толомеи, разглядывая платье Мари.
Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком; рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости, – все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену.
– Он в Лионе, – вдруг проговорил Толомеи, подымая левое, обычно опущенное веко. – Сейчас он не может оттуда выехать, но думает он о вас и в вас верит.
– Он не в тюрьме? – спросила Мари.
– Как бы вам сказать, не совсем… Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяет заточение со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует; по всему видно, что он благополучно выйдет из церкви и заключение только придаст ему весу.
– Из церкви? – удивленно переспросила Мари.
– Больше я ничего не имею права вам сообщить.
Но Мари и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя… Эта тайна не умещалась в ее головке. Но в жизни Гуччо уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их Нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением к королеве Изабелле? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали к королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Мари на шее! «Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной». Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это, должно быть, тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее, деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо ее любит, а больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.
Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.
«Какая жалость, – думал он, – что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессе и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь…»
– …но не на всю жизнь, – произнес он вслух. – И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником.
Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик-ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.
– А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля, – произнес он.
От Ломбардской улицы до дворца Сите рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров – все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье, – думала она, – жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через мост Менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.
Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.
– Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, – пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.
Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.
Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.
– Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, – пояснил Толомеи, указывая на остров.
Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвиль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.
– Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? – спросил Толомеи у Бувилля.
– Плачет она теперь не так часто, – ответил толстяк, – вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.
«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом! – думала Мари со жгучим любопытством. – А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»
Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе – из которой, впрочем, она не поняла ни слова – между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.
Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать Королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.
Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.
– Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице, – рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.
Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать; Гуччо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Мари…
– Конечно, конечно, – продолжал Бувилль. – Моя супруга – особа весьма умная и деятельная, она уже устроила все как нельзя лучше. Так что не тревожьтесь.
Кликнули мадам Бувилль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами; ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков – Толомеи и Бувилля – Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость.
– Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех! – проговорила мадам Бувилль, окинув гостью недоброжелательным взглядом. – Вас ждут в монастыре. Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но в конце концов положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить, и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру.
Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мари ответила ей почтительно, но с достоинством:
– Мадам, я не согрешила, ибо я обвенчана перед Господом Богом.
– Ладно, ладно, – прервала ее мадам Бувилль, – не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарите лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями.
Тут Толомеи поторопился поблагодарить супругу Бувилля от имени Мари. Когда же Мари увидела, что банкир направился к двери, ее охватило такое отчаяние, такая растерянность, она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.
– Сообщайте мне о судьбе Гуччо, – шепнула она ему, – и передайте ему, что я томлюсь без него.
Толомеи ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувилль. Все послеобеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться, и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду Карл Валуа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Мари от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, и притом в таком множестве. Она вспомнила крестьян из Крессе, одетых в лохмотья, с тряпичными обмотками на ногах, и ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные Господом Богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам.
Молодые конюшие, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, а тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы; потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца.
К концу дня за Мари пришла мадам Бувилль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины в сопровождении слуг отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики; между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось навести порядок.
– В городе неспокойно, – пояснила мадам Бувилль. – И я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута.
Проехав через мост Сент-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак.
– В дни моей молодости, – продолжала мадам Бувилль, – здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе, вот они и застроили все поля.
Монастырь Святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене – низенькая дверца и возле дверцы – башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина, с низко надвинутым на лоб капюшоном, быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща сверток, положила его в клеть; из свертка неслись жалобные попискивания; женщина повернула деревянный барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь.
– Что она делает? – полюбопытствовала Мари.
– Подкинула своего младенца, рожденного вне брака, – пояснила мадам Бувилль, кинув на Мари осуждающий взгляд. – Таков обычай. Давайте поторопимся.
Мари стала подгонять своего мула. Ей подумалось, что, может, и ей тоже в один злосчастный день пришлось бы подкинуть свое дитя, так что не стоит слишком жаловаться на свою судьбу.
– Я так благодарна вам, мадам, за все ваши заботы обо мне, – пробормотала она, и на глазах ее выступили слезы.
– Наконец-то слышу от вас первое разумное слово, – ответила мадам Бувилль.
Через несколько минут перед ними распахнулись ворота, и Мари поглотило безмолвие святой обители.