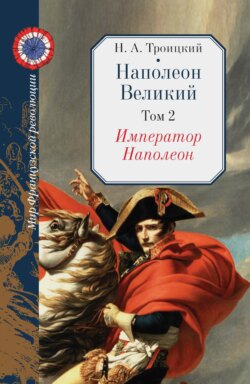Читать книгу Наполеон Великий. Том 2. Император Наполеон - Н. А. Троицкий - Страница 4
Глава I
Апогей
3. «Битва трех императоров» и разгром третьей коалиции
Оглавление13 ноября 1805 г., осуществляя с математической точностью свой план, составленный в Булони тремя месяцами ранее, Наполеон занял Вену, которая до тех пор никогда не сдавалась врагу, хотя дважды – в 1529 и 1683 г. – едва успевала спастись от нашествия турок. Император Франц I вновь, как и в 1797 г., с лихорадочной поспешностью бежал из собственной столицы на север, в Ольмюц (Оломоуц), куда спешил из Берлина и Александр I. Резервная русская армия Ф. Ф. Буксгевдена тоже была на подходе к Ольмюцу. Собирались там и остатки австрийских войск с главного, германского театра военных действий, бывшие в начале кампании под командованием К. Макка и эрцгерцога Фердинанда. В скором времени ожидалось прибытие еще двух русских армий – Л. Л. Беннигсена и И. Н. Эссена.
Но основной ударной силе коалиции – армии Кутузова – грозила гибель.
Кутузов после капитуляции Макка начал отступать с 25 октября от Браунау (в Баварии) к Ольмюцу (в Чехии) на соединение с Буксгевденом. Наполеон, продвигаясь к Вене, отрезал ему кратчайшие пути на Ольмюц. У Кутузова было меньше 45 тыс. воинов. Наполеон, имея почти 100 тыс.[133], готовил ему судьбу Макка. 4 ноября император спешно переправил на левый берег Дуная 10-тысячный корпус маршала Э. А. Мортье, а Мюрату приказал усиленно преследовать русских по правому берегу, что должно было поставить армию Кутузова между двух огней. Мюрат, однако, затеял лишний марш к Вене, позволив Кутузову форсировать Дунай у Кремса. Венский марш Мюрата будет иметь и эффектные последствия (о них речь впереди), но пока он стал губительным для расчетов Наполеона и спасительным для Кутузова. Дело в том, что теперь корпус Мортье на левом берегу Дуная оказался один против всей армии Кутузова.
Наполеон объявил Мюрату, что тот действует «как недоумок» (comme un étourdi)[134], но уже не мог исправить его оплошности, которую отлично использовал Кутузов. В бою у Кремса[135] 11 ноября русские корпуса М. А. Милорадовича и Д. С. Дохтурова (будущих героев 1812-го года) нанесли поражение корпусу Мортье и открыли для себя путь к Ольмюцу. Бой был яростным. Русские потери под Кремсом Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев определяют в 2 тыс. человек, О. В. Соколов – в 3,5 тыс., Д. Чандлер и А. Лашук – в 4 тыс.; французы потеряли, по Гуляеву и Соглаеву, около 5 тыс., по Соколову – от 2,5 до 3 тыс., по Чандлеру – 3 тыс., по Лашуку – «несколько более 2 тыс. человек»[136].
Бой под Кремсом, конечно же, делает честь Кутузову как неоспоримая, хотя и не вполне реализованная победа его армии над корпусом Мортье. Попытки европейских (не только французских, но и английских) историков представить Кремс победой французов[137] несостоятельны. С другой стороны, П. А. Жилин, который объявил Кремс «блестящей победой» Кутузова над самим Наполеоном[138], а также Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев, в изображении которых эта победа имела важное значение «для всей Европы», ибо, мол, ею Кутузов «полностью реализовал свои стратегические замыслы»[139], грешат (мягко говоря) преувеличениями.
О. В. Соколов, который, как представляется, дал одно из самых подробных и самое достоверное освещение военных событий 1805 г., объективно подводит итоги боя под Кремсом: с одной стороны, «несомненный успех» и «мощный контрудар» армии Кутузова, но, с другой стороны, «крайне неудачная» попытка окружить и уничтожить корпус Мортье, ибо «Мортье не только сумел вырваться из окружения, но и нанес противнику чувствительный урон»[140], о чем говорят цифры русских потерь.
Вернемся теперь к венскому маршу Мюрата. 13 ноября он и маршал Ланн играючи сотворили просто чудо, запечатленное с того дня и навечно в военной истории. Практически вдвоем без единого выстрела они овладели центральным – Шпицким – мостом через Дунай. Вот как это было[141]. Мост длиною в 430 м, подготовленный к взрыву (на нем – 20 бочек пороха, фитили и взрывные заряды), защищали несколько тысяч австрийских солдат с 16 орудиями. Их начальник фельдмаршал-лейтенант князь Карл фон Ауэрсперг имел приказ в случае нападения французов взорвать мост. Однако Мюрат и Ланн, спрятав батальон гренадер в прибрежных зарослях, сами хладнокровно взошли на мост, одетые в парадную форму и с радостными возгласами о будто бы заключенном перемирии. Вступив в переговоры с князем Ауэрспергом, они отвлекли на себя внимание всех защитников моста. Тем временем французские гренадеры выскочили из засады, ворвались на мост, сбрасывая в Дунай заготовленные для взрыва заряды, и разоружили австрийских канониров, прежде чем они поняли, что, собственно, происходит. Так, проявив «необыкновенную лихость и хитрость» (выражение Д. Чандлера), Мюрат и Ланн обеспечили Великой армии самую удобную (если не сказать комфортную) переправу через Дунай рядом с Веной. Узнав об этом, Наполеон «тут же простил Мюрата и стал снова благоволить ему»[142].
Теперь Мюрат с кавалерией быстро настиг армию Кутузова у деревни Шёнграбен (близ г. Холлабрун) и стал наседать на нее, зная, что к Шёнграбену уже подходят корпуса Ланна и Сульта. Далее произошло то, что О. В. Соколов справедливо расценил как «тайну Шёнграбена», причем разгадал эту тайну[143].
До последнего времени в отечественной литературе принято было считать, что Мюрат под Шёнграбеном, желая выиграть время к прибытию подкреплений, предложил Кутузову заключить перемирие, т. е. решил повторить с русскими свой трюк, только что удавшийся с австрийцами. В действительности, как установил Соколов по документам, хранящимся в Архиве исторической службы Министерства обороны Франции, не Мюрат Кутузову, а Кутузов Мюрату предложил подписать договор и не о перемирии, а о капитуляции русской армии. С таким предложением Кутузов прислал к Мюрату царского генерал-адъютанта барона Ф. Ф. Винценгероде, и Мюрат с удовольствием принял это предложение, остановив военные действия на 36 часов, а пока он, по словам очевидца, барона М. де Марбо, «вдыхал фимиам» русского обмана[144], Кутузов увел свою армию на два перехода вперед к Ольмюцу. Предвидя, что французы после такого qui pro quo[145] будут преследовать его с удвоенной яростью, Кутузов оставил у Шёнграбена заслон под командованием П. И. Багратиона из 7 тыс. солдат, заведомых, как представлялось тогда Кутузову, смертников. «Хотя я и видел неминуемую гибель, которой подвергался корпус князя Багратиона, – доносил Михаил Илларионович царю, – не менее того я должен был щитать себя щастливым спасти пожертвованием оного армию»[146].
В тот же день, 16 ноября, когда Кутузов, прикрывшись, словно щитом, арьергардом Багратиона, уходил от Шёнграбена на Ольмиц, Мюрат получил гневный выговор от Наполеона: «Не могу найти слов, чтобы выразить вам все мое неудовольствие <…> Из-за вас потеряны плоды всей кампании <…> Адъютант русского императора не кто иной, как прохвост. Офицеры значат что-нибудь только тогда, когда у них есть полномочия от власти; у этого же не было никаких полномочий. Австрийцы дали себя обмануть на венском мосту, вы дали обвести себя вокруг пальца адъютанту царя. Я не понимаю, как вы могли допустить, чтобы вас провели подобным образом»[147].
Получив такой нагоняй, Мюрат всеми силами, которыми в тот момент он располагал (по данным О. В. Соколова и А. Лашука, 1617 тыс. штыков и сабель), обрушился на «смертников» Багратиона, но не сумел ни окружить, ни уничтожить их. Багратион, потеряв половину своих бойцов, все же спас остальных и вместе с ними присоединился к основным силам армии Кутузова. Теперь Кутузов мог считать свою армию спасенной. 22 ноября она прибыла в Ольмюц, куда уже подоспела 2-я армия Ф. Ф. Буксгевдена, а еще через три дня – и русская гвардия во главе с вел. кн. Константином Павловичем.
Здесь уместно подчеркнуть заслугу О. В. Соколова, который в своем двухтомном исследовании «Аустерлиц» опроверг две живучие легенды: французскую – о том, что Мортье под Кремсом с 6 тыс. солдат разгромил 35 тыс. русских, и российскую – о том, как под Шёнграбеном 5 тыс. русских воинов побили 60 тыс. французов[148].
За 29 дней, с 25 октября по 22 ноября 1805 г., армия Кутузова прошла с боями от Браунау до Ольмюца 417 км, избежав окружения и разгрома. Историки (не только отечественные) признают кутузовскую «ретираду» 1805 г. замечательным образцом стратегического марш-маневра. Д. Н. Бантыш-Каменский уподобил ее знаменитому в истории войн (описанному в «Анабасисе» Ксенофонта) отступлению десяти тысяч греков во главе с Ксенофонтом через всю Малую Азию от Вавилона к Трапезунду в 401 г. до н. э.[149] Да, марш-маневр к Ольмюцу подтверждает репутацию Кутузова как выдающегося полководца. Но нельзя при этом забывать и другое. Во-первых, то была хоть и героическая, но все-таки ретирада, временами похожая на бегство (в иные дни – по 30 и более верст[150] в день[151]) от врага. Во-вторых, здесь надо учитывать и неожиданно спасительные для россиян (вопреки директивам Наполеона) промахи Мюрата у Кремса и Шенграбена. Наконец, только в насмешку над фактами можно утверждать, как это делал П. А. Жилин, что в 1805 г. на дорогах Баварии Кутузов «возглавлял борьбу русского народа против наполеоновской агрессии»…[152]
Итак, к 25 ноября союзные (пока только русские и австрийские) войска собрались в Ольмюце. Там радостно встретили армию Кутузова два императора – русский и австрийский. Третий император – французский – остановил свою Великую Армию у городка Брюнна (Брно). В 25 км от Брюнна и в 70 от Ольмюца находилась деревня Аустерлиц (ныне г. Славков в Чехии), где трем императорам предстояло сразиться в одной из величайших битв мировой истории.
Соотношение сил перед битвой при Аустерлице специалисты определяют разноречиво, но чаще всего приводились такие цифры: у Наполеона – от 73 до 75 тыс. человек и 250 орудий, у союзников от 84 до 86 тыс. человек (из них – 70 тыс. русских) и 330 орудий[153]. О. В. Соколов вычислил такие данные: Наполеон имел 72,5–73 тыс. человек и 140 орудий против 80 тыс. человек и 300 орудий у союзников[154]. При таком соотношении сил Наполеон не сомневался в победе. Но скоро оно могло стать для него угрожающим. Значительную часть своих войск (не менее 50 тыс. человек) под командованием А. Массена он отрядил на север Италии для противодействия 90-тысячной армии эрцгерцога Карла. Между тем из России шли резервные армии Л. Л. Беннигсена и И. Н. Эссена. Главная же опасность для Наполеона исходила от Пруссии.
Наполеон знал, что из Берлина к нему держит путь граф Х.-А. Гаугвиц (прусский министр иностранных дел) с ультиматумом, заведомо не приемлемым: признать независимость Голландии, Швейцарии и Неаполитанского королевства, а сардинскому королю возместить его расходы на войну с Францией. Наполеон не сомневался, что, как только он отвергнет ультиматум, Пруссия ударит ему в тыл. Нужно было спешить: навязать союзникам генеральное сражение и выиграть его, пока к ним не присоединились пруссаки и русские резервы.
В течение недели до сражения Наполеон день за днем виртуозно разыгрывал перед союзниками видимость своих колебаний и опасений. Он начал с того, что 25 ноября прислал в Ольмюц к Александру I своего генерал-адъютанта Р. Савари «поздравить Его Величество с прибытием к армии», причем Савари притворился, что боится атаки союзников, и таким же боязливым представил самого Наполеона[155]. Когда же союзники действительно перешли к активным действиям, и 28 ноября в стычке под Вишау 56 русских эскадронов отбросили восемь французских на глазах у Александра I, Наполеон вторично отправил Савари к Александру с просьбой о перемирии и свидании. Александр повидаться с Наполеоном не захотел, но прислал к нему своего любимца 27-летнего генерал-адъютанта князя П. П. Долгорукова, который высокомерно потребовал, чтобы французский император отказался от всех своих завоеваний («Этот шалун <…> разговаривал со мной как с боярином, которого ссылают в Сибирь», вспоминал позднее Наполеон[156]). Император смиренно выслушал князя и с тревогой вздохнул: «Значит, будем драться?» Долгоруков вернулся в боевом настроении: «Наш успех несомненен!»[157]
В союзном штабе лишь один человек был против генерального сражения с Наполеоном – главнокомандующий М. И. Кутузов. Он предлагал отступать к Карпатам до соединения с войсками Беннигсена и Эссена и возможного выступления Пруссии. Его мнение поддержали только «молодые друзья» царя, находившиеся тогда в царской свите, Н. Н. Новосильцев и А. А. Чарторыйский[158].
Важно подчеркнуть, что бытующие в нашей литературе утверждения таких авторитетов, как А. З. Манфред, С. Б. Окунь, М. В. Нечкина и даже Е. В. Тарле, будто Кутузов «настаивал», «твердо и настойчиво требовал» не давать Наполеону сражения[159], голословны. Все источники, как один, свидетельствуют, что главнокомандующий союзной армией, напротив, не проявил ни твердости, ни смелости, чтобы настоять на своем мнении. «Я был молод и неопытен, – сокрушался потом Александр I, – Кутузов говорил мне, что надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее!»[160] Перед самым сражением Кутузов попытался было воздействовать на царя через обер-гофмаршала графа Н. А. Толстого: «Уговорите государя не давать сражения. Мы его проиграем». Толстой резонно возразил: «Мое дело – соусы да жаркое. Война – ваше дело»[161]. После этого Кутузов ни перед кем и ни на чем не настаивал и ничего не требовал.
А. С. Шишков, А. А. Чарторыйский и Ж. де Местр были убеждены, что только «придворная выправка» и «робость» перед царем помешали Кутузову оспорить желание царя сразиться с Наполеоном[162]. Такого же мнения был герой Аустерлица, будущий генерал и декабрист М. А. Фонвизин: «Наш главнокомандующий из ничества согласился приводить в исполнение чужие мысли, которые в душе своей не одобрял»[163].
Спустя семь лет, в последние дни Отечественной войны 1812 г., Кутузов, увидев отбитое у врага знамя с надписью «За победу под Аустерлицем», скажет своим офицерам: «После всего, что совершается теперь перед нашими глазами, одной победой или одной неудачей больше или меньше, все равно для моей славы, но запомните: я не виноват в Аустерлицком сражении»[164]. Да, с чисто военной точки зрения Кутузов в аустерлицком разгроме не виноват, как полководец он сделал тогда все возможное. Но, по мнению авторитетных военных историков Г. А. Леера и П. А. Гейсмана, очевидна вина Кутузова под Аустерлицем «не военная, а гражданская: недостаток гражданского мужества высказать всю правду юному императору». Не сделав этого, Кутузов тем самым «допустил исполнение плана, приведшего к погибели армию»[165].
План битвы при Аустерлице со стороны союзников подготовил генерал-квартирмейстер Франц фон Вейротер, в 1796 г. бывший начальником штаба у фельдмаршала Д. С. Вурмзера и состоявший при штабе у генералиссимуса А. В. Суворова в 1799 г. Смысл плана был таков: усиленным левым крылом из трех русских колонн[166] обойти ослабленное (как показала рекогносцировка) правое крыло Наполеона и разбить его ударом во фланг и тыл. Императоры Александр и Франц не возражали против такого плана. В ночь с 1 на 2 декабря Вейротер доложил его на совете у главнокомандующего. Кутузов, открыв заседание совета, вскоре заснул, «в чем и выразилась, – по словам Г. А. Леера, – вся его оппозиция плану»[167]. Собравшиеся на совет генералы хотя и бодрствовали, но отмалчивались. Только А. Ф. Ланжерон полюбопытствовал: «Что будем делать, если Наполеон атакует нас первым?» Вейротер такой вариант исключил: «Если бы он считал это возможным, то давно уже атаковал бы!» В этот момент (было уже 3 часа утра) Кутузов проснулся и отпустил генералов, сказав: «В 7 часов атакуем неприятеля в занимаемой им позиции»[168].
На рассвете 2 декабря союзные войска изготовились к бою в таком порядке. Три первые русские колонны генерал-лейтенантов Д. С. Дохтурова, А. Ф. Ланжерона и И. Я. Пржибышевского составляли левое крыло под общим командованием генерала от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена; 4-я русско-австрийская колонна генерал-лейтенантов М. А. Милорадовича и графа И. К. Коловрата – центр, непосредственно подчиненный Кутузову; 5-я колонна генерал-лейтенанта П. И. Багратиона и австрийского князя И. И. Лихтенштейна – правое крыло, которым командовал Багратион. Гвардейский резерв за 4-й колонной был под начальством вел. кн. Константина Павловича. Оба императора и главнокомандующий Кутузов находились при 4-й колонне. Александр I появился перед войсками под гром приветствий. «Ну что, Михайло Ларионович, – обратился он к Кутузову, – как вы полагаете, дело пойдет хорошо?» Кутузов поклонился с улыбкой: «Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества?» – «Нет, нет, – возразил император, – командуете вы. Я только зритель». Кутузов вновь поклонился – уже без улыбки[169].
Царь был в приподнятом настроении, как, впрочем, и вся русская армия (чего нельзя сказать об австрийцах, переживших позор Ульма и падение Вены). Опасения Кутузова казались преувеличенными. Ведь на стороне союзников было численное превосходство – и в людях, и в артиллерии. Боевые качества русских солдат даже в отступательных боях под Кремсом и Шёнграбеном проявились с блеском и только что были подтверждены под Вишау. Репутация русской армии за 100 лет, со времени Петра Великого, не проигравшей ни одного генерального сражения, была высочайшей в мире. Не потому ли Наполеон выглядел явно оробевшим? В союзном штабе у всех на устах были слова кн. П. П. Долгорукова как очевидца: «Наполеон боится сражения!» В подобной ситуации такому воинству во главе с двумя императорами вдруг повернуться спиной к противнику и отступать значило бы непоправимо унизить себя перед отечеством и Европой. Все это побуждало царя и весь союзный генералитет отнести пораженческий синдром Кутузова на счет его возраста (ему тогда пошел уже седьмой десяток) и желания перестраховаться.
Великий С. М. Соловьев приводил еще один довод против кутузовского предложения отказаться от битвы с Наполеоном и отступать. «Уклониться от решительной битвы, когда такой полководец, как Наполеон, ее хотел, трудно, невозможно. Надобно отступить, но для этого надо иметь план отступления, надо знать, куда отступать, с какими средствами и какие средства можно найти в стране, куда будет направленно отступление. Отступать в Венгрию: но что такое Венгрия? Не надобно забывать, что русский главнокомандующий был в чужой стране, ходил ощупью, впотьмах»[170].
В отечественной историографии бытует расхожее мнение, заимствованное еще у А. И. Михайловского-Данилевского, будто Александр I якобы «отстранил» Кутузова и сам «руководил» битвой при Аустерлице[171]. Утрируя, В. Д. Мелентьев объявил даже, что в той битве «русскими войсками распоряжались иностранцы: генералы и полковники Вейротер, Гогенлоэ, Лихтенштейн, Вимпфен, Буксгевден, Ланжерон и другие»[172]. Мало того, что Мелентьев «забыл» здесь о таких русских генералах (не говоря уж о полковниках), как П. И. Багратион, Д. С. Дохтуров, М. А. Милорадович, Ф. П. Уваров, А. С. Кологривов, П. П. Долгоруков, Н. М. и С. М. Каменские и многих других; он не учел, что все перечисленные им «иностранцы» (равно как и россияне) находились в распоряжении Кутузова, причем ни Гогенлоэ, ни Лихтенштейн к русским войскам прямого отношения не имели, они командовали союзными, австрийскими войсками.
Но самое главное, Александр I не только не отстранял главнокомандующего генерала Кутузова, но и не вмешивался в его распоряжения, лишь в самом начале битвы он поторопил его с атакой. Когда три колонны левого крыла союзников уже шли в наступление, 4-я колонна все еще задерживалась на командных Праценских высотах. Александр осведомился у Кутузова: «Михайло Ларионович! Почему не идете вперед?» Кутузов ответил: «Я поджидаю, чтобы все войска колонны пособрались». Теперь улыбнулся император: «Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки». «Государь! – возразил было Кутузов. – Потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу… Впрочем, если прикажете…» Далее и у Михайловского-Данилевского, и у Шильдера следует одна и та же фраза: «Приказание было отдано»[173]. Так оба придворных историка подчеркнули, не называя имени того, кто отдал приказание, якобы согласованную волю государя и его военачальника. Центральная колонна союзников с главнокомандующим и двумя императорами пошла вперед, оставляя Праценские высоты и не зная, что этого момента очень ждал и теперь с удовлетворением его зафиксировал третий император – Наполеон.
С той минуты, когда Наполеон проводил «этого шалуна» (ce polisson) П. П. Долгорукова, он был уверен, что союзники его атакуют, и приготовился к битве. Войска он расположил таким образом: мощный центр под командованием маршала Сульта, сильное левое крыло (маршалы Ланн и Бернадот) и слабый, причем несколько оттянутый назад правый фланг, которым командовал маршал Даву. Резерв за боевыми порядками центра составляли гвардейские полки маршала Бессьера, кавалерия маршала Мюрата и гренадеры генерала Н. Ш. Удино. Таким расположением Наполеон провоцировал союзников на обход его правого фланга и преуспел в этом. Перед сражением он провел тщательную рекогносцировку местности, разгадал возможные маневры союзников и противопоставил им свой маневр.
Главный удар Наполеон решил нанести по центру противника, чтобы прорвать его, разрезать союзную армию на две части и бить ее по частям. Он рассчитал, что в случае, если союзники предпримут обход его правого крыла и, следовательно, растянут линию своих войск, их центр окажется менее глубоким и более уязвимым для прорыва. С наибольшими шансами на успех он мог бы ударить по войскам союзного центра, если бы они спустились с Праценских высот.
Ночь с 1 на 2 декабря 1805 г. армии трех императоров провели на боевых позициях друг против друга – в разном настроении. Великая армия Наполеона с вечера ликовала в предвкушении победы, словно уже победила. Наполеон распалил ее боевой дух своей знаменитой (А. Лашук называет ее «всемирно известной»[174]) прокламацией, которую огласили по всем полкам в конце дня 1 декабря. В ней говорилось: «Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться вдали от огня, если вы с вашей обычной храбростью внесете в ряды неприятеля беспорядок и смятение. Но если исход сражения будет сомнителен хоть на одну минуту, вы увидите вашего императора под огнем врага. Наша победа должна быть безусловной, особенно в такой день, когда речь идет о чести французской армии, столь необходимой для чести всей нации. Не расстраивайте рядов под предлогом заботы о раненых! Пусть каждый из вас будет проникнут мыслью победить этих наемников Англии, которых пожирает пламя ненависти к нашему народу. Эта победа завершит кампанию, и мы сможем занять зимние квартиры, куда придут к нам подкрепления, которые формируются во Франции. Мир, который я заключу, будет достоин моего народа, достоин вас и меня»[175].
Этой прокламацией Наполеон, по выражению Д. С. Мережковского, заразил французских солдат своим «магнетическим предвиденьем»: «…завтрашнее “солнце Аустерлица” уже взошло для них в ночи»[176].
Ближе к ночи император совершил последний перед сражением объезд своих войск. Было очень темно. Барон де Марбо вспоминал: «Егеря эскорта императора сообразили зажечь факелы из сосновых палок и соломы <…>. Войска, видя приближение группы ярко освещенных кавалеристов, сразу узнавали императорский штаб. И в тот же миг, как по волшебству, мы увидели бесконечную линию огней наших бивуаков, освещенных тысячами факелов, которые держали солдаты. Мы с огромным энтузиазмом приветствовали Наполеона криками, тем более громкими, что завтрашний день был годовщиной коронации императора <…>. Враги должны были быть немало удивлены, когда сверху с соседнего холма посреди ночи они увидели тысячи зажженных факелов и услышали тысячекратно повторенные крики “Да здравствует император!”, которые сливались в одну сплошную музыку. На наших бивуаках все было радостью, светом и движением, тогда как в лагере австро-русских войск стояли тьма и тишина»[177]. Разумеется «тьма и тишина» у союзников означали отнюдь не сомнения и страхи перед битвой, а напряженную, без энтузиазма, сосредоточенность в ожидании битвы.
За два часа до полуночи Наполеон приказал погасить все огни, будто бы для сна, и быстро, а главное, в образцовом порядке, по заранее намеченным для каждой дивизии проходам перевел большую часть своих войск на левый берег Бозеницкого ручья, откуда им было удобнее атаковать противника, тем более что противник такого маневра не ожидал.
В 7.30 утра Наполеон, окруженный маршалами, получил донесение от Даву, что союзники обходят его, и сам увидел движение центральной колонны неприятеля с Праценских высот. Он обратился к Сульту: «Сколько времени нужно вам, чтобы ваши дивизии заняли эти высоты?» – «Меньше 20 минут!» – ответил маршал. «Тогда подождем еще четверть часа. Если противник делает ошибочное движение, не надо ему мешать», – сказал Наполеон и только через 15 минут дал сигнал к атаке союзного центра[178].
Удар Наполеона по 4-й, центральной, колонне союзников был страшной силы. По воспоминаниям А. Ф. Ланжерона, «колонна была раздавлена и рассеяна менее чем в полчаса»[179]. Александр I, Франц I и Кутузов сразу потеряли друг друга из виду. Франц, увлеченный потоком бегущих австрийских солдат, умчался с поля битвы на лихом коне одним из первых. Александр своих солдат пытался остановить, кричал им: «Стой! Я с вами! Я подвергаюсь той же опасности!»[180] Его не слушали. Кто-то доложил ему, что Кутузов ранен. Царь послал к главнокомандующему своего лейб-медика, англичанина Я. В. Виллие, который ранее был личным врачом Павла I (по одной из версий, именно он в ночь на 12 марта 1801 г., желая «прибрать труп» Павла, обнаружил, что «покойник» еще жив, и «перерезал ему артерию»[181]).
«Поблагодари государя! – воскликнул Кутузов, отправляя врача обратно. – Доложи ему, что моя рана не опасна, но смертельная рана – вот где!» Жестом отчаяния главнокомандующий показал на своих бегущих солдат. Только что у него на глазах его любимый зять, герой Кремса, флигель-адъютант граф Ф. И. Тизенгаузен со знаменем в руках повел их в контратаку и «пал, пронзенный насквозь пулею»[182]. Сам Михаил Илларионович едва не попал в плен.
Тем временем Наполеон обрушил столь же страшный удар силами войск Ланна на правое крыло союзников, а Бернадоту приказал поддержать Даву и совместно громить колонны левого крыла. Союзная армия была расчленена на три части и, как это спланировал Наполеон, уничтожалась по частям. Русские солдаты дрались храбро, но не могли устоять перед натиском французов, резервы которых Наполеон искусно направлял в решающие пункты сражения. Кутузов успел отправить Буксгевдену приказ о всеобщем отступлении и потерял управление войсками[183]. Александр I рассылал казаков во все стороны разыскивать его, но увиделся с ним уже после битвы у местечка Годвежици[184]. Только колонна Багратиона и Лихтенштейна отступала без паники. Войска всех прочих колонн бежали. Отброшенные к полузамерзшим прудам, они пытались спастись по льду и тонули там целыми полками, ибо Наполеон, державший в руках все нити боя, приказал своей артиллерии бить ядрами в лед.
«Ледовое побоище» при Аустерлице запомнил на всю жизнь барон де Марбо, один из героев битвы. «Снаряды разбивали лед во многих местах, – вспоминал он, – и это все сопровождалось ужасным шумом. Вода стала выступать через пробитый лед. Мы видели, как тысячи русских солдат, их лошади, пушки, повозки медленно погружались в эту ледяную пропасть. Это было страшное зрелище, которое я не забуду никогда. В одно мгновение поверхность пруда покрылась всем, что могло плавать. Люди и лошади бились на середине пруда с наступающими льдами. Некоторым – очень небольшому числу – удалось спастись с помощью шестов и веревок, которые протягивали им с берега наши солдаты, но основная масса утонула»[185].
В воспоминаниях М. де Марбо засвидетельствован и отрадный факт среди ужасов Аустерлица. На следующее утро Наполеон, объезжая поле битвы, увидел плывущую льдину, с которой раненый русский офицер, весь в орденах и в крови, взывал о помощи. Император тут же приказал своему адъютанту «сделать все возможное, чтобы спасти этого несчастного». Сразу несколько гвардейцев из императорского эскорта и «даже два офицера штаба» устремились к пруду, не снимая мундиров, и застряли между льдинами так, что пришлось спасать их самих. Тогда барон де Марбо и лейтенант Руместайн разделись донага, бросились в ледяную воду и спасли раненого, хотя Руместайн при этом схватил воспаление легких и вынужден был оставить военную службу[186].
Вернемся, однако, к вечеру 2 декабря. С наступлением сумерек, еще до 5 часов, все было кончено. «Я был уже свидетелем проигранных битв, но я не мог даже представить себе такого разгрома, – вспоминал генерал А. Ф. Ланжерон. – Нужно было быть очевидцем сумятицы, царившей в нашем отступлении, или, скорее, в нашем бегстве, чтобы составить о ней понятие»[187]. О том же свидетельствовал другой очевидец, А. П. Ермолов: «Беспорядок дошел до того, что в армии, казалось, полков не бывало; видны были разные толпы»[188].
Кстати, Ермолов, тогда еще полковник, по ходу битвы «достался в плен» французам (по его собственному выражению)[189], но успел спастись. Зато восемь генералов русской армии остались к концу того дня в плену. Впрочем, Наполеона порадовал плен не столько этих восьми генералов, сколько 200 кавалергардов из личного эскорта царя. Когда пленные кавалергарды были доставлены к императору, он, глядя на них, улыбнулся: «Много прекрасных дам в Петербурге будут оплакивать этот день»[190]. Командир эскадрона кавалергардов флигель-адъютант князь Николай Григорьевич Репнин (внук генерал-фельдмаршала Н. В. Репнина, женатый на дочери другого генерал-фельдмаршала, А. К. Разумовского) тоже был взят в плен и представлен Наполеону. Этот момент запечатлен на всемирно известной картине Франсуа Жерара и в воспоминаниях очевидцев, включая самого Репнина. «Ваш эскадрон достойно исполнил свой долг», – похвалил Наполеон пленника, зная, что кавалергарды действительно сражались геройски. «Это самая прекрасная награда получить похвалу от великого человека», – ответил комплиментом на комплимент Репнин[191].
Смятение, охватившее союзный олимп к концу битвы, было так велико, что вся свита Александра I рассеялась в разные стороны и присоединилась к нему только ночью и даже наутро. В первые же часы после катастрофы царь скакал несколько верст от поля битвы лишь с врачом, берейтором, конюшим и двумя лейб-гусарами, а когда при нем остался один лейб-гусар, Александр, по рассказу этого гусара, «слез с лошади, сел под дерево и горько плакал»[192]. После страшной ночи отцеубийства с 11 на 12 марта 1801 г. никогда более он не переживал такого потрясения, как в день битвы при Аустерлице.
Архив Военного министерства Франции хранит следующие данные о потерях сторон под Аустерлицем: союзники – 15 тыс. убитых и раненых, 20 тыс. пленных, 180 орудий, 45 знамен; французы 1290 убитых и 6943 раненых[193]. В России с этими данными соглашался только Е. В. Тарле[194]. Все остальные наши историки – и дореволюционные, и советские – подсчеты французов взяли под сомнение и в большинстве своем оперировали цифрами А. И. Михайловского-Данилевского: потери союзников – 27 тыс. убитых, раненых и пленных (в том числе 21 тыс. русских), 158 орудий (русских – 133), 30 знамен; потери французов – до 12 тыс. человек[195]. Все восемь пленных генералов (известных поименно) – русские. Среди них был начальник 3-й колонны генерал-лейтенант И. Я. Пржибышевский.
Лишь в постсоветское время Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев избрали оптимальную методику исчисления потерь при Аустерлице: русских – по русским ведомостям, французских – по французским[196]. По этой методике наиболее обоснованными (хотя и с оговоркой «приблизительно») выглядят подсчеты О. В. Соколова: союзники потеряли 30–35 тыс. человек (25–28 тыс. русских и 6 тыс. австрийцев), 197 орудий (160 русских и 37 австрийских) и от 14 до 17 знамен; французы – около 9–9,5 тыс. человек[197].
Некоторые из наших историков (П. А. Жилин, Л. Г. Бескровный, Н. Ф. Шахмагонов, А. М. Валькович) пытаются преуменьшить масштабы аустерлицкого разгрома союзников, цитируя при этом реляцию М. И. Кутузова царю, где сказано, что «российские войска <…> почти до самой полночи стояли (?! – Н. Т.) в виду неприятеля, который не дерзал уже более возобновлять своих нападений», и что урон русской армии «не доходит до 12 000», тогда как у французов «простирается до 18 000»[198]. Тот факт, что Александр I после Аустерлица повелел Кутузову «прислать две реляции: одну, в коей по чистой совести и совершенной справедливости были бы изложены действия <…>, а другую – для опубликования», предан гласности еще в 1869 г. М. И. Богдановичем[199]. Кутузов выполнил это повеление. С тех пор и доныне наши «патриоты» рассуждают об Аустерлице не «по совести и справедливости», а «для опубликования», опираясь на кутузовскую реляцию[200].
В действительности же аустерлицкий разгром был для России и Австрии ужасающим. Официальный Петербург воспринял его тем больнее, что русская армия больше 100 лет, после Нарвской битвы 1700 г., никому не проигрывала генеральных сражений и что при Аустерлице, опять-таки впервые после Петра Великого, возглавлял русскую армию сам царь. «Здесь действие Аустерлицкой баталии на общественное мнение подобно волшебству, – писал Ж. де Местр из Петербурга в Лондон 4 января 1806 г. – Все генералы просят об отставке и кажется, будто поражение в одной битве парализовало целую империю»[201].
Зато Париж и вся Франция ликовали. Наполеон еще не знал об этом, но был уверен, что так и будет, когда он писал своей Жозефине 3 декабря 1805 г. из Аустерлица: «Я разгромил русско-австрийскую армию, которой командовали два императора. Немного устал. Жил на воздухе восемь дней и восемь морозных ночей. Завтра смогу отдохнуть в замке князя Кауница[202] и постараюсь поспать там два-три часа. Русская армия не просто разбита, но уничтожена. Обнимаю тебя. Наполеон»[203]. В один день с этим письмом (необычно скупым на эмоции) Наполеон обратился к Великой армии с эмоциональным, как нельзя более, воззванием, которое начиналось так: «Солдаты!
Я доволен вами»[204]. Эти слова были тогда на устах у всех французов – не только солдат. Главное же, то были не пустые слова. «Два миллиона золотых франков, – читаем у Д. Чандлера, – были розданы офицерам. Наполеон дал щедрые пенсии вдовам погибших. Осиротевшие дети были официально усыновлены самим императором, и им было позволено добавлять имя “Наполеон” к своим именам, данным при крещении. Память Аустерлица должна была оставаться навеки живой!»[205] Герой Аустерлица артиллерийский офицер Октав Левавассер вспоминал о том времени: «Париж был весь в эйфории энтузиазма, как и вся Франция <…>. Император своей победой заставил замолчать все враждебные голоса. Он вырос в глазах Франции, и она видела только его славу»[206].
Впрочем, «битва трех императоров» имела значение, далеко выходившее за рамки интересов Франции, России и Австрии. «Она потрясла современников, а затем вошла в летописи истории не потому, что один император взял верх над двумя другими, – справедливо заключил А. З. Манфред. – Современники видели в Аустерлицкой битве <…> решающий поединок нового и старого миров»[207]. Всемирная история уже тогда знала ряд битв, более крупных по числу участников и жертв, но трудно найти среди них такую, которая сравнилась бы с Аустерлицем по значимости. 2 декабря 1805 г. на поле Аустерлица столкнулись не просто три императора, три армии, три державы, а именно два мира – только что утвердившийся буржуазный и обветшалый феодальный. Победа Наполеона (самая яркая из всех его более чем 50 побед) давала ему возможность провозгласить освобождение народов, порабощенных Габсбургами и Романовыми, – венгров, чехов, словаков, поляков – и поднять всю Центральную Европу под знамя идей Французской революции. Но император Наполеон смотрел на мир уже иными глазами, нежели генерал Бонапарт, – теперь он предпочитал союзу с народами союз с монархами.
Главную свою задачу – разгромить третью коалицию – Наполеон под Аустерлицем решил. Император Австрии Франц I через день после битвы сам явился к Наполеону с повинной – перепуганный, смиренный, буквально убитый позором Ульма и Аустерлица. Всем своим видом он подтверждал точность эпиграммы, которую сочинил о нем К. Ф. Рылеев, осведомленный, между прочим, о страсти Франца убивать мух:
Весь мир великостию духа
Сей император удивил:
Он неприятель мухам был,
А неприятелям был муха[208].
Наполеон принял Франца у костра на своем бивуаке. «Вот дворец, в котором я живу два месяца», – сказал победитель, любезно приглашая побежденного на переговоры. По воспоминаниям очевидцев, которые стояли поодаль и могли слышать отдельные фразы монархов, император Франц обругал англичан («это – торговцы человеческим мясом»), а на вопрос Наполеона: «Итак, Ваше Величество, вы обещаете мне, что больше не начнете войну?», с жаром ответил: «Да, я клянусь и сдержу свое слово!»[209] 6 декабря в Аустерлицком замке Наполеон и Франц договорились о перемирии, согласно которому русская армия должна была за 14 дней очистить Моравию и Венгрию и вернуться домой.
А на следующий день к Наполеону явился граф Х.-А. Гаугвиц, который три недели ехал из Берлина с ультиматумом от Пруссии. Теперь, запрятав ультиматум подальше, Гаугвиц поздравил Наполеона с победой. Наполеон усмехнулся: «Ваши поздравления предназначались другим. Фортуна переменила их адрес»[210]. Так Пруссия отпала от третьей коалиции, не успев вступить в нее.
Тяжело переживала аустерлицкую катастрофу Англия. Премьер-министр У. Питт 23 января 1806 г. умер, как полагали, с горя, сохраняя до смертного часа тот подавленный вид, который его министры называли «взглядом Аустерлица»[211]. Кстати, тогда же в Австрии умер «от горя и злости» (по выражению А. Ф. Ланжерона) Ф. Вейротер, а в России – 28-летний кн. П. П. Долгоруков. Но все это было лишь отголосками главной кончины: умерла третья коалиция.
Пока европейские монархи приходили в себя после Аустерлица, Наполеон в течение полугода по-хозяйски перекроил карту Центральной Европы. 26 декабря 1805 г. в Пресбурге (ныне Братислава) он продиктовал мирный договор Австрийской империи, отняв у нее Венецию, Истрию, Далмацию, Каттаро, Фриуль, где проживала шестая часть всего подвластного Габсбургам населения (4 млн человек из 24-х млн)[212]. Все эти территории отошли к Итальянскому королевству и к союзным с Францией германским государствам – Баварии, Бадену, Вюртембергу. «Франция, – как подчеркивает О. В. Соколов, – непосредственно не получала никаких территориальных приращений. Однако усиливались ее союзники, и прежде всего Италия, которая фактически являлась частью империи Наполеона»[213].
Мало того, к лету 1806 г. Наполеон объединил 16 послушных ему германских княжеств в Рейнский союз, тут же «избравший» его, Наполеона, своим протектором и узаконивший на своей территории Code Napoléon. Этот акт лишил смысла Священную Римскую империю, т. е. верховенство австрийских императоров, тяготевшее над раздробленной Германией уже тысячу лет. Теперь, 6 августа 1806 г. Франц I по предложению Наполеона сложил с себя титул властителя Священной Римской империи. «Изумление и страх произвело падение империи, основанной десять столетий назад гением Карла Великого, пережившей шесть династий и уже три столетия управляемой Габсбургами», – так писал об этом российский историк, автор шеститомной «Истории русского народа» и пятитомной «Истории Наполеона» Н. А. Полевой[214].
133
Тарле Е. В. Цит. соч. С. 187. П. А. Жилин безосновательно увеличивал численность войск Наполеона до 150 тыс., Ю. Н. Гуляев и В. Т. Соглаев – до 200 тыс., а Л. Г. Бескровный – до 220 тыс. человек (Жилин П. А. Фельдмаршал М. И. Кутузов. М., 1988. С. 99; Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Фельдмаршал Кутузов. Историко-биографический очерк. М., 1995. С. 205; Бескровный Л. Г. Указ. соч. С. 28).
134
Correspondance de Napoléon. T. 11. № 9470. P. 476.
135
Иногда местом этого боя называют г. Дюренштейн, соседний с Кремсом.
136
Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Указ. соч. С. 211–212; Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 1. С. 247–248; Чандлер Д. Цит. соч. С. 258; Лашук А. Цит. соч. С. 190.
137
См.: Чандлер Д. Цит. соч. С. 258. Вальтер Скотт в его цит. соч. (Т. 1. С. 422) утверждал, что армия Кутузова за все время отступления из Браунау к Ольмюцу ни на одной позиции «не могла дать успешный отпор».
138
Жилин П. А. Указ. соч. С. 95, 367.
139
Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Цит. соч. С. 212.
140
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 1. С. 246, 248.
141
Подробно см.: Там же. С. 249–254; Тарле Е. В. Цит. соч. С. 186; Чандлер Д. Цит. соч. С. 259; Лашук А. Цит. соч. С. 188.
142
Чандлер Д. Цит. соч. С. 259.
143
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 1. С. 264–265.
144
Марбо М. де. Мемуары. М., 2005. С. 149.
145
«Одно вместо другого» (лат.), означает, что произошло недоразумение, поскольку что-то одно приняли за что-то другое. – Примеч. ред.
146
Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 19 ноября 1805 г. // М. И. Кутузов. Сб-к док-тов. М., 1950. Т. 2. С. 171. Курсив мой. – Н. Т.
147
Correspondance de Napoléon. T. 11. № 9497. P. 505.
148
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 1. С. 256 и сл.
149
См.: Бартыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Ч. 3. С. 44.
150
Верста – 1,067 км.
151
См.: Бутовский И. Г. Фельдмаршал кн. Кутузов при конце и начале своего боевого поприща. СПб., 1858. С. 18.
152
Жилин П. А. О войне и военной истории. С. 503, 504.
153
А. З. Манфред насчитывал 73 тыс. французов и 85 тыс. союзников, Г. А. Леер – соответственно 73–74 тыс. и 84,5 тыс., Ю. Н. Гуляев и В. Т. глаев – 74 и 84,5 тыс., А. Лашук – 75 и 87 тыс., Д. Чандлер – 66,8 и 90,4 тыс.
154
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 35–36.
155
Шильдер Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 135.
156
Correspondance de Napoléon. T. 11. № 9545. P. 554.
157
Шильдер Н. К. Цит. соч. Т. 2. С. 136.
158
См.: Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. Л., 1957. С. 233.
159
Тарле Е. В. Цит. соч. С. 187–188; Манфред А. З. Цит. соч. С. 472; Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Конец XVIII – первая четверть XIX в. Л., 1956. С. 152. О том же: Нечкина М. В. Михаил Кутузов. М., 1944. С. 13; Брагин М. Г. Кутузов. М., 1975. С. 84. Если верить Л. Г. Бескровному, Кутузов даже «всеми силами боролся» за свою точку зрения (М. И. Кутузов. Сб-к док-тов. Т. 1. С. XIII).
160
Богданович М. И. Цит. соч. Т. 2. С. 82.
161
Соловьев С. М. Император Александр I. Политика. Дипломатия. М., 1995. С. 104.
162
Шишков А. С. Записки, мнения и переписка. Berlin, 1870. T. 1. C. 168169; Местр Ж. де. Петербургские письма 1803–1817. СПб., 1995. С. 63; Русский двор в конце XVIII и начале XIX ст. Из записок кн. А. Чарторыйского (1795–1805). СПб., 1908. С. 158.
163
Фонвизин М. А. Соч. и письма. Иркутск, 1982. Ч. 2. С. 153.
164
Михайловский-Данилевский А. И. Александр I и его сподвижники. СПб., 1846. Т. 3. Вып. 53. С. 22–23.
165
Леер Г. А. Подробный конспект. Война 1805 г. Аустерлицкая операция. СПб., 1888. С. 34; Гейсман П. А. М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский // Русский биографический словарь / под набл. А. А. Половцова. СПб., 1903. Т. 9. С. 652.
166
Колонны соответствовали корпусам, которые будут введены в русской армии (по примеру французской) лишь в 1810 г.
167
Леер Г. А. Цит. соч. С. 34.
168
Богданович М. И. Цит. соч. Т. 2. С. 57, 58.
169
Шильдер Н. К. Цит. соч. Т. 2. С. 139.
170
Соловьев С. М. Цит. соч. С. 105.
171
Михайловский-Данилевский А. И. Полн. собр. соч. СПб., 1849. Т. 1. С. 140; Подорожный Н. Е. Кутузов. М., 1942. С. 64; Полководец Кутузов. Сб-к статей. М., 1955. С. 82; Жилин П. А. Фельдмаршал М. И. Кутузов. С. 100; Сироткин В. Г. Отечественная война 1812 г. М., 1988. С. 76; Бескровный Л. Г. Указ. соч. С. 33. Есть и оригинальная постсоветская версия о Кутузове при Аустерлице: «Его просто-напросто заставили командовать заранее проигранным сражением» (Андрианова И. А. Спаситель отечества. М., 1999. С. 169).
172
Мелентьев В. Д. Кутузов в Петербурге. Л., 1986. С. 115. Курсив мой. – Н. Т.
173
Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра… С. 182; Шильдер Н. К. Цит. соч. Т. 2. С. 140.
174
Лашук А. Цит. соч. С. 199.
175
Correspondance de Napoléon. T. 11. № 9533. P. 536.
176
Мережковский Д. С. Цит. соч. С. 190.
177
Марбо М. де. Цит. соч. С. 158–159.
178
Подробно о битве при Аустерлице, кроме цит. соч. Г. А. Леера и О. В. Соколова, см.: Slovak A. Die Schlacht bei Austerlitz. Brunn, 1898; Thiry J. Ulm, Trafalgar, Austerlitz. P., 1962.
179
Ланжерон А. Ф. Записки // Военный сб-к. 1900. № 11. Прил. С. 35.
180
Там же. С. 35–36.
181
Валишевский К. Сын великой Екатерины. Император Павел I. Его жизнь, царствование и смерть. СПб., 1914. С. 608.
182
Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны… С. 184.
183
Леер Г. А. Цит. соч. С. 43.
184
См.: Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны… С. 188–189.
185
Марбо М. де. Цит. соч. С. 161.
186
Марбо М. де. Цит. соч. С. 163–165.
187
Цит. по: Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 75.
188
Ермолов А. П. Записки 1798–1826. М., 1991. С. 58.
189
Там же. С. 57.
190
Чандлер Д. Цит. соч. С. 271.
191
Воспоминания Н. Г. Репнина цит. по: Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 57.
192
Из рассказов старого лейб-гусара // Русский архив. 1887. № 3. С. 193.
193
Tranié J., Carmigniani J. Napoléon et la Russie. P., 1980. T. 1. P. 123.
194
Тарле Е. В. Цит. соч. С. 191.
195
Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны… С. 209210.
196
См.: Гуляев Ю. Н., Соглаев В. Т. Цит. соч. С. 228.
197
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 77–79.
198
М. И. Кутузов. Т. 2. С. 257–259. Курсив мой. – Н. Т. См.: Бескровный Л. Г. Указ. соч. С. 37; Жилин П. А. Фельдмаршал М. И. Кутузов. С. 102; Шахмагонов Н. Ф. Кому служил барон? // Дорогами тысячелетий. М., 1989. Кн. 3. С. 197.
199
Богданович М. И. Цит. соч. Т. 2. С. 105.
200
В постсоветском издании к 250-летию со дня рождения Кутузова эта фальшивка еще раз перепечатана (Фельдмаршал Кутузов. Док-ты, дневники, воспоминания / отв. составитель А. М. Валькович. М., 1995. С. 90–93). Показательно, что «фанаты» Кутузова любят цитировать сказанное им перед собственной свитой (что называется, «на публику»): «Я не виноват в Аустерлицком сражении», но игнорируют его признание в откровенном разговоре с фельдмаршалом А. А. Прозоровским: «Я проиграл Аустерлицкое сражение, да не плакал» (Из записок фельдмаршала кн. И. Ф. Паскевича // Русский архив. 1889. Кн. 1. С. 412). Один из таких «фанатов» Ю. Н. Леонов сопроводил портрет-плакат Кутузова из серии «Отчизны верные сыны» (М., 1987) текстом: «В своей жизни он не проиграл ни одного сражения».
201
Местр Ж., де. Указ. соч. С. 61.
202
Кауниц Венцель Антон, князь Кауниц-Ритберг (1711–1794) – выдающийся австрийский дипломат, в 1753–1792 гг. государственный канцлер.
203
Letters of Napoleon to Josephine. New York, 1931. P. 105–106.
204
Correspondance de Napoléon. T. 11. № 9537. P. 539.
205
Чандлер Д. Цит. соч. С. 275.
206
Цит. по: Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 101.
207
Манфред А. З. Цит. соч. С. 478.
208
Рылеев К. Ф. Стихотворения… М., 1956. С. 266.
209
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 90–91.
210
Lefebvre A. Histoire des cabinets de l’Europe pendant le Consulat et l’Empire. P., 1900. T. 2. P. 232.
211
История XIX века / под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. М., 1905. Т. 1. С. 67.
212
См.: De Clerc. Recueil de traites de la France. P., 1880. T. 2. P. 145–151.
213
Соколов О. В. Аустерлиц. Т. 2. С. 99.
214
Полевой Н. А. История Наполеона. СПб., 1844. Т. 3. С. 45–46.