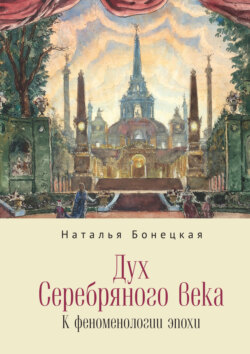Читать книгу Дух Серебряного века. К феноменологии эпохи - Н. К. Бонецкая - Страница 3
Раздел 1
Ф. Ницше и русская мысль Серебряного века
Русский Ницше и пути постницшевского христианства[5]
ОглавлениеЯ ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым.
Ф. Ницше. Ессе Homo (1889) [6]
Сочинения Ницше начали проникать в Россию, по-видимому, уже в конце 1880-х годов. В «Ecce Homo» среди мировых столиц, «открывших» его, Ницше упоминает Санкт-Петербург; дочь Л. Шестова сообщает, что в самом начале 1890-х годов книги Ницше привез из Германии на родину П.Д. Боборыкин[7]. Российская цензура поначалу запрещала распространение произведений Ницше, делая исключение для текста «Так говорил Заратустра», который, видимо, принимала за чисто художественный; книгу можно было купить в немецком книжном магазине в Москве. Об этом рассказывает в своих «Воспоминаниях» Евгения Герцык – одна из первых переводчиц Ницше. Будучи летом 1899 г. в Германии, Евгения и ее сестра приобрели там двухтомник Ницше и перевезли его через границу под одеждой. Уже до того «заболев» Ницше, по возвращении они с жаром принялись переводить – и вот, в издательстве Ефимова в переводе Евгении и Аделаиды Герцык одна за другой выходят книги Ницше: «Утренняя заря» (1901), «Помрачение кумиров» (1902), «Несвоевременные размышления» (1905)…[8] Впрочем, все корифеи русской мысли Серебряного века читали Ницше в оригинале.
Раньше других под знак Ницше в своем творчестве встали Шестов и Мережковский. Ницшеанские мотивы прослеживаются в ряде очерков Мережковского второй половины 1890-х годов, вошедших в книгу «Вечные спутники» (об Еврипиде, Гёте, – прежде всего о Пушкине); Ницше по сути является третьим «героем» книги «Л. Толстой и Достоевский», которую Мережковский публиковал частями в журнале «Мир искусства» в 1900–1902 гг. Но первым, кто ввел Ницше в становящуюся культуру Серебряного века, был Шестов как автор двух книг: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше» (1900) и «Достоевский и Нитше» (1902). Русский Ницше – это, прямо скажем, фантом, в котором, надо думать, автор «Антихриста» вряд ли бы признал себя. Дело в том, что, как замечал Бердяев, «тема Ницше представлялась русским темой религиозной по преимуществу»[9]: Ницше, вопреки его настойчивому позиционированию себя в качестве атеиста, всерьез считали религиозным учителем, пророком нового христианства, святым, посвященным. Русский Ницше – коллективное создание мыслителей Серебряного века: Шестов набросал контуры этого лица, отдельные черты которого были вслед затем выписаны Мережковским, Андреем Белым, Бердяевым, Вяч. Ивановым. «Русский Ницше» – плод «русской герменевтики», – в данном случае, так сказать, герменевтики сравнительной – не просто интерпретации текстов Ницше, но и параллельного толкования этих последних и, к примеру, произведений русских классиков XIX в. Словно наведенные одно на другое зеркала, стоят в трактатах Шестова и Мережковского друг против друга Ницше и Толстой, Ницше и Достоевский, взаимно углубляясь и обогащаясь каждый свойствами своего vis-a-vis: в сочинениях позднего Ницше критикам слышатся голоса героев романов Достоевского, а эпический пафос автора «Войны и мира», возносящийся над антитезой добра и зла, одним из них сопоставляется с ницшеанской философией жизни. Русский Ницше – это не портрет, а, скорее, икона, и представленный ею лик не индивидуален, а тяготеет к универсальной человечности. Так, чтобы понять судьбы не только Достоевского, но и Кьеркегора, Паскаля, Лютера, Августина… и вплоть до библейских пророков, Шестову понадобилось вписать в их воззрения бытийственные интуиции Ницше.
Так что ж, «русский Ницше» не имеет ничего общего со своим прототипом и есть его ложный образ? тогда чем, как не конфузом, неудачей была бы вся русская ницшеана, – в частности, сравнительная, с привлечением Ницше, герменевтика Мережковского? Кажется, дело обстоит сложнее. К. Свасьян, сторонник старой русской рецепции Ницше (см. вышеприведенную бердяевскую цитату), по мнению которого даже и в «Антихристе» «не пахнет атеизмом»[10], призывает (используя выражение самого Ницше) за его словами распознавать «музыку, страсть и личность» [11]. Именно многослойная личность мыслителя, бурная динамика его душевной жизни и были предметом русской герменевтики. Слова, скудные плоды внутренней борьбы (но при этом и свободного выбора), тем самым оказывались под подозрением: к примеру, Ницше клеймил добрых и справедливых, но и его собственная катастрофа была спровоцирована как раз присущей ему отзывчивой сострадательностью[12]. Евгения Герцык вспоминает, что в 1900-е годы не замечала в книгах Ницше «ницшеанства», ницшевской идеологии – аморализма, жестокости, безбожия: Ницше входил в русскую душу «щемящей занозой» жалости, и при этом как вестник того, что «мир глубок» и человек на пороге нового открытия Бога[13]. Экзистенциальная пронзительность текстов Ницше в глазах мыслителей Серебряного века была свидетельством его духовного – религиозного опыта; в психологически виртуозных суждениях находили пророческие истины. Ориентация на «музыку» и «страсть» расковывала герменевтический произвол – вплоть до обнаружения в сочинениях Ницше сокровенных евангельских смыслов. Русская рецепция Ницше порождала невероятный соблазн – Ницше христианизировался, соответственно Евангелия ницшезировались… В конкретной герменевтической практике воззрение Ницше распадалось на «мотивы» – «смерти Бога», «сверхчеловека», «по ту сторону добра и зла», «вечного возвращения», «Диониса», ставшего эвфемизмом для той антропологической реальности, которую Фрейд обозначит как бессознательное… При этом «по умолчанию» стали предполагать, что в целом речь идет об откровении апокалипсического христианства, пророком которого был Ницше. И если к сфере герменевтики вообще приложимы понятия правды, истины – и лжи, ошибки, то русское ницшеанство, чтение классических текстов через «призму» Ницше, являет собой пеструю смесь удач и просчетов, попаданий в десятку – и самых жутких смысловых аберраций. Ряд таких «сюжетов» мы обсудим в связи с герменевтикой Мережковского. Но проблема самого Ницше остается на сегодняшний день открытой. Он угадал многое, связанное с утратой христианского пути к Богу. Но чаемое им отпадение человечества от христианства не породило – вопреки его ожиданиям – великой культуры. И вряд ли Ницше, которого шокировала уже атмосфера вагнеровского Байрейта, смог бы просто дышать в современном культурном воздухе…
В книге «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902) Мережковский не только упоминает труд Шестова 1900 г. «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Нитше»[14], но и заимствует из него ряд идей. Именно Шестов первым вовлек Ницше в герменевтическую проблематику и дал оценку его феномену. Мережковский принял шестовский образ Ницше и представил его в несколько ином ракурсе. Шестов задал тон всей последующей русской «сравнительной» герменевтике, и потому надо достаточно пристально вглядеться в созданную им икону.
И действительно, в трактате Шестова содержится самый недвусмысленный апофеоз Ницше. «Я знаю, что слово «„святой” нельзя употреблять неразборчиво, всуе, – заявляет Шестов. – <…> Но в отношении к Нитше я не могу подобрать другого слова. На этом писателе – мученический венец»[15]. Свой эпатирующий тезис (ведь понятия «святость», «мученичество» для Ницше в числе одиознейших) Шестов обосновывает так. Ницше был в высшей степени нравственным человеком – фактически христианским монахом («служил «„добру”», «отказывался от действительной жизни» – «всех природных инстинктов и запросов», «не мог и ребенка обидеть, был целомудрен, как молодая девушка» и пр.), – но вот, в расцвете лет был разбит неизлечимой мучительной болезнью. Вместо награды «добро сыграло над ним коварную шутку» – и совесть Ницше восстала на «добро». Философию Ницше Шестов выводит из праведного, «святого» бунта «немецкого профессора» против постигшей его несправедливости: остаток жизни Ницше посвятил пересмотру традиционных представлений о добре и зле. Что же касается веры в Бога (которая могла бы примирить Ницше с его участью), то хотя он страстно искал ее, верить ему дано не было, – с кальвинистской убежденностью утверждает Шестов[16]. И если Ницше «играет святынями» – богохульствует, а вместе конструирует «идеал сверхчеловека», то призыв Шестова – не доверять ему, ибо «это все – напускное», «видимость, внешность, – для других»: «учение <…> только закрывает от нас <…> миросозерцание» [17].
Как видно, стремясь «беатифицировать» Ницше, Шестов отвергает прямой, непосредственный смысл ницшевских текстов. Так в русской герменевтике возникла важная тенденция – вслед за Шестовым их стали читать «наоборот», в соответствии с «музыкой», которую умели расслышать за словами. «Сочувственному взгляду» Шестова открылась за завесой «учения» «мучительная тайна» Ницше, – и мы можем себе представить тот гнев, который бы обрушил Ницше на голову нашего интерпретатора. Как бы вынес он жалость к себе со стороны Шестова, а вслед за ним сестер Герцык, Мережковского и прочих своих русских почитателей? Но думается, Шестов был бы просто обвинен в клевете, узнай Ницше, что разумел его российский толкователь под упомянутой «тайной». А именно: Шестов считал, что Ницше «подвергал сомнению все великое, высокое и богатое <…> единственно затем, чтобы оправдать свою жалкую и бедную жизнь», – «ведь нищий-то духом был он сам»[18].
Здесь не просто уничтожающий (хотя и невольный) выпад в адрес Ницше-мегаломана: согласно точно выверенному выражению Шестова, получается, что автор «Антихриста» – совершенный христианин, блаженный («Блаженны нищие духом…»: Мф.5,3)! Эта шестовская интуиция красной нитью пройдет через всю русскую ницшеану. Общим местом русской герменевтики станет и представление о Ницше как о христианском богослове-эзотерике, дополняющее его иконописный жизненный лик. Опять-таки впервые выдвинул его не кто иной, как Шестов. По его убеждению, Ницше, дошедший до «поразительной нравственной высоты именно в евангельском смысле», учил в соответствии с «самыми загадочными словами евангельской благовести: солнце одинаково всходит над грешными и праведниками». Ему открылась «великая истина» – «зло нужно так же, как и добро, больше, чем добро», – именно таков, по Шестову, смысл Мф. 5, 45[19]. Как видно, Шестов хочет вписать в Евангелие манихейское воззрение. Не он ли развязал руки «дионисическим» и «люциферианским» толкователям Евангелий – экзегетам Мережковскому и Иванову? Ницшезация Нового Завета – быть может, самый большой соблазн, которому подпали русские ницшеанцы.
Думается, книга Шестова о Толстом и Ницше стала важным водоразделом русской мысли. Шестов не только попытался принять ницшевский вызов традиционному сознанию, но и создал образ Ницше как религиозного учителя. «Нитше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога»[20], – так заканчивается это примечательное сочинение. «Живой родник. Самое нужное – самыми простыми словами»: двадцатидвухлетнюю Евгению Герцык – а это весьма симптоматичная для Серебряного века фигура – именно шестовский трактат вывел из мировоззренческого тупика[21] (Герцык 1996, 104). Но призыву Шестова вняли и ее старшие современники – Мережковский, Бердяев, Иванов. Новое религиозное сознание встало под знак Ницше, и мы вправе называть его постницшевским христианством[22]. Это последнее усвоило и методологию Шестова – чтение сочинений Ницше «с точностью наоборот». Для новой герменевтической логики привычным стало именовать «святым мучеником» того, кто считал святых «физиологически-заторможенными существами», «идеальными кастратами», мучеников – «тупицами в вопросе об истине». И хотя Ницше не уставал повторять, что отрицает «Бога как Бога»[23], его ученики в России посвятили десятки трактатов открытому им «пути» к Богу.
При этом российские «изводы» ницшевской «иконы» вообще сильно редуцировали многогранно-противоречивый образ философа… редуцировали к личности интерпретатора. В случае Шестова (чьей областью были этика и религия) решающую роль сыграли его сострадательность, удивительная доброта, которые отмечают мемуаристы[24]. Е. Герцык, чей образ Ницше сложился под влиянием Шестова, сближала в своих представлениях Заратустру (вместе с Ницше) с калекой-горбуном из ницшевской поэмы[25], – но герцыковская «икона» – не что иное, как двойник шестовского «нищего духом». Сводя по сути философию Ницше к воплю озлобившегося на всех и вся инвалида, Шестов, принявший Ницше за нового Иова, сильно упрощает реальное положение дел. Даже в плоскости психологии (которую Шестов не покидает) действительный образ Ницше, создаваемый его текстами, выглядит несравненно богаче. Так, Ницше силился найти в болезни исток творческой мудрости и рассматривал ее как «великое здоровье». И выражение «amor fati», содержащее in nuce всю философию Ницше, указывает, что в его сочинениях звучит иная – куда более изысканная (чем «вопли») «музыка». Шестов хочет свести «тайный» пафос Ницше к тем ressentiment и decadence, борьбу с которыми в себе самом он описал в «Ecce Homo». Вопреки ярлыку «нищего духом», навешенному на философа Шестовым, в этой своей автобиографии он заявил: «Инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния»[26]. Но главное состоит том, что Шестов – диссидент от иудаизма, морализирующий рационалист – не заметил Ницше-мистика, элиминировал действительную глубину его внутренней жизни, его встречи с трансцендентным, из своей концепции Ницше-«Иова». Настоящая тайна Ницше не попала в поле его зрения: так, многословно рассуждая о «великом разрыве» Ницше с христианскими убеждениями (детально описанном в предисловии 1886 г. к «Человеческому, слишком человеческому»), он словно не заметил, что событие рождения в себе «свободного ума» (в 1876 г.) Ницше изображает как подчинение себя внешней злобной силе. Пренебрег Шестов и ницшевским опытом встреч с двойником (стихотворение «Сильс-Мария»), и астральными «птичьими» полетами, к которым, после катастрофы «разрыва», нередко вынуждался философ…
Что же воспринял от Ницше первый ницшеанец Серебряного века Шестов? Главными для него были ницшевский мотив революции в морали и сопряженная с ним идея «смерти Бога», которую Шестов принял как призыв к личному богоискательству. Уже в начале 1900-х он произвел «переоценку» добра и зла: в книге о Толстом и Ницше скомпрометировал добро, в книге о Ницше и Достоевском – «оправдал» зло. Вслед за Шестовым добром и злом жонглировали Мережковский и Бердяев: первый – в своей манихейской концепции двух равнозначных «бездн», второй – выдвигая рискованный императив индивидуального нравственного творчества. Собственным коньком Шестова-ницшеанца стал крайний иррационализм: словно желая превзойти Ницше в отрицании морали и догматики, Шестов восстал и против «общих истин» как таковых, – против человека как homo sapiens. Взяв сторону Бога Библии, запретившего людям вкушать плодов древа познания, Шестов отвергнул ницшевскую интерпретацию этого сюжета: Ницше, понятно, использовал его, чтобы лишний раз проклясть Бога – «врага» мысли… Наконец, достаточно аморфная «философия жизни» раннего Шестова трансформировалась в яркий и самобытный шестовский экзистенциализм именно благодаря его «сочувственному» вглядыванию в судьбу Ницше. И если уже в 1920-х годах Шестов пришел к согласию с самыми глубокими истинами христианства, то это случилось благодаря его постоянным оглядкам на нее: ведь Паскаль, убедивший Шестова в универсальной человечности, – более того, божественности Христа, воспринимался Шестовым как тот, кто «воскрес через два столетия в Нитше»[27]. Парадоксальным образом «имморалист» и «антихристианин» сыграл самую положительную роль в духовном развитии Шестова.
Как «иудей»[28] – хотя бы через семью причастный к религии Закона, Шестов, естественно, и в связи с Ницше проблематизировал в широком смысле закон. Тяготеющий же к «эллинству» Мережковский воспринял у Ницше языческие мотивы: тему «Диониса» и «Аполлона» – в частности, и как древних богов[29], которые хотя и «погибли», но могут (и должны!) «воскреснуть»; проблему «смерти Бога» и «сверхчеловека» Заратустры, – ее русский мыслитель трактовал как критику исторического христианства, которое уступит место христианству апокалипсическому; вместе с тем и культ героической, сильной личности, а также здоровья и свободы инстинктов, – последняя мыслилась Мережковским в качестве истока оргийного культа. Еще в большей мере, чем Шестов, Мережковский не доверял постоянным заявлениям Ницше о себе как об атеисте и позитивисте. Напротив, для него было весьма значимо то, что, уже впав в безумие, Ницше подписывал свои послания к знакомым именами «Дионис», «Распятый» и «Распятый Дионис». Русские ницшеанцы в подобных проявлениях раскованного бессознательного усматривали подлинный message Ницше человечеству – призыв соединить христианство с язычеством – такова установка и нового религиозного сознания Мережковского. Ницшевские филиппики в адрес метафизики и веры Мережковский игнорировал, манихейской же морали Ницше («по ту сторону добра и зла») он придал онтологический и религиозный смысл: две бытийственные – духовные бездны, верхняя и нижняя, для человека в равной мере должные, одинаково спасительные[30].
И вот еще симптоматичные заимствования. У Ницше большую роль играет оппозиция человек и животное — ведь он жил в эпоху увлечения дарвинизмом. Говоря о человечестве, он швыряется эпитетами «рогатый скот», «жирные зверьки» (о женщинах), кто-то для Ницше – «бараны-передовики», а кто-то – «вольные птицы». Заратустра не совсем в шутку называет человека «самым жестоким из всех животных», и в «Ecce Homo» говорится о животном «сильнейшем и хитрейшем». Понятно, с чем это связано: в своей антропологии Ницше ради эпатажа смещает ценностный «центр тяжести» человеческого существа в область инстинктов – сферу животности, объявляя производным от нее начало духовно-сознательное[31]. Однажды (в трактате «О пользе и вреде истории для жизни») Ницше называет инстинкт, руководящий человеком, «божественным зверем»[32]. Эту ницшевскую редукцию человечности к бестиальности Мережковский берет на вооружение, конструируя свое новое религиозное сознание. В книге «Л. Толстой и Достоевский» он, в связи с Толстым, развивает свою «пророческую думу» о «святой плоти» — «о переходе человеческого в божеское не только через духовное, но и через животное»[33]. Речь у Мережковского идет не только о «змеиной мудрости» князя Андрея и «голубиной простоте» Платона Каратаева – толстовских героях, исполнивших евангельский призыв (Мф. 10, 16), – даже не просто о «тайновидце плоти» Толстом, запечатлевшем собственное «звериное» ведение в образе стихийного язычника дяди Ерошки: намеки Мережковского ведут в конце концов к оргийным культам типа того дионисического «радения», которое изображено, в соответствии с «Вакханками» Еврипида, в позднем романе Мережковского «Тутанкамон на Крите». В освобождении инстинктов от скреп разума Мережковский вновь, после девятнадцативекового господства христианства, хочет обрести путь к Богу, перебросив «мост от до-человеческого к сверхчеловеческому, от Зверя к Богу», – таково его «пророчество».
Кажется, Мережковский понял «путь» Ницше – суть проделанного им над собой страшного эксперимента, – причем понял вернее, чем К. Свасьян. Последний считает существенной причиной безумия мыслителя утрату им собственного «я», потерявшегося в калейдоскопе смены авторских масок[34]. Между тем внутренней работой Ницше, явственно представленной его сочинениями, сделались постоянные, доходящие до ярости усилия по изгнанию из себе Христа. Согласимся с нашими ницшеанцами: Ницше был от природы прекрасным человеком, потенциальным святым, – но совершил все для того, чтобы отвергнуть свое призвание. Гордая брезгливость к пороку, утонченная чистоплотность, блестяще им отрефлексированная, действительно запрещали ему грешить делом. Но в помыслах он сполна осуществлял свой страшный тезис: «Я радуюсь великому греху как великому утешению своему». «Зло есть лучшая сила человека»[35] – и Ницше культивировал в себе тотальную ненависть, планомерно истребляя доброту, сострадательность, любовь и пр. Отрекшийся от Христа Ницше имманентно получил в точности то, что хотел: Логос оставил его, и инстинкты обрели полную власть над душой. Счел бы или нет «божественным» того «зверя», который выступил в облике Ницше, Мережковский? В 1900 г. ему еще не могли попасть в руки записи свидетелей последних лет жизни Ницше, – картина такова, что несчастный «прыгает по-козлиному», «почти всегда спит на полу», «испускает нечленораздельные крики» [36] и «доходит до рычания». Впрочем, в кружке Стефана Георге считали «душевную болезнь Ницше „восхождением в мистическое” и „гордым переходом” в более высокое состояние». Однако Ф. Овербек, который навестил больного в 1895 г., увидел перед собой лишь «смертельно раненное животное, которое хочет единственно, чтобы его оставили в покое»[37],[38]…
В своем восприятии цельного феномена Ницше Мережковский поначалу идет за Шестовым: ницшевская словесная «икона» пишется им тоже с оглядкой на Толстого[39], причем с помощью почти тех же самых, что и у Шестова, выражений. «Над жизнью этого человека сияет венец не только человеческой славы; это был больше чем гений, – это был святой, равный величайшим святым и подвижникам прошлых веков», – заявляет Мережковский вполне всерьез. «Настоящей человеческой жизни у Ницше вовсе не было» – было одно «мученическое житие», умерщвление плоти «духовными веригами»; при этом «проповедник жестокости», он в действительности был «кротчайшим из людей на земле», «бессребреником», отличавшимся «рыцарским благородством», «детской чистотой» и «неодолимой, „исступленной” стыдливостью и целомудренностью, как у Алеши»[40]. Все это, видимо, писалось под воздействием книги 1900 г. Шестова.
Но далее оценки Шестова и Мережковского расходятся. Как мы помним, Шестов с доверием отнесся к заявлениям Ницше о его атеизме – со «святостью» Шестова и Мережковского расходятся. Как мы помним, Шестов с доверием отнесся к заявлениям Ницше о его атеизме, – со «святостью» Ницше Шестов связывал одну его «нравственную высоту». Между тем Мережковский возвел Ницше в ранг религиозного пророка – провозвестника нового христианства. Еще раньше, чем Иванов, увлекавшийся в 1890-е годы за границей равно Ницше и древними культами Диониса, в революционном Петербурге 1905 г. сделавшийся «мистагогом» дионисийских хороводов[41], Мережковский стал развивать проект нового возрождения – грандиозного культурного сдвига, началом которого должна была стать религиозная реформа – синтез христианства и язычества. Ницше стал главной фигурой этого проекта. Независимо от Иванова Мережковский, сопоставив принципы христианства и религии Диониса, пришел к выводу о некоей близости связанных с ними религиозных интуиций: «В последней, бессознательной глубине язычества есть начало будущего поворота к христианству, оргийное начало Диониса – самоотречения, самоуничтожения, слияния человека с богом Паном, Отцом всего сущего», – эту, так сказать, прарелигию Мережковский даже называет «языческим христианством»[42]. Так вот, Ницше, кому еще в молодости было дано познать и открыть миру Диониса – бога трагедии (лозунг «amor fati» указывает именно на него), на самом деле, по мысли Мережковского, был тайнозрителем Христа. Для Мережковского, в отличие от Шестова, была важна мистическая глубина личности Ницше, и он считал его религиозной натурой. Если Шестов-«иудей» игнорировал такие ницшевские самохарактеристики, как, к примеру, «последний ученик и посвященный бога Диониса»[43], то Мережковский находил в них исток нового христианства. Да, Ницше отступился от Христа – именовал его в «Антихристе», невольно отождествляясь с Ним, беглецом от «всякой реальности», «декадентом-эпикурейцем» (!), и наконец, смотря на Христа через призму романа Достоевского, «идиотом»[44]. Однако, полагал Мережковский, Ницше отрицал только исторического Христа – Христа Церквей, – ложный кенотический образ, созданный первохристианской общиной. Да, устами Заратустры он проповедовал, что «худшее из всех дерев – крест»[45], а в «Ecce Homo» напоследок противопоставил «Распятому» — чтимого им, Ницше, «Диониса»[46]. Но, по Мережковскому, существует «страшная и загадочная связь» этого самого «Диониса» (которого Ницше принял за Антихриста) и «тайного» доселе Лика Христа – Христа Апокалипсиса. В этом последнем, мнил русский мыслитель, соединятся «старые» Христос и Антихрист, иначе сказать – Сын и Отец.
Итак, получается, что Ницше, знавший «Диониса», знал отчасти грядущего Христа! По сути, главным ницшевским мотивом для Мережковского оказалось загадочное представление о «вечном возвращении». Мережковский приписал Ницше неотрефлексированный христианский эсхатологизм – «второго Пришествия был он (Заратустра, читай – Ницше) невольным учителем и безмолвным предвозвестником»[47]. Отвергнув Бога, распятого на кресте, Ницше невольно служил Христу воскресшему, ибо «царство „сверхчеловека”, предвещаемое Заратустрой», – это «грядущий Иерусалим», предсказанное в Иоанновом «Откровении» «царство Воскресшей Плоти», которое в конце времен осуществится на земле[48]. Бердяев впоследствии разовьет эту мысль Мережковского о Ницше как пророке апокалипсического Христа во славе; о ницшевском «Христе, не узнанном под ликом Диониса»[49], с некоторыми вариациями будут рассуждать и другие адепты постницшевского христианства – в первую очередь Андрей Белый и Вяч. Иванов. Да, книгу о Заратустре переполняют патологические сюрреалистские образы, что вызывает ассоциации со сновидчески-астральными мирами Босха и Дали; ее эмоциональный фон – бессильная злоба, ее пафос – богохульство. Однако русские поклонники Ницше сквозь эту какофонию ненависти как-то сумели расслышать звуки «музыки», льющейся из царства Любви…
Шестов, как бы не заметив язычества Ницше, принял целиком его судьбу и личность; Мережковский же связал гибель мыслителя с «ошибками» его воззрений. Вместе со всеми прочими русскими философами исток ницшевской катастрофы он усматривал в атеистическом credo, разрушавшем шаг за шагом душу. Ницше любил рок – но не до конца, «не святой любовью»: роковая необходимость не превратилась для него в свободу и рок не сделался «живым, родным Богом-Отцом». Тем самым, рассуждает Мережковский, Ницше и сердцем не познал Христа, открывающегося именно в любви к Богу[50]. В богословии Мережковского 1900 г. – Мережковского «двоящихся мыслей» (Бердяев) – Божество мыслилось преимущественно двуипостасным. «Я и Отец – одно»: постижение этих слов Христа (Ин. 10, 30) Мережковский считал апокалипсическим заданием человечеству. Ему же самому ведома эта «величайшая» тайна, – ей посвящена по сути вся книга о Толстом и Достоевском. Ключом к «тайне» оказался опять-таки Ницше. А именно: речь для Мережковского идет о соединении «двух правд» – «Богочеловека и Человекобога, Христа и Антихриста»[51]. Ведь Бог древних иудеев и язычников, по Мережковскому, – это Антихрист, Человекобог – мститель и ревнитель, бог кровавых жертв, «паук» Ницше и Достоевского. Воплощенное зло, божество это отменено – хотя и не до конца – Христом. И предстоит раскрытие манихейской тайны, представления о двух, «злом» и «добром», ликах божества, что трактуется Мережковским как ницшеанский прорыв «по ту сторону» условных, «слишком человеческих» «добра и зла», истолкованных уже не морально, а метафизически и религиозно: «Богочеловек и Человекобог – уже не два, а одно, с того мгновения, как сказано: „Я и Отец одно”». Так Мережковский «ницшезирует» одну из главных евангельских истин и, как мы увидим впоследствии, кладет ее в основу своей герменевтики.
Русская постницшевская мысль в своей «переоценке» добра и зла, странным образом превзойдя в этом самого Ницше, сосредоточилась на апологии зла. В этическом плане этим занимался Шестов как автор книги «Достоевский и Нитше» (1902), страстный апологет «подпольного человека»[52]. Мережковский же, оправдывая зло, переходил уже в область религии, решаясь на богохульства, коробящие даже сильнее ницшевских. При этом он не гнушался и софистическим передергиванием смыслов. Одним из самых кощунственных мест книги Мережковского о Толстом и Достоевском является анализ истории расстрела Святых Даров, рассказанной Достоевским в «Дневнике писателя» за 1873 г. В самый момент выстрела в причастие стрелявшему деревенскому парню явился Христос на кресте – христоборец упал без чувств. Впоследствии он на коленях приполз в монастырь за покаянием и искупительным страданием, но Мережковский этого конца истории как бы не замечает (как отрицает, «исправляя» замысел писателя, эпилог «Преступления и наказания» – раскаяние Раскольникова). Напротив, его интерес и положительные оценки сконцентрированы на внутреннем аспекте самого кощунства – упоении «бездной», собственной гибелью и пр., охвативших темного парня: «Это – родное, русское, слишком русское, может быть, никому в такой мере, как нам, русским, непонятное». Но превыше всего Мережковского восхищает то, что «сильная душа парня» выдержала напор охватившего ее «мистического ужаса» (с Раскольниковым, порицаемым за это Мережковским, все было иначе). Упорный в своей „дерзости” – верности «началу титаническому и вместе – оргийному, вакхическому, „дионисовскому”» – парень именно поэтому сподобился «неимоверного видения». Последнее Мережковский трактует то ли как награду парню, то ли как духовно-закономерный факт, тогда как в контексте рассказа Достоевского оно было Христовым вразумлением (выстрел все же не был произведен). Герменевтика Мережковского не брезгует такими смысловыми подменами. В данном случае критик хочет сделать писателя своим союзником в оправдании «кажущегося кощунства» – ницшезировать автора «Дневника писателя». Цель Мережковского – обозначить «путь зла» (Блок), которым парень якобы пришел к Богу (без покаяния), – путь, проходящий через «нижнюю бездну»: «В последней глубине кощунства – новая религия; в лике подземного Титана, помраченного Ангела, – лик Светоносного Люцифера, лик другого Бога, который опять-таки, может быть, только кажется другим, а на самом деле есть все тот же Бог, только иначе созерцаемый; в таком случае – зло не для зла, а для нового высшего добра; отрицание не для отрицания, а для нового высшего утверждения»[53]. Здесь уже религиозный апофеоз бунта Ницше, соблазн сатанизма. Из последователей Мережковского в наибольшей степени ему подпал Вяч. Иванов, чьим богом был уже не только Дионис, но и Люцифер, – Иванов, башенный «учитель», увлекший многих в демоническую круговерть… [54]
К реакции Мережковского на вызов Ницше мы вновь вернемся при обсуждении его герменевтики. Здесь же надо остановиться на некоторых других вариантах рецепции ницшевского феномена. Образ Ницше, созданный Андреем Белым, следует рассматривать в контексте его духовного пути от софиологии к антропософии. В 1903 г. вокруг Белого сложился кружок «аргонавтов», ядро которого составили С.М. Соловьёв, Эллис (Л. Кобылинский), А.С. Петровский (переводчик «Авроры» Я. Бёме, впоследствии, как и Эллис, антропософ), – близок к ним был и А. Блок. Члены «союза аргонавтов» идентифицировали его в качестве общества «во имя Ницше»: как выражался в письме к Э. Метнеру Белый, аргонавты устремлялись «сквозь Ницше за золотым руном» — в поисках «неведомого бога»[55]. В Ницше восторженные юноши-соловьёвцы, находившие вечноженственный идеал кто в Морозовой, кто в Менделеевой, а ницшевского Заратустру отождествлявшие с эволюционно заданной «всеединой личностью», «Богочеловеком» Вл. Соловьёва[56], распознавали уже космическую фигуру:
И сам, как полубог, главою ты вознесся
До утренней звезды… но вот исчез туман,
Ты глянул в дольный мир… увидел и сотрясся!
И застонал, и пал, раздробленный титан!
Так, не слишком складно, славил Ницше Эллис, намекавший на его философский люциферизм («утренняя звезда»). Но люциферический мыслитель стал для аргонавтов «переходом к христианству»: «Без Ницше не возникла бы у нас проповедь неохристианства», – писал в 1907 г. Белый в статье «Настоящее и будущее русской литературы»[57]. Именно феномен самого Белого побуждает ныне расценивать религию Серебряного века как христианство постницшевское. Его личный духовный путь намечен вехами таких имен, как Соловьёв – Ницше – Штейнер, но этот вектор можно обнаружить в мировоззренческом становлении едва ли не всех русских «неохристиан» (даже Бердяева). Естественно-научная закваска (выпускник физико-математического факультета Борис Бугаев сам называл себя «химиком») вызвала к жизни Белого-натурфилософа и оккультиста, поставившего свои искания под знак солнца. «Золотое руно» аргонавтов отождествлялось ими с мистическим солнцем (речь шла об искании мистерий и посвящения), – но и Христос Р. Штейнера был великим Солнечным Духом…
У Белого мы снова имеем дело с иконой Ницше, причем градус ученических восторгов, сопоставительно с Шестовым и Мережковским, здесь существенно вырос: первые ницшеанцы видели в Ницше святого, а Белый, в 1908 г. (статья «Фридрих Ницше») уподобивший Ницше «творцам новых религий»[58], всерьез поставил его на один уровень с Христом. Перед внутренним взором Белого парит двойной образ: «Там, на горизонте, стоят они, оба царя, оба – мученика, в багрянице и в тернии, – Христос и Ницше; ведут тихий свой разговор»[59]. Также и жизненный путь Ницше был подобен Христову. «Ницше можно сравнить с Христом. Оба уловляли сердца людские, голубиную кротость соединили со змеиной мудростью»; оба пережили свою «Голгофу» (Ницше – «Голгофу индивидуализма»), – и можно говорить о воскресении обоих: «Встанет меж нами Ницше воскресший: „Был мертв – и вот жив”. <…> В далеком будущем к именам великих учителей жизни, созидавших религию жизни, человечество присоединит имя Фридриха Ницше»[60]. Более того, в глазах Белого Евангелие и «Так говорил Заратустра» Ницше – тексты в общем-то равноправные, одинаково священные, таинственно схожие: «Откроем любое место из „Заратустры”: <…> что-то в Евангелии ему откликнется». Тончайший филолог, Белый не хочет видеть того простейшего факта, что «Заратустра» – это пародия на Евангелие. Напротив, он хочет уравнять смыслы двух книг. Правда, Христос учил любить ближнего, а Ницше – бежать от него, – но Христос выражался не буквально, и «любовь к ближним – это только алкание дальнего»; «„Подтолкни падающего” – мог бы сказать и тот и другой», равно Ницше и Христос; также «учитель легких танцев» Заратустра и Христос, сказавший «бремя Мое легко», разумели одну и ту же «легкость» – «полет головокружительного страдания»…[61] Белый воспринимает Евангелия через призму Ницше и, вслед за Мережковским, «вчувствует» в крестные муки «вакхические восторги»: «Оба (Христос и Ницше) вкусили вина невыразимых восторгов и крови распятия крестного». Приемы герменевтики и экзегетики Мережковского Белый также берет на вооружение – «договаривает» за Христа, «дописывает» за Ницше: «Когда (Ницше) говорит: „Оставайтесь верными земле”, не договаривает „и небу”. Когда Христос учит верности небу, Он вдруг останавливается, как бы не договаривает <…>. „Оставайтесь верными небу”… – „и земле”, – утаил во вздохе Христос». Вообще, «символика Евангелия, если разбить на ней кору мертвого догматизма, крепко срастается с символикой Ницше», то есть и Христос, и Ницше зовут нас «на единственный путь, роковой и страшный»[62]. Проблема «пути» для Белого заключалась в том, как, перед лицом бездны в собственной душе – ревущего «хаоса», из которого восстают «чудовища духа»[63], образы фрейдовского бессознательного, – проложить дорогу к высшему сознанию, одолев натиск инстинктов, фобий, страстей. Белый понимал безумие Ницше очень интимно, и, отвергнув церковную версию спасения от «пучины греха»[64], постоянно ощущал себя в опасности. В отличие от Шестова, принципиального «беспочвенника», Белый искал внешней опоры – эзотерической общины, а прежде всего – духовного учителя, «родного мудреца». Последнего он обрел в 1912 г. в лице Штейнера, а в 1900-е годы источником «мудрости» для него был Ницше.
Переход Белого от «ученичества» у Ницше к ученичеству у Штейнера был закономерен. Антропософия Рудольфа Штейнера – это, по сути, развитие ницшевского проекта сверхчеловека. О заимствованиях здесь говорить не приходится, но к Ницше Штейнер имел огромный интерес. Однажды он посетил в Веймаре больного мыслителя, был допущен к работе в его архиве и позднее издал книгу «Фридрих Ницше – борец против своей эпохи» (1895). На основе представлений теософии Анны Безант, внеся туда христианские мотивы, Штейнер разработал учение о духовной эволюции человека и предложил систему оккультной практики, ускоряющей развитие личности. И сакральная деревянная скульптура «Представителя человечества», выточенная самим Штейнером для Гётеанума – здания для антропософских мистерий в Дорнахе, – скульптура, уцелевшая при пожаре Гётеанума (в новогоднюю – 1922–1923 гг. ночь), – не что иное, как переосмысленный образ Ubermensch'a Ницше.
Когда в 1908 г. Белый писал статью «Фридрих Ницше», трудов Штейнера он еще не знал, однако теософией Безант увлекался со времен «аргонавтики». К Ницше Белого влекла не неоязыческая жилка (так было в случае Иванова, М. Волошина[65] и отчасти Мережковского), а гносеологическая и натурфилософская, при этом и религиозная тенденции его личности. И когда Белый возводит свою концепцию вокруг представления о Ницше как о «новом человеке», он мыслит именно в теософском ключе – понимает «новизну» эволюционно, в «большом» времени. «Существо нового человека предощущает Ницше в себе», первым подойдя «к рубежу рождения в нас нового человека и смерти в нас всего родового, человеческого, слишком человеческого»[66]: теософы и Штейнер видели оккультный смысл современности в приоритетном развитии человеческого «я», – именно в этом и для Белого заключена «эзотерика» ницшевского индивидуализма. Ницше носил в себе тайну будущего духовного человека, лишь указав на нее своим Заратустрой. Потому Белый уподобляет Ницше «крылатому Сфинксу»[67] – это его другая «икона». А «нигилизм» Ницше – отрицание старой морали, «переоценка всех ценностей» – в глазах Белого не что иное, как критика наличного языка, не способного передать прорастающие из недр души новые переживания: «Как назвать боль, если боль не только боль, и радость не вовсе радость, добро не добро, но и зло не зло?» Отрицающий, «демонский образ» Ницше, следовательно, обращен против прошлого, «но то обман: счастливый, как дитя ясный, он отражается в будущем»[68]. Гуманист-Шестов «злую мудрость» Ницше оправдывает его болезнью, – для Белого болезнь Ницше – это судьбоносные муки духовного роста: «Крест Ницше – в упорстве роста в нем новых переживаний без возможности сказаться им в ветхом образе вырождающегося тела», в несовершенстве «телесных органов», не способных поддержать деятельность «высшего сознания»: феномен Ницше Белый описывает, прямо ссылаясь на слова А. Безант[69]. «Ницше – эзотерик, зовущий нас на оккультный путь <…>. И тот, кто видит его, скажет ему: „Иду за тобой, Равви!”»[70] – такова теософская «икона» Ницше, созданная Белым.
Ницше – провозвестник апокалипсического Христа; Ницше – мученик, великий посвященный, учредитель новой религии и т. п. – все эти русские иконописные образы, порожденные коллективной экзальтацией, суть антиподы ницшевских самохарактеристик. В связи с русским Ницше мы не случайно привлекаем представление об иконе: оно соответствует тому нимбу «святости», которым русские мыслители окружили «тернием увенчанную главу»[71]отшельника из Сильс-Марии. Лик, лицо, личина-маска: кажется, именно благодаря русскому «ницшеведению» эти понятия сделались категориями философской антропологии как феноменологии личности[72]. Белый стал первым говорить о ницшевских «масках», хотя уже в основе концепции Мережковского лежала мысль о корпусе текстов Ницше как единой маске, скрывающей его истинное лицо[73]. «Масками» Белый считал самохарактеристики Ницше (имморалист, атеист, антихрист(ианин), ученик Диониса и т. д.), – не столько художественные образы (Заратустра, принц Фогельфрай), сколько декларируемые идеологемы. «Маска» – всякий явный смысл текста Ницше, и ей у Белого противопоставлено «лицо» – плод особой герменевтики, усилий «благодарно-жалостливого»[74] сердца толкователя, его умения проникнуть в «музыкальную» глубину слова и в «музыке» распознать «страсть» и «личность». При этом в результате «герменевтического противодействия» музыкальных недр непременно происходит «обратная дешифровка» текста, – надо лишь нащупать места его «эластичности»[75]. Чтение оказывается вереницей переходов от «маски» к «лицу» и обратно: «Маска и лицо встречают нас в Ницше: то лицо, то маска глядит на нас со страниц его книг». Маска – это обыкновенно «черная маска мстителя», но если ее сорвать – «не увидите ли вы, что проклятие старому — часто непонятая любовь»[76]. «На засиявшем лице» тогда затрепещет, «как зарница», «выражение жгучего могущества и сверхчеловеческой нежности», а «детский взор» заговорит «о детском счастии»[77]. Рассчитывал ли Ницше на такое понимание его сочинений – то ли игнорирование, то ли переворачивание прямого смысла его суждений? Не означает ли оно самую низкую его оценку как писателя, не способного сказаться в слове? Не был бы он шокирован тем, что будущий читатель, вместо сосредоточения на его проповеди, будет подсматривать за его личностью?.. И вторичная идеологизация текстовой «музыки», – скорее, «слуховых» галлюцинаций наших мыслителей, – «обратная дешифровка» смыслов, ведущая к безудержному «иконописному» творчеству, вызвала бы, думается, у Ницше взрыв возмущения…
«Обрусения» Ницше – через «вчувствование» в это трагически-озлобленное сознание любви, «детскости», пафоса «истинного» христианства – невозможно понять, если не учесть того, что феномен Ницше в России трактовался в основном в контексте культуры символизма. Впервые прочитавший «По ту сторону добра и зла» несимволист Шестов признавался, что не очень-то понял поначалу книгу: его традиционная душа не могла воспринять призыва убивать слабых, подталкивать их и т. п., и он «искал аргументов, чтобы противостоять этой мысли, ужасной, безжалостной»[78]. Также не сразу «поняли» Ницше и символисты – Мережковский с Белым. Но если Шестов вскоре распознал в творчестве Ницше вопль к Богу нового Иова, то эти двое предложили считать тексты Ницше символическими, – в духе того, как христианские экзегеты распознавали в Ветхом Завете символы и аллегории совсем иных – новозаветных представлений. Таким стало «противостояние» русских символистов ницшевскому демонизму, развившееся не просто в апологию (как у Шестова), а в безудержный апофеоз автора «Заратустры». Для Белого, как мы помним, Ницше – это эволюционно новый человек, и наличный язык не в состоянии выразить содержание его души. Потому Ницше вынужден использовать символы – художественные образы, а также афоризмы, в которых Белый видел «мосты к символам»[79]. Речь у Белого идет о символизации переживаний, – будь то в образе или в афористическом воззрении[80]. Подбором символов Ницше упорядочивает переживания, устремляя к цели внутреннюю жизнь. Цель эта – сверхчеловек, «абсолютно свободная личность», – «метод изложения Ницше имеет форму телеологического символизма» [81]. Но что мы имеем в действительности? Точно фильм Бергмана или Хичкока, разворачивается цепь жутковатых гротескных образов «Заратустры» – «за кадром» звучит «музыка» проклятий, ухо режут диссонансы парадоксальной и при этом цинической мысли, сквозь которые порой прорывается как бы тристановское томление… Такой поэтикой ницшевского текста, согласно интерпретации Белого, зашифрован некий, открытый этим новым посвященным, духовный путь, ведущий в «страну счастливых детей», на «белый остров, омытый лазурью»[82]. Наши мыслители, от Мережковского до Свасьяна, предприняв «обратную дешифровку» на самом деле прямого, однозначного ницшевского слова и ничуть не скрываемых «переживаний», ухитрились истолковать в качестве христианства открыто декларируемый люциферизм[83].
Надолго ли сохранили ницшеанцы 1900—1910-х годов верность своему кумиру? Шестов, по-видимому, сохранил на всю жизнь: сосредоточенный на проблеме бунтующего индивида, он видел в Ницше фигуру в этом смысле архетипическую. В устойчивом интересе позднего Мережковского к великим людям – религиозным реформаторам, царям, полководцам и святым – преломился мотив сверхчеловека. В описаниях канонических лиц – феноменах апостола Павла, испанских мистиков, Жанны д'Арк и т. д. – сквозит приверженность Мережковского к ницшезированному христианству, новому религиозному сознанию. По-прежнему он видит практически все занимающие его явления в свете ницшеанской оппозиции язычества – христианства. – Интересна оценка Ницше Белым-антропософом, она представлена в его статье 1920 г. «Кризис культуры». «Ницше есть острие всей культуры»[84] – ее вершина и конец, заявляет Белый. Отрезок европейской культуры «от Августина до Ницше», занимающий Белого, обыкновенно соотносят с христианством, – но Белый вводит для него свой термин «христовство». Противопоставляя христовство христианству, Белый обозначает оппозицию Церкви и исторической цепочки ересей манихейского типа. Развитие культуры Белый связывает с глубинным влиянием именно этих последних (а не Церкви с ее культом, как считал друг Белого в 1900-е годы Флоренский), – идет ли речь о средневековых альбигойцах, тамплиерах или масонах Нового времени. Двуликое – доброе и злое божество вавилонянина III в. Мани напомнило о себе в тезисе «по ту сторону добра и зла» Ницше; однако и вся светская культура, принимающая прививку зла ради борьбы с ним, имеет, в глазах Белого, манихейское устроение.
Все эти идеи Белого не самобытны: они заимствованы из лекций Штейнера 1904 г, записанных его учениками[85]. Оправдание Белым зла указанием на сам факт существования культуры также восходит к Штейнеру, чья деятельность в начале 1900-х годов открыто ставилась под знак Люцифера: Штейнер считал падшего ангела источником свободы, которой человечество обязано своим эволюционным – в частности, культурным развитием[86]. Бросая вызов традиции совсем в духе Ницше, Штейнер издавал в те годы журнал «Люцифер-гнозис», а своих последователей называл «детьми Люцифера». Ницше-антихрист(ианин) а Белый считал предтечей Штейнера – «гласом вопиющего в пустыне» перед приходом того, кто заложил основы культуры будущего[87]. В 1920 г. Белый по-прежнему относится к Ницше как к фигуре сакральной: в биографии Ницше ему видится прообраз его собственной жизни («…Мне на голову возложили терновый венец; и как Ницше, больной от мучений, бросался я в горы», – «меня окружают, как Ницше, кретины»). И вот он уже, мистически отождествившись с Ницше, говорит о себе: «Ecce Homo», пережив в Рёкене на могиле «родного покойника» рождение в себе антропософского Солнца-Христа[88],[89].
Благоговейная любовь не мешает, однако, Белому с антропософской позиции очень жестко критиковать взгляды Ницше. Черты прежде детски лучезарного, иконописного лика теперь кажутся Белому искаженными жуткой гримасой: Ницше – «Бог и „кретин”», – духовная «серединность» обернулась для Ницше клиническими последствиями, и Белый наконец-то замечает некие «странности» в образе Заратустры. Подобно тому как Мережковский критиковал Ницше за то, что он «не дотянул» до нового религиозного сознания, Белый видит его изъян в расхождении по важным пунктам с антропософией. Речь идет, конечно, о мотиве «вечного возвращения» («Веселая наука», «Так говорил Заратустра») – по сути, об индивидуальном бессмертии. В учении Штейнера идея земного возврата – реинкарнации, – играет ключевую роль, причем перевоплощению подлежит духовная индивидуальность, тогда как термином «личность» в антропософии обозначается ее конкретная физически-телесная реализация. Понятно, «верный земле» Ницше таких вещей не признавал, и отсюда его роковой изъян, по выражению Белого, «черная точка» в его существе, – «переживание «я» не как внеличного Индивидуума, а как распухшей и выросшей личности»[90]. «Учитель вечного возвращения» Заратустра наделяет бессмертием как раз земную личность, безмерно – на всю дурную временную бесконечность – расширяя ее существование: в этой интуиции, завладевшей Ницше, Белый в 1920 г. видит исток его безумия, «кретинизма». Приняв идею бессмертия в вульгарной версии Е. Дюринга, Заратустра-Ницше выразил согласие на возврат, по чисто математической причине, всякой конкретной земной ситуации: речь идет о повторении в очень «большом» времени любой наличной комбинации атомов, составляющих Вселенную. Можно ли жить таким «бессмертием»?! В статье «Фридрих Ницше» (1908) Белый называет круговое «вечное возвращение» «Голгофой» Ницше, – но он оказывается ближе к истине, когда говорит о «багрянице адского пламени», которую надевает на своего ученика Заратустра[91]. Действительно, для Ницше адом стала бы Дюрингова «вечность» – неизбывность страшной болезни; но, кажется, и в 1920 г. Белый не понял, что антропософский тренинг также предполагает готовность адепта к пребыванию в люциферо-аримановской преисподней… Однако здесь мы не имеем возможности подробно говорить об этих интересных предметах[92].
Версии Бердяева и Вяч. Иванова, также понимавших феномен Ницше в качестве собственно религиозного, мы обсудим в связи с рассмотрением их герменевтики, привязанной, как и в случае Мережковского, к «ницшеведению». Здесь мы можем сказать об этом лишь пару слов. Бердяеву у Ницше оказались близки мотивы смерти Бога и творчества — мотивы «Заратустры»: свободная творческая личность – главный концепт бердяевской «антроподицеи» – призвана к созданию новых ценностей именно по причине кажущегося, деистического отсутствия («смерти») Бога. Пути духовной свободы, однако, приводят Бердяева и к другим положениям Ницше, – разумеется, к принятию идеи сверхчеловечества. Экзистенциалист Бердяев сохраняет в своем мировоззрении элементы метафизики и позиционирует себя как христианина; христианином-апокалиптиком он, следуя в этом за Мережковским, считает и Ницше[93]. Что же касается Иванова, то он буквально истолковал языческий – Дионисов мотив Ницше, сделав его истоком собственных мировоззрения, творчества и жизненной практики. Иванов возмечтал о дионисийской реформе христианства и социальной, дионисийской же – анархической, революции в России. Создав дионисийскую секту, он тем не менее искал более глубоких «посвящений» – опять-таки у Штейнера (отвергшего его за «оргийность»), у европейских «розенкрейцеров» и масонов. Под влиянием посланницы этих оккультных кругов, визионерки А. Минцловой, Иванов восполнил свой дионисизм люциферизмом, дерзая называть христианством свою приватную сатанински – содомскую эклектическую религию. Соответствующую культовую практику Иванов «мистически» обосновал – развил идею «рождения бога в душе». Своего завершения она достигла уже в старческой (1933) ивановской статье «Anima» (тогда в Италии эмигрант Иванов уже принял католичество). В ней автор активно пользуется не только юнгианскими, но и ницшевскими терминами, предаваясь при этом безудержному мифотворчеству. По Иванову, Ницше был великим тайновидцем: «Вся жизнь Ницше есть единое мистическое переживание, выраженное в великих и титанических чертах, но прерванное внезапным падением». В Sils-Maria к нему приблизился бог: «Заратустра был только маской Диониса». Однако Ницше его отверг, что и стало причиной его безумия. «Его нежная, жаждущая любви Anima разбилась об одинокое упорство его богоборческого духа», – Ницше был обязан поклониться как богу Дионису, которого любила Атта-Ариадна. Вместо мистического, в сердце Ницше, брака Ариадны с Дионисом (плодом чего стал бы младенец-Христос), произошло ее бегство «в лабиринт своей первоосновы – в безумие», на пороге которого душа Ницше имела видение «распятого Диониса»[94]. К сожалению, Иванов не ограничился игрой мифологем и созданием безобидных гипотез о судьбе Ницше. В петербургских оргиях 1900-х годов, в практике «сакральных браков» Иванов и его «мисты» предавались «богоискательству», что разбило жизни многих… [95] Именно Иванов увидел в произведениях Ницше «не догму, а руководство к действию», и довел до конца заложенные там смысловые возможности.
Размышляя о христианстве Серебряного века, не столько ответившем на вызов Ницше апологией своих святынь, сколько, скорее, подвергшем их коренной метаморфозе, надо принять во внимание также творчество П. Флоренского конца 1910-х – начала 1920-х годов, – а именно фрагментарный труд «У водоразделов мысли» вместе с лекциями по «философии культа» (опубликованными в 1977 г. в № 17 «Богословских трудов»). О насыщенности мировоззрения Флоренского периода «антроподицеи»[96] ницшеанскими идеями и интуициями нам уже доводилось писать ранее[97]. Здесь же нам хотелось бы показать, что, «оправдывая» человека, Флоренский, во-первых, предлагает собственный извод философской мечты Ницше о сверхчеловеке, принадлежащий – во-вторых – восходящей к В. Соловьёву русской софиологической традиции. Поздние сочинения Соловьёва («Идея сверхчеловека», «Смысл любви», «Жизненная драма Платона»: 1890-е годы) свидетельствуют о его уязвленности ницшевской идеей сверхчеловека. Русский философ наполнил понятие сверхчеловека созвучным себе содержанием, наделив этот фантом бессмертием, обеспеченным андрогинностью: в соловьёвском «сверхчеловеке» отголоски христианского воззрения почти теряются на фоне мифологем «Пира» Платона[98]. Но представление об андрогинности – двуполости, присущей совершенному человеческому существу, столь принципиальное для Соловьёва, отмечено также влиянием еврейской Каббалы. Каббалистическая мифологема Адама-Кад-мона — «первоначального», «небесного» человека, введенная Соловьёвым в философский дискурс, сделалась основой софиологической антропологии, будучи детально разработанной именно в антроподицее Флоренского.
Уже у Соловьёва андрогин Адам-Кадмон – это всечеловек, организм, сотканный из лучей Божества, но вместе и высший прообраз «конкретной вселенной», оказывающейся тем самым антропоморфной[99]. В соловьёвских «Чтениях о Богочеловечестве» (1878) «универсальный или абсолютный человек», в котором укоренен «каждый из нас»[100], также осмыслен как Богочеловечество и библейская Премудрость (она же – «подруга вечная» Соловьёва-мистика), небесное «тело Христово». «Это тело Христово, – утверждает Соловьёв, намечая вектор антропокосмической эволюции, – <…> мало-помалу растет и развивается, чтобы в конце времен обнять собою все человечество и всю природу в одном вселенском богочеловеческом организме»[101]. Речь, как видно, идет о воплощении абсолютного человека в теле физической Вселенной, – о превращении этого тела в уже нетленное Тело Божества. Бессмертный Адам-Кадмон выступает в «свободной теософии» Соловьева как аналог сверхчеловека Ницше, превосходящий, однако, Заратустру по своему бытийственному статусу. Об этом Соловьёв заявил в симптоматичной статье 1899 г. «Идея сверхчеловека»[102]. Интересно, что воплотившийся в конце времен Адам-Кадмон, мыслимый молодым Соловьёвым как «Вселенская Церковь», именуется им «человеко-богом»[103]. Соловьёв подразумевает совокупное человечество, воспринявшее Божество, – присущий обыкновенно этому понятию элемент демонизма (богоборцы Достоевского) у соловьёвского «человеко-бога» в видимости отсутствует.
Христианство Соловьёва, – оно же – «свободная теософия», «софиология», – конечно, нельзя считать постницшевским. «Встреча» Соловьёва с Ницше была все же достаточно поверхностной и мимолетной – взгляды русского философа сформировались под влиянием других источников. Вселенская Церковь, как исторический идеал Соловьёва, своим возникновением будет обязана экуменической церковной политике, а также усилиям частных индивидов («Смысл любви»). Наиболее конкретный – и при этом мифологический образ осуществления Вселенской Церкви мы обнаруживаем в «Краткой повести об антихристе»: это заключение союза предстоятелями трех ведущих христианских Церквей перед лицом апокалипсических потрясений…
В мировоззрении же Флоренского периода «антроподицеи» легко распознать прививку ницшеанства. Надо заметить, что тип антроподицеи вообще весьма характерен для философской антропологии Серебряного века, пронизанной ницшеанскими веяниями. Так, Бердяев «оправдывает» человека как творца в условиях «смерти Бога» по Ницше («Смысл творчества», 1916); и адвокат (по своей изначальной профессии) Шестов всю жизнь занимался не чем иным, как философским оправданием индивида, восставшего на общепризнанные фундаментальные ценности. В «Водоразделах» и «Философии культа» Флоренского человек оправдан – т. е. осмыслен, наделен абсолютным значением, – в качестве «большого Человека»[104], воплощающегося в ходе истории небесного Адама-Кадмона, который вбирает в себя стихии мира, превращая Вселенную в свое тело. Как видно, в своей «антроподицее» Флоренский идет по стопам Соловьёва. Но если теософия романтика Соловьёва имеет характер абстрактной мечты, то «инженер» (А. Лосев) и одновременно «теург», священник Павел Флоренский стремится к «конкретности» своей метафизики и оправдывает человека (т. е. «Человека», совокупное человечество) именно как земного деятеля. Антроподицея Флоренского окрашена волюнтаристски, что возводит ее к Ницше и, далее, к Шопенгауэру [105].
«Большой Человек», субъект историко-культурного процесса, чье творческое начало – «ноуменальная воля» или «жизнь», «строит орудия, технику, цивилизацию»[106]. Прообразы орудий суть чувства и органы небесного тела Адама-Кадмона, и благодаря «импульсу к экстериоризации» это тело, воплощаясь и расширяясь, охватывает своими членами окружающую природу, ассимилируя ее вещество, превращая Универсум в антропоморфное тело «физического мага» [107]. Низвергнутый в дурную бесконечность истории, пожирающий беззащитный природный мир, Адам-Кадмон – возведенная в космический ранг функция стяжания и пищеварения – это безгранично пухнущее, жиреющее тело, которое напоминает гротескные образы раблезианских толстяков, соотнесенные Бахтиным с «сакральным» телом карнавала и в конечном счете с «общечеловеческим» телом, наделенным русским диалогистом также историческим бессмертием[108]. «Большому Человеку» Флоренского вряд ли подходят соловьёвские имена Софии или Христа, – правомерно говорить лишь о чисто формальном сходстве двух концепций. «Большой Человек» — это воистину сверхчеловек, наполненный смыслами ницшевской антропологии: таков наш главный тезис, к обоснованию которого мы и переходим.
И в самом деле. «Большой Человек» Флоренского – это человек биологический, как и «человек» Ницше. Флоренский вообще настаивал на новом конципировании понятия жизни; так, в письме к В.И. Вернадскому от 21 сентября 1929 г. он солидаризировался с размышлениями знаменитого натурфилософа вокруг категории биосферы, обозначив при этом «биосферический опыт» ницшевским термином «верность земле»[109]. «Биологизируя» творческий разум человека, Флоренский следует за Ницше, который также «бестиализировал» человеческую природу, приходя к заключению, что «человек – самое жестокое из всех животных»[110]. Техническая культура, по Флоренскому, творится жизнью как безликой силой, действующей в совокупном человечестве: «Орудия создаются жизнью в ее глубине»[111]. Здесь аллюзия на «жизненный порыв», двигатель «творческой эволюции», по Бергсону, – но прежде всего ориентация на «жизнь», по Ницше, выступающую как «воля к власти, которая, действуя изнутри, все больше подчиняет себе и усваивает „внешнее”»[112]. Для Флоренского техника – это современный аналог древней магии, пафос которой – власть над миром. По Ницше, тело – это «система господства»[113]; но вот и «Большой Человек» Флоренского, превращающий Универсум в свое «хозяйство», свой «дом», свое тело наконец, – осуществляет завет позднего Ницше: «Очеловечить мир, то есть чувствовать себя в нем все более и более властелином»[114].
Ключом к антропологии Ницше служит его тезис о наличном состоянии человека как промежуточном – как о движении по пути «между животным и сверхчеловеком»[115]. Ценны для Ницше именно эти крайние полюса, – человек же в его культурно-исторической актуальности подлежит «переоценке», «преодолению». Сфера инстинктов и аффектов, она же – «дионисийская бездна», с одной стороны, – и слепые порывы, томление Заратустры – с другой: такова двоякая антропологическая реальность по Ницше, занятому, очевидно, дегуманизацией человека. Любопытно, что Флоренский в упомянутом выше письме к Вернадскому от обсуждения «биосферы» сразу переходит к гипотетической «пневматосфере» (сфере духа), проигнорировав главное детище Вернадского «ноосферу» – область разума, собственно культуры. Это и понятно. Подобно Ницше, Флоренский был человеком трагическим — экзистенциально, интимно знакомым с внутридушевной стихией бессознательного (см. исповедальный очерк «Павел» в книге «Имена»). И вот это самое «начало дионисическое» или «титаническое», «слепая напирающая мощь»[116] – шопенгауэровская «воля», у Ницше превратившаяся в «волю к власти», – и есть творческая жизнь «Большого Человека», занятого «построением орудий», есть двигатель цивилизаций. «Титаническое, само в себе, – не грех, а благо. <…> Оно – по ту сторону добра и зла. <…> В мощи – <…> правда Земли», – пишет священник[117]. И через эту центральную ницшевскую категорию он переходит от «философии хозяйства» (для краткости будем так называть II часть «Водоразделов») к «философии культа», увенчивающей его антроподицею. Лекции по философии культа – они же очерки по теории пневматосферы – это версия русского постницшевского христианства, принадлежащая Флоренскому [118].
Христианство «Лекций» органически встроено в концепцию воплощения «Большого Человека», причем «философия культа» всецело изоморфна «философии хозяйства». И можно сказать, что сверхчеловек в изводе Флоренского имеет две ипостаси – «homo faber» (создатель орудий) и «homo liturgus» (литургический человек). Его тело, растущее в ходе истории, это природа, мало-помалу очеловечиваемая благодаря орудиям; но параллельно очеловечиванию идет процесс освящения культовыми таинствами преображаемого Универсума, становящегося бессмертным телом Бога. Теоретические усилия Флоренского направлены на то, чтобы церковные таинства, «орудия культа», «поставить в ряд других орудий»[119], обосновав свою весьма искусственную гипотезу – конкретное таинство освящает определенную телесную функцию. Отсюда следует, что культ, совокупность таинств и обрядов, выражает, как и индустрия, строение человека[120]. Инженер, Флоренский технизирует Церковь, уподобляя таинства – «рычагам» и культ – «производству святынь»[121]. Так соловьёвский «богочеловеческий процесс» принимает у Флоренского авангардистское обличье.
И особенно примечательно то, что культовый, литургический лик «Большого Человека» сохраняет его ницшеанскую суть. Как и «homo faber», «homo liturgus» движим началом «титаническим», «дионисийским», – «волей к власти» – теперь уже к магической власти над природой. Ведь, по Флоренскому, «культ отменяет запреты и зовет к запрещенному» – к выходу «по ту сторону добра и зла»[122]. «Титанические» аффекты в новом христианстве, отменяющем аскетическую брань, утверждаются в их «правде» и культом доводятся «до наибольшего возможного размаха», что вызывает будто бы «благодетельный кризис», очищение, исцеление [123]. Безо всякой благодати, одним «наибольшим напряжением» аффекта достигается катарсическая цель культа. О православной ли Церкви говорит Флоренский?! Церковным антуражем в «Философии культа» обставлены все те же Дионисовы (по Ницше) оргии, столь привлекательные для Серебряного века. «Homo liturgus» Флоренского в своем подлинном обличьи оказывается исступленным вакхантом; перекличка ли здесь с оргиастом Ивановым или эхо распутинщины?.. Так или иначе, в благостный дискурс «Философии культа» порой врывается из «дионисийских» недр какая-то черномагическая струя…
«Конкретная метафизика» Флоренского выливается, как видно, в апофеоз сверхчеловека-мага. И дело здесь не только в сосредоточенности мыслителя на концепте «Большого Человека». Подобно Флоренскому, на «Адама-Кадмона» ориентировался и С. Булгаков. Но назвать булгаковскую софиологию христианством постницшевским вряд ли будет уместно. В своих книгах середины 1910-х годов «Философия хозяйства» и «Свет невечерний» Булгаков опирается в точности на те же аксиомы, что и впоследствии Флоренский. Так, по Булгакову, «человек стремится к достижению власти над природой» средствами как науки, так и магии[124]; хозяйство – плод этого стремления, создающего «историческое тело человечества», в пределе охватывающее «весь мир»[125]. Речь идет об Адаме-Кадмоне, каббалистическую теософию Булгаков к тому же встраивает в свою систему тринитарного богословия. Но никакого апофеоза «слепой напирающей мощи», воли к власти у Булгакова нет. В своей бесхитростной диалектике Булгаков навстречу соответствующим тезисам всегда выдвигает антитезисы, притупляя тем самым их ницшеанское жало: «Христианством в качестве высшей свободы восхваляется не мощь, но немощь, не богатство, но нищета, не мудрость века сего с его хозяйственной магией, но юродство»[126]. Также и культ для Булгакова – это теургия, перерождающая мир средствами «таинств и обрядов церковных», – но вот у него «теургия есть действие Бога» [127]. Весь творческий путь Булгакова отмечен данной «диалектической» двойственностью, – по сути постоянным колебанием между религиозным модернизмом и аскетической традицией. Однако в своей жизненной практике Булгаков сохранил верность заветам отцов: молитвенник и аскет (см. его послереволюционные «Духовные дневники»), он скончался, по свидетельствам близких, как подвижник-святой[128].
6
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. М., 1990. С. 762.
7
См.: Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 723; Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. Париж, 1983. С. 32.
8
См.: Герцык Е. Воспоминания. М., 1996. С. 61; Сестры Герцык. Письма ⁄ Составление и комментарий Т.Н. Жуковской. М., 2002. С. 9.
9
Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 241.
10
Свасьян К. Хроника жизни Ницше // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 800.
11
Свасьян К. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. С. 40.
12
Как известно, помрачение рассудка Ницше произошло в результате события, как бы воспроизводящего сон Раскольникова. Ницше был потрясен сценой избиения лошади извозчиком, – подбежав, он обнял животное за шею, после чего потерял сознание. Это случилось в Турине 3 января 1889 г.
13
Герцык Е. Воспоминания. С. 61–65.
14
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С.118.
15
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше // Вопросы философии 1990, № 7. С. 68.
16
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше // Вопросы философии 1990, № 7. С. 98, 100.
17
Там же. С. 115–117.
18
Шестов Л. Достоевский и Нитше (философия трагедии) // Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 124.
19
См.: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. С. 122–123. На самом деле в Мф. 5, 45 заключен призыв Христа любить не только любящих, но и врагов, уподобляясь в этом Богу, который повелевает солнцу равно всходить над добрыми и злыми.
20
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. С. 127.
21
Герцык Е. Воспоминания. С. 104.
22
Ницшеанские интуиции несложно найти даже у Флоренского, например, в его панегириках «титаническому» началу, т. е. дионисийской бездне в душе человека (лекции по философии культа, очерк «Павел» в книге «Имена»), в рассуждениях об «апокалипсическом Христе» (переписка с Андреем Белым начала 1900-х годов) и пр.
23
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 503, 575, 679, 673 соотв.
24
Дочь Шестова рассказывает о том, как ребенком Шестов тащил в дом беспризорных животных. И с народовольцами он сблизился на почве жалости к угнетенным (Баранова-Шестова 1983 I, 9—10). А С. Булгаков, свидетель общей любви окружающих к Шестову, объясняет ее «удивительным даром сердца, его чарующей добротой и благоволением» (Булгаков 1993, 519). Парадоксальнейшим образом именно вратами шестовской «чарующей доброты» человеконенавистническая философия Ницше проникла в русское философское сознание.
25
См.: Герцык Е. Воспоминания. С. 63. Е. Герцык опирается на слова Ницше («Я же, Заратустра, <…> – и калека-горбун на этом мосту (к будущему. – Я.7>.)»), когда указывает на главный аспект своей юношеской рецепции Ницше: «Вот это признание делало его таким близким, таким жалостно-любимым. Калека-горбун!»
26
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 700.
27
Ср. о божественности Христа в связи с апостолом Петром: «Пётр умел спать и спал, когда готовился к крестной смерти сошедший к людям Бог». В трактате «Гефсиманская ночь» Шестов многократно возвращается к тому, что взгляды «верующего» Паскаля и «неверующего» Ницше «представляются почти совпадающими в самом главном». См.: Шестов Лев. Сочинения: В 2 т. М., 1993. Т. П. С. 287, 292, 293.
28
Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. С. 251.
29
У Ницше они все же главным образом суть принципы эстетики и антропологии.
30
А. Блок, также соблазненный (не без помощи Мережковского) «ледяной» мистикой Ницше, в стихотворении 1907 г. «Второе крещенье», изображающем событие вроде «великого разрыва» Ницше (таинство «снеговой купели» «обращает в лед» сердце поэта подобно тому, как отречение Ницше от христианства ввергло его в атмосферу трансцендентного холода, что выразительно представлено в «Докторе Фаустусе» Т. Манна), по сути, формулирует эту «истину» нового религиозного сознания: «И, в новый мир вступая, знаю, ⁄ Что люди есть, и есть дела. /Что путь открыт наверно к раю /Всем, кто идет путями зла». «Верхняя» и «нижняя бездны» у Мережковского считаются как «безднами» добра и зла, так и духа и плоти. Это вызывало критику ряда мыслителей (Бердяева, Флоренского), не усматривающих зла в плоти как таковой.
31
См.: Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 158, 640, 641 соотв.
32
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. С. 187.
33
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 100.
34
См.: Свасьян К. Фридрих Ницше: мученик познания. Указ. изд. С. 5—46.
35
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 208.
36
Свасъян К. Хроника жизни Ницше. С. 826.
37
Холлингдейл Р.Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души. М., 2004. С. 371, 365–366, 371 СООТВ.
38
Ницше любил сравнивать Бога с пауком, имея в виду метафизическую конечную цель, плетущую сеть причинности, – вообще, Бога богословов-метафизиков, в частности Спинозы. Мережковский заметил этот ницшевский образ и использовал его для целей своей герменевтики, усмотрев тему «Бога-Зверя» у Толстого и Достоевского. Предваряя литературоведческий формализм XX в., Мережковский весьма элегантно описал семантику образа паука в романах Достоевского и Толстого, истолковав его как «символ жестокого сладострастия и сладострастной жестокости» (указ, изд., с. 309). А в плане философии религии «Бог, который беспощадно высасывает жизнь из жизни, как паук – муху», согласно Мережковскому – это Бог не только Спинозы, но и вообще жестокий Бог Ветхого Завета, удержанный и христианством. В новом религиозном сознании Он отождествляется со зверем Апокалипсиса. При этом подобный «небесный тарантул» «никогда не будет нашим Богом»: признание Бога-ревнителя, Бога-мстителя – всякого бога кроме Бога-Любви, для Мережковского «уже не религия, а кощунство» (там же, с. 314). Интересно, что данное убеждение Мережковского будет резко оспорено Флоренским – членом кружка Мережковских, ставшим затем ренегатом (глава «Ревность» «Столпа…», раздел «Страх Божий» «Лекций по философии культа»).
39
«Ницше – тайный ученик, явный отступник Христа, Л. Толстой – явный ученик, тайный отступник Христа» (Мережковский, указ, изд., с. 240).
40
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 261–262.
41
Работы Иванова об «эллинской религии страдающего бога», о «Ницше и Дионисе» стали выходить в свет в России лишь начиная с 1904 г.
42
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 16.
43
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 403.
44
В «Антихристе» (1888) сказано: «Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелия, – мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и „ребячество” идиота <…> Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из decadents (Иисуса) не жил какой-нибудь Достоевский, т. е. кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смешения возвышенного, больного и детского» (Ницше 1990 II, 656–657). «Экзегетика» позднего Ницше – не что иное, как сравнительная герменевтика Нового Завета и романов Достоевского, – и при этом – точнейшая самохарактеристика.
45
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 147.
46
Там же. С. 769.
47
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 263.
48
Там же. С. 317.
49
Там же. С. 314.
50
Там же. С. 319–320.
51
Там же. С. 134.
52
См.: Бонецкая Н.К. Л. Шестов и Ф. Ницше // Вопросы философии 2008, № 8. С. 113–133.
53
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 266–267.
54
В монографии «Царь-Девица. Феномен Евгении Герцык на фоне Серебряного века» мы посвятили особый раздел Башне Вяч. Иванова и тем, кто вверил «мистагогу» свою судьбу (книга в печати).
55
Цит. по: Лавров А.В. Мифотворчество аргонавтов // Миф, фольклор, литература. Л., 1978. С. 141.
56
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 245.
57
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 357.
58
Там же. С. 187.
59
Там же. С. 184.
60
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 183, 194, 195.
61
Там же. С. 183.
62
Там же. С. 184.
63
Там же. С. 250.
64
«Аз бо есмь пучина греха»: слова из молитвы перед причащением.
65
Подробно об этом см. в наших работах: «Боги Греции в России» (Вопросы философии 2006, № 7. С. 113–128) и «Эстетика Волошина» (Вопросы философии 2007, № 1. С. 115–130).
66
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 180.
67
Там же. С. 178.
68
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 179.
69
Там же. С. 191, 195.
70
Там же. С. 194.
71
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 248.
72
Особенно эффектно эти категории разработаны в «Иконостасе» Флоренского (1919–1922).
73
Суть этой концепции в тезисе о ницшевском «Христе, не узнанном под ликом Диониса», – «христианстве, притворившемся язычеством» (Мережковский 1995, 314).
74
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 248.
75
См.: Свасъян К. Фридрих Ницше: мученик познания. С. 30–31. К. Свасьян во многом солидарен с Белым как автором статьи 1908 г. «Фридрих Ницше», в частности, развивая мысли Белого о ницшевском творчестве как весьма прихотливом «маскараде».
76
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 191–192.
77
Там же. С. 249, 248.
78
Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 31–32.
79
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 250.
80
Там же. С. 181, 250.
81
Там же. С. 181, 182.
82
Там же. С. 248.
83
Коллективная загипнотизированность весьма умных людей кудесником-Заратустрой ярко демонстрирует существовавшую в XX в. возможность возникновения самых чудовищных аберраций общественного сознания – завороженности идеологемой, ликом учителя, вождя и пр. По сути, статьи Белого о Ницше разрабатывают особый «новояз» (Д. Оруэлл) для чтения ницшевских сочинений: слово «боль» в последних должно переводиться как «блаженство», «грех» – как «святость», «ненависть» – как «нежность» и «любовь»… «дьявол» – разумеется, как «Бог» «нового человека».
84
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 280.
85
То, что у Белого названо христианством и христовством – культуру и религию, – Штейнер возводит к библейским фигурам кроткого Авеля и первого братоубийцы Каина: «Из страсти сынов Каина возникли все искусства и науки, а из течения Авеля-Сифа – все просветленное благочестие и мудрость, лишенная энтузиазма». Именно «сыновья Каина» создают «Храм человечества, построенный из мирского искусства и мирской науки», – сказано в лекции «Мистерия розенкрейцеров» (Штейнер 2006, 57). Как ницшеанец и как антропософ, Белый предпринимал тонкую апологию зла (следуя в этом за Шестовым и Мережковским). Диалектика зла у Штейнера – теософа, масона, учредителя антропософии – также встроена в традицию Мани: «должным» в этике Штейнера было не добро, а прихотливая и рискованная игра с добром и злом (особенно наглядна она в «Драмах-мистериях» Штейнера, где львиная доля сцен это общение персонажей с Люцифером и Ариманом – существами, олицетворяющими у Штейнера зло). Первым антропософам, с их традиционным сознанием, предлагалось поверить в то, что за люциферизмом Доктора стоит «глубокая мысль» из манихейского реквизита: «Царство тьмы должно быть преодолено со стороны царства света не через наказание, а через милость, не через противостояние злу, а через смешение со злом, чтобы избавить зло как таковое» (лекция «Манихейство» (Штейнер 2006, 65)). Такова версия Штейнера, принявшего тезис «по ту сторону добра и зла» Ницше.
86
В своей кощунственной лекции «Пятидесятница, праздник освобождения человеческого духа» Штейнер заявлял: «В самой человеческой природе лежит то сатанинское восстание, которое, однако, как люциферическое устремление является залогом нашей свободы, и из этой свободы мы вновь развиваем нашу спиритуальную жизнь» (Штейнер 2006, 16).
87
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 262.
88
Там же. С. 261, 296.
89
Сакрализации Ницше Белым способствовал и Штейнер. Вспоминая о своей работе в веймарском архиве Ницше еще при жизни философа, он упоминает об «удивительном ощущении того, что – пока мы внизу разбирали сокровища его рукописей, дабы явить их миру, – он царил на веранде над нами в торжественном благоговении, бесстрастный к нам, подобный богу Эпикура. Те, кто видел его тогда, в белом складчатом халате, возлежавшего со взором брахмана широко и глубоко посаженных глаз под кустистыми бровями, с благородством загадочного, вопрошающего лица и по-львиному величавой посадкой головы мыслителя, – испытали чувство, что этот человек не может умереть, но что взор его будет вечно прикован к человечеству и всему видимому миру в этой непостижимой торжественности» (цит. по: Холлингдейл Р. Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души. С. 379–380).
90
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 280.
91
Там же. С. 194.
92
Антропософское представление о бессмертии «я» мы обсуждаем в нашей монографии «Царь-Девица. Феномен Евгении Герцык на фоне Серебряного века» (глава «Антропософский эпизод») (в печати). Здесь лишь обратим читательское внимание на то, что основным местом действия «Драм-мистерий» Штейнера (в которых, по словам самого Доктора, заключена вся антропософия) являются те области духовного мира, где властвуют Люцифер и Ариман. Именно там адепты тайных знаний проводят период между смертью и новым рождением, обсуждая в обществе этих существ плоды прежних инкарнаций. Трудно упрекать Штейнера в соблазне малых сих – еще в начале 1900-х годов он совершенно недвусмысленно сообщал ученикам об их метафизической участи.
93
Подробнее об этом см.: Бонецкая Н.К. Апофеоз творчества (Н. Бердяев и Ф. Ницше) Ц Вопросы философии. 2009. № 4. С. 85–106.
94
Иванов Вяч. Anima // Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Т. I. Брюссель, 1971. С. 293.
95
Об этом говорится в разделе «На „Башне” Вяч. Иванова» той же нашей монографии (а также в разделе данной книги «Боги Греции в России»).
96
Общую цель «Водоразделов» Флоренский обозначал как антроподицею, «оправдание человека», противопоставляя этот углубленно-культурологический проект своей ранней теодицее, представленной богословской книгой 1914 г. «Столп и утверждение Истины».
97
См.: Бонецкая И.К. «Homo faber» и «homo liturgus» (философская антропология П. Флоренского) // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 90—109.
98
Проблема «Соловьёв и Ницше» поставлена нами в работе «Андрогин против сверхчеловека» (Вопросы философии. 2011. № 7. С. 81–95).
99
Соловьёв В. Каббала // Философский словарь Владимира Соловьёва. Ростов н/Д, 1997. С. 154–155.
100
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. С. 118.
101
Там же. С. 160.
102
«’’Сверхчеловек” должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти» (Соловьёв 1990, 632–633): имеется в виду как индивидуум в эволюционном задании, так и его небесный Прообраз, который некогда превратит Вселенную в собственное Тело.
103
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. С. 169.
104
Флоренский Павел, священник. У водоразделов мысли. Ч. II // Символ. № 28. Париж, 1992. С. 192.
105
В своей интересной работе, осмысляя «Водоразделы» Флоренского в контексте европейского модернизма, Л. Геллер разбирает взгляды предшественников мыслителя из Сергиева Посада – полупозитивистов-полуоккультистов, иначе сказать, эзотериков или натурфилософов рубежа XIX–XX вв. – Э. Каппа, К. дю Преля, А. Цейзинга (см.: (Геллер 2006/11, 145–146)). Нас же здесь интересует причастность Флоренского к более фундаментальной традиции философии жизни, отмеченной именами Бергсона и Ницше, за которыми просматривается основоположная для нее фигура Шопенгауэра.
106
Флоренский Павел, священник. У водоразделов мысли. Ч. II. С. 171.
107
Там же. С. 132, 135.
108
В бахтинском апофеозе карнавала постницшевское христианство, дойдя в своем антицерковном бунте до предела, снимает себя, делаясь откровенной апологией черной мессы. Вероятно, когда-нибудь будет обосновано влияние Ницше на Бахтина как автора книги о Рабле. Ее языческий пафос (карнавал, по Бахтину, это «шествие умерших богов» (см.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 135), восходящий к Ницше «карнавальный» смех, антропология, сводящая человека к инстинктам «материально-телесного низа» и увенчанная образом сверхчеловека, олицетворяющим собой производительные силы природы, – вот некоторые смысловые линии, которые, очевидно, начинаются в «Рождении трагедии», «Воле к власти», «Заратустре» и, разумеется, «Антихристе».
109
Флоренский Павел, священник. У водоразделов мысли. Ч. II. С. 209.
110
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 158.
111
Флоренский Павел, священник. У водоразделов мысли. Ч. II. С. 169.
112
Ницше Ф. Воля к власти. СПб., 2006. С. 403.
113
Там же. С. 386.
114
Там же. С. 361.
115
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 56.
116
Флоренский Павел, священник. Из богословского наследия // Богословские труды, XVII. М., 1977. С. 139.
117
Флоренский Павел, священник. Из богословского наследия // Богословские труды, XVII. М., 1977. С. 140, 141.
118
О христианстве Флоренского периода «Столпа…» надо говорить особо, и влияния Ницше там не наблюдается. «Столп…» (1914) – это синтез множества разнородных идейных источников, где святоотеческие представления сочетаются с концептами Соловьёва («София») и Мережковского («Третий Завет»). В целом «Столп…» – это плод углубления молодого мыслителя в духовно-художественный феномен Троице-Сергиевой лавры, при которой протекала его жизнь. Ранее мы показали, что главы книги точно соответствуют тем граням подвига преподобного Сергия Радонежского, основателя лавры, которые осмыслены в его древнейшем житии и запечатлены в храмовой архитектуре монастырского комплекса (статья опубликована только по-немецки, см.: Bonezkaja N. Die Wiege der russischen Sophiologie. – Novalis, 5/1997, Schaffhausen. S. 13–17).
119
Флоренский Павел, священник. Из богословского наследия. С. 102.
120
Там же. С. 144–145, 147.
121
Там же. С. 174, 108.
122
Флоренский Павел, священник. Из богословского наследия. С. 137, 140.
123
Там же. С. 137.
124
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 189.
125
Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 317.
126
Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 317.
127
Там же. С. 321, 320.
128
«Лицо о. Сергия постепенно начало светлеть и озарилось таким нездешним светом, что мы замерли. <…> Мы присутствовали при таком несомненном озарении Духом, при таком реальном „опыте святости”, который трудно было вместить», – свидетельствует духовная дочь Булгакова (см.: Булгаков Сергий, протоиерей. Автобиографические заметки. Орёл, 1998. С. 420).