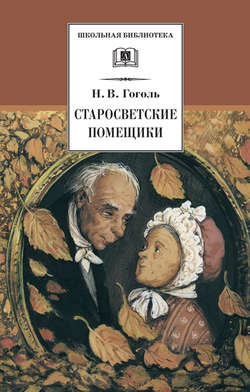Читать книгу Старосветские помещики (сборник) - Николай Гоголь, Н. В. Гоголь, Nikolai Vasilievich Gogol - Страница 2
Гоголь и четыре урока «Миргорода»
ОглавлениеГоголевское творчество осознанно нравственно, и, однажды взяв на себя миссию учителя жизни, писатель остается верен ей до самого конца. Такая позиция постоянно подкрепляется углубленным самоанализом, когда значение собственной личности непрерывно поверяется пользой, которую она может принести родине, всему человечеству. «Еще… с самых лет почти непонимания, – пишет восемнадцатилетний Гоголь Петру Петровичу Косяровскому, – я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства… Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние». И этот строгий суд, максимальная требовательность к себе закономерно приведут к желанию высказаться прямо от своего имени, непосредственно поделиться духовным опытом, минуя любые промежуточные формы, даже такие, как художественное творчество. Едва покинув малороссийские пенаты, с первых же писем из Петербурга Гоголь не перестает наставлять и любимую маменьку, и малолетних сестер, вникает во все хозяйственные нужды и семейные заботы. В 1840-е годы учительство станет главным содержанием жизни, и «Выбранные места из переписки с друзьями» возвестят об этом на всю Россию. Но стремление распространить семейный, дружеский круг на всех соотечественников обернется трагедией писателя. Хотя для него самого такой путь в художественном творчестве представлялся единственно верным: «…прочие все пути будут околесные и кривые, а не прямые и кратчайшие» (письмо Н. М. Языкову из Франкфурта от 26 декабря 1844 года). Поэтому любое произведение, по Гоголю, помимо своих образов, сюжета, коллизии, должно нести слово писателя о мире и человеке, обращенное к читателям. Есть такое авторское слово и в «Миргороде».
Но почему все-таки «Миргород»? Может быть, следует обратить внимание на столь очевидное значение самого слова «Миргород»? Ведь названная именем такого города книга, кажется, должна нести на своих страницах полную меру всего того, что так прекрасно определено в словаре В. И. Даля: «Мир – отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие».
Но нет, пожалуй, в творчестве Гоголя никакой другой книги, в которой было бы так много прямо противоположного. Не говоря уже про присутствие ссоры в самом заглавии повести о двух Иванах и про «Тараса Бульбу», который весь война, что такое «Вий», как не битва Хомы Брута с нечистой силой, сражение, завершившееся его гибелью. И только в «Старосветских помещиках» есть как будто и «тишина, покой, спокойствие», и «лад, согласие, единодушие». Есть и та из великих человеческих ценностей, которой не нашлось места в словарной справке, – любовь.
Именно утверждению непреходящего значения этой ценности и посвящена первая повесть в «Миргороде». Земная, обычная любовь, любовь-верность и преданность, которую питают друг к другу старосветские помещики и которая, в отличие от романтически возвышенной, экзальтированной страсти юноши из вставной новеллы, может выдержать любое испытание временем, – вот основная тема повести. Но не просто тема. Самоотверженная любовь и все производное от нее – чистосердечие, гостеприимство и т. п. – возвышает старосветских помещиков над их «низменной буколической жизнью»[1] и служит нравственным уроком, так же как вот уже на протяжении многих веков служит подобным уроком трогательная история Филемона и Баквиды[2], с которыми прямо сопоставляет своих героев повествователь. И ведь именно любовь Пульхерии[3] Ивановны и Афанасия Ивановича является необходимым условием существования самого «земного рая» их усадьбы: ее описание порой явно напоминает картины «земель блаженных» в древнерусской литературе и фольклоре, а там, как известно (сказания о земле «наго-мудрецов-брахманов», об «Опоньском царстве» и т. д.), даже почва была такой, что на ней все произрастало само собой «во изобилии». После смерти старосветских помещиков все закономерно распадается, у «благословенной земли» появляется новый владелец – герой-непоседа, перекати-поле, цену которому Гоголь вполне конкретно определяет его покупательскими способностями: «…не превышает всем оптом своим цены одного рубля».
Но не все так уж спокойно было и в «Старосветских помещиках». Были и несколько тревожные, такие неуместные в этих низеньких комнатках портреты убитого заговорщиками русского императора и фаворитки Людовика XIV, были и тревожащие Пульхерию Ивановну разговоры Афанасия Ивановича про пожар, про войну, про разбойников, и даже кошечку Пульхерии Ивановны дикие коты приманили, «как отряд солдат подманивает глупую крестьянку». Но самое поразительное все-таки в другом. После описания идиллической жизни старосветских помещиков повествователь собирается рассказать о «печальном событии, изменившем навсегда жизнь этого мирного уголка» – о смерти Пульхерии Ивановны и о «самом маловажном случае», от которого оно произошло, – историю с возвращением кошечки.
И вот по такому, казалось бы, малозначительному поводу – ибо что такое даже смерть Пульхерии Ивановны для судеб всего остального мира, исключая, конечно, Афанасия Ивановича, – в мерное и мирное повествование вдруг врывается бранный шум истории, полководцы разворачивают войска, между государствами начинаются битвы. И тем самым «старосветская» жизнь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича (и даже история с кошечкой – вестницей смерти) встает в один ряд с самой что ни на есть всемирной историей, ведь, «по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями».
Не этим ли строкам наследует в русской литературе философия истории «Войны и мира» с ее пристальным вниманием к «ничтожным причинам великих событий», которые вихрем ворвались в «старосветскую» жизнь стольких русских семейств в 1812 году, но не отменили, а, наоборот, возвысили ее нравственный смысл?
Знаменательно, что у Гоголя встречается (правда, с обратной Толстому оценкой) даже любимый автором «Войны и мира» образ битвы, поединка, где один из соперников вооружен шпагой и, «воодушевленный преданиями рыцарства», собирается воевать «по правилам искусства», а другой, противно всем правилам, хватается за дубину. В самом деле, словно уже прочитав толстовский эпос, писал Гоголь М. П. Погодину из Рима 1 декабря 1838 года: «Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами, дрекольем». (Письмо было впервые опубликовано в Сочинениях и письмах Н. Гоголя издания П. А. Кулиша. Спб., 1857, то есть как раз во время работы Толстого над «Войной и миром».)
Но вот сами примеры, которые должны подтвердить и развить мысль о взаимодействии «великого» и «ничтожного», возникшую по поводу истории смерти Пульхерии Ивановны: «Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля…» Такой пример не только «поднимает» значение истории Пульхерии Ивановны до событий мировой истории, но и вводит ее в контекст проблематики мировой литературы, так как явно перекликается с одним из эпизодов «Гамлета». Напомним, принц Датский встречает армию норвежцев, идущую в поход на Польшу, и на вопрос Гамлета полковник отвечает:
О, говоря открыто,
Мы овладеть куском земли идем,
В котором польза вся – его лишь имя.
Пяти б червонцев за наем я не дал
Земли сей…
Эта встреча отзывается в монологе Гамлета (действие IV, явление 4) словами о принце-завоевателе:
…Вдохновенный
Высокой жаждой чести, презирает
Он неизвестность счастья, отдает
Все смертное, неверное на волю
Опасностям и смерти – все за горсть песку!
(Перевод М. Вронченко, 1828).
Но если Гамлет в этом споре «за землю… на коей места для могил их мало» видит упрек своей нерешительности, то Гоголь решает вопрос иначе. Ведь нравственный смысл битв и побед, смертей и поражений измеряется в «Тарасе Бульбе» ценностями много высшими, чем сама война, тем более война из-за честолюбия. «Не в силе Бог, но в правде». Эти слова древнерусского полководца-подвижника словно служат здесь исходным посылом оценки. И война может стать высоконравственной, но только тогда, когда она «дело общее», народное: «…Это целая нация, которой терпенье уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай… за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ».
И рядом с этими ценностями есть и такая любовь: любовь Андрия к прекрасной полячке. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна беззаветно любили друг друга. И в их любви было немало того, что романтический Гамлет в своем монологе (действие I, явление 4) называл «чудовищем-привычкой». Вспомним, как восстал в своей рецензии на «Миргород» («Московский наблюдатель», 1835, № 2) против «убийственной мысли о привычке» в «Старосветских помещиках» С. П. Шевырев. Любовь старосветских помещиков нимало не теряла в нравственном смысле и оттого, что была неотделима от образов «сна» и «еды» – тех самых образов, которые, по словам того же Гамлета из монолога про принца-честолюбца (действие IV, явление 4), характеризуют человека, живущего «растительной жизнью», человека-«животного».
Иначе любят Андрий и полячка: возвышенно, романтично. Но ответ Гоголя ясен и однозначен: любовь Андрия к прекрасной полячке безнравственна, ибо нельзя даже за всепоглощающее чувство отдать «отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле». Таков второй нравственный урок «Миргорода».
Третий урок – в «Вии». Это повесть об испытании веры, духовной стойкости человека перед лицом всех враждебных, темных сил мира. Хома без особого труда справляется с ведьмой, когда он с нею один на один, но стоит той позвать себе на помощь «несметную силу чудовищ» и самого Вия, как Хома забывает все свои «заклятья и молитвы», доставшиеся ему от «одного монаха, видевшего всю жизнь свою ведьм и нечистых духов», и погибает. Погибает, несмотря на испытанность (в том же «Миргороде») того казацкого «оружия», которым он запасается перед последним походом в церковь: полведра сивухи, танец и напоминание о том, как казак не должен бояться «ничего на свете». И не так уж неубедительно заключение философа Горобця по поводу гибели «знатного человека» Хомы: «А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать». (Кстати сказать, мотив страха как причины гибели Хомы был гораздо явственнее представлен в черновой редакции: «…тайный голос говорил ему: «Эй, не гляди!»…По непостижимому, может быть происшедшему из самого страха, любопытству глаз его нечаянно отворился…».)
Мысль о бессилии любой нечисти перед лицом твердого духом и в вере человека – одна из любимых в древнерусской литературе. В «Повести временных лет» сказано о «бесовском наущении»: «…бесы ведь не знают мыслей человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».
А вот отрывок из письма Гоголя С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 года, где речь идет о борьбе с тем же «общим нашим приятелем, всем известным, именно – чертом». И тот простой метод, которым Гоголь советует здесь воспользоваться, кажется заимствованным у Горобця, как известно, рекомендовавшего, «перекрестившись, плюнуть на самый хвост» ведьме, и тогда «ничего не будет». «Вы эту скотину бейте по морде, – пишет Гоголь, – и не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие (здесь Гоголь явно начинает вольно пересказывать сюжетную ситуацию своего «Ревизора». – В. Г.). Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он черт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти».
Но вернемся к примерам о «великом» и «ничтожном» из «Старосветских помещиков». Продолжим прерванную цитату: «…а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство». Не правда ли, так и кажется, что из-за этих вроде бы «немецких» («колбасники») строк вдруг появятся два совершенно «миргородских» героя, у одного из которых голова напоминает редьку хвостом вверх, у другого – хвостом вниз. Конечно, и Иван Иванович, и Иван Никифорович вроде бы никакого отношения к войнам не имеют, да и последствия их ссоры «за вздор» как будто не столь значительны. Но давно уже замечено, что в «Повести о том, как поссорился…» немало отзвуков высокой военной патетики «Тараса Бульбы», правда проявляющейся здесь всего лишь на низменном, «предметном» уровне.
Андрей Белый писал, например, о «старинном седле с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов…», которое «тощая баба», «кряхтя», вытащила на двор Ивана Никифоровича проветриться в числе прочего «залежалого платья»: «Это – седло исторического Тараса, как знать, не прадеда ли Довгочхуна». Да и шаровары Ивана Никифоровича, что «заняли собой половину двора», явно напоминают казацкие шаровары «шириною в Черное море» из «Тараса Бульбы». Что же говорить тогда про саму причину последовавшего раздора – ружье, пусть и со сломанным замком. Словом, как писал тот же Андрей Белый, «в «Миргороде» сопоставлены рядом как конец напевного «вчера» с началом непевучего «сегодня» Тарас с Довгочхуном. Довгочхун выглядит слезшим с седла и заленившимся в своем хуторке Тарасом…».
Исследователь совсем не случайно обмолвился про «напевное «вчера»: хорошо известно, что, широко пользуясь в работе над «Тарасом» различными историческими источниками, Гоголь перед всеми иными отдавал предпочтение малороссийским песням – «живой, говорящей, звучащей в прошедшем летописи». И добавлял в статье «О малороссийских песнях» (1834): «Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции…» Поэтому в своем эпосе о легендарном, героическом прошлом – повести «Тарас Бульба» – Гоголь нередко сознательно отступает от хронологии: он относит ее действие и к XV и к XVI веку, а имена, в ней упомянутые, относятся к XVII веку (Николай Потоцкий, Остраница), как и другие детали. «Итак, три века – читатель может выбирать любой», – по справедливому замечанию Г. А. Гуковского. Но странно другое: в повести о двух Иванах писатель не только следует самому пунктуальному историзму при «объяснении места, реляции» ссоры, но и приводит точную ее дату – «показание дня и числа». Эта дата – «сего 1810 года июля 7 дня» – отмечена в прошении Ивана Никифоровича. Настоящая дата находится в разительном противоречии со словами из авторского предисловия к «Повести о том, как поссорился…»: «Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени». Но это еще не все: получив точную дату «битвы», поневоле начинаешь отсчитывать время действия повести от нее, и тогда получается, что неудавшаяся попытка примирения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича на ассамблее у городничего приходится не на какой-нибудь, а на, пожалуй, самый памятный год в истории России XIX века – 1812-й. Сам же городничий, по существу, и указывает эту дату: «Вот уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собою…» Отметим, кстати сказать, что городничий, как известно, был участником «кампании 1807 года» (и даже был во время ее ранен), так что, хотя имя французского императора ни разу в повести о двух Иванах не встречается (Бонапарт упоминается только в «Старосветских помещиках»), оно неназванным все-таки присутствует в ней.
Мы, конечно, далеки от мысли видеть в повести о двух Иванах какую-то аллегорию к истории ссор и примирений, а затем войны между Россией и Францией. Но, попав в один хронологический ряд с нею, история ссоры Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича приобретает какой-то особый, дополнительный смысл. «Великие события» проносятся над миром, забывая о своих «ничтожных» причинах. Но все в жизни взаимосвязано; и история глупой ссоры, «забывшая» про одновременную с нею великую народную войну, словно еще раз указывает: в судьбе каждого, самого «маленького» человека нет ничего маловажного, такого, что по своему нравственному смыслу не может сравниться с любым великим событием.
В «Киево-Печерском патерике» есть рассказ «О двух братьях (имеются в виду не кровные братья, но «братья по духу». – В. Г.), о Тите-попе и о Евагрии-дьяконе, враждовавших между собой», порой удивительно напоминающий гоголевскую повесть. Тит и Евагрий также прежде «имели друг к другу любовь великую и нелицемерную, так что все дивились единодушию их и безмерной любви». Но вот они поссорились и возненавидели друг друга. Умирающий Тит решился просить у бывшего друга прощения за то, что «гневался на него». Тот отвечал «жестокими словами и проклятиями». Тогда «ангел немилостивый» ударил «пламенным копьем» Евагрия, и он пал мертвым, а больному Титу подал руку и исцелил его. Древний повествователь заключает цитатами о том, что «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» и «если кому случится во вражде умереть, то неумолимый суд ждет таких».
Последняя сцена «Повести о том, как поссорился…» происходит, как известно, в церкви во время праздничной службы. Гоголь здесь ничего прямо не говорит о будущем суде над постаревшими, но не раскаявшимися в своей бессмысленной вражде Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем. Однако уже само место последней встречи напоминает об этом.
Таковы четыре нравственных урока «Миргорода». Ими, конечно, далеко не исчерпывается содержание гоголевских повестей, герои которых по воле автора проходят на страницах книги через испытания основных человеческих ценностей: любви, верности, веры, дружбы – словом, «всего, что ни есть на земле», по словам одного из них. Не все выдерживают эти испытания. Если в первой половине книги таких большинство, то вторая – рассказ о поражениях человеческого духа. И долго еще придется ждать, прежде чем произнесенное «голосом тоски» в конце «Миргорода»: «Скучно на этом свете, господа!» и отозвавшееся в пушкинском (по поводу первых глав «Мертвых душ»): «Боже, как грустна наша Россия!», обернется стремлением автора показать возрождение человека к «высокому и прекрасному»: «…Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно как день путей и дорог к нему для всякого» («Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»).
Виктор Гуминский
1
Буколическая жизнь – идиллическая, мирная, простая жизнь на лоне природы (по названию цикла стихотворений римского поэта Вергилия «Буколики»).
2
Филемон и Бавкида – супруги, дожившие до глубокой старости, которым боги в награду за их взаимную любовь и гостеприимство даровали одновременную смерть, превратив их в два сросшихся дерева (гр. миф.).
3
Пульхерия (от лат. pulchra – прекрасная) – героиня носит имя благоверной царицы греческой Пульхерии (399–453; память совершается 10 сентября по ст. ст.), о которой Гоголь упоминает в одной из университетских лекций по истории Средних веков (датируются 1834 г.).