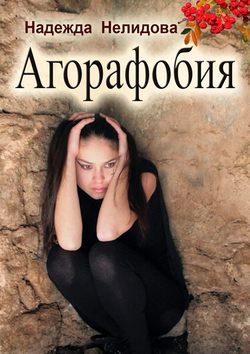Читать книгу Агорафобия - Надежда Нелидова - Страница 4
АГОРАФОБИЯ
ОглавлениеЛюдочка (от клички «Людоед», ст. 111, 126, 105, 131, 132, 244 УК РФ) проснулся за полчаса до побудки. Что-то светлое, задушевное, подзабытое за ночь, какая-то радость слабенько грела душу. Её следовало аккуратно, не спугнув, едва касаясь, не помяв хрупких крылышек, не дав растаять, извлечь из сонных тёмных глубин мозга.
Он поискал в памяти и нашёл её, радость. Даже две. Вчера вечером по радио России передавали о людях, погребённых под обломками обрушившегося многоэтажного дома. Взрыв бытового газа. У них, что ни случись – всё взрыв бытового газа. И ещё на трассе в Нечерноземье крупное ДТП с десятком погибших.
Вообще, случаи с природными катастрофами, падениями самолётов, крушениями мостов, авариями и проч. – подпитывали Людочку энергией, давали силы жить дальше. Иначе бы совсем кирдык. А так тесная вонючая камера даже начинала казаться уютным и надёжным убежищем. И его собственное положение выглядело не таким безысходным.
Кто-то в это самую минуту рукой-ногой не шевельнёт, размазанный бетонной плитой. Кого-то автогеном вырезают – а он, Людочка, перед завтраком нежится под казённым одеялом. Мысленно хихикнул, взбрыкнул под одеялом, подтягивая ноги к животу: принял позу эмбриона.
Жаль, что такие случаи были редки, и жертв было маловато. И, как бы трепетно, бережно не относился Людочка к подобным новостям, как ни смаковал – они, как сахарные косточки, – до обидного быстро обсасывались, теряли вкус. В любом случае, сегодня насыщенный, омытый смыслом день обеспечен. А не за горами новые ЧП. Будет день – будет и пища.
Гнусавый треск звонка заставил ос (осуждённых) по всем камерам вскочить. Бесшумно – пока не раздались чеканные шаги в коридоре и не сверкнул железный кругляшок дверного глазка – заправить шконки. За спиной Людочки усиленно копошился сокамерник по кличке Седой. Тщательно выравнивал и натягивал прямоугольничек серого одеяла, как зеркальце. Отступал – и снова суетливо бросался поправлять одному ему видимую шерстяную рябь, снимать какие-то пушинки.
С самого начала Седой Людочке не нравился. Не сразу до птенчика дошло, что замурован, заживо похоронен в каменной клетке: три шага вдоль, четыре – поперёк. Что никому в целом мире до него дела нет, что это – навсегда. Воображал, небось, что там, на воле, сходят по нему с ума, бросаются к компьютерам и радио: как там наш Робин Гуд? Когда дошло, что на фиг никому не нужен, что ни за понюшку табака молодую жизнь в топку сунул – волосы поседели в одну ночь.
***
Давно, ещё в первые дни, Митя перемножил 25 лет на 365 дней. 365 дней на 24 часа. 24 часа на 60 минут. 60 минут на 60 секунд. Каждая секунда, умирая, приближала призрачную свободу. Но с каждой секундой отмирала и сама жизнь, выхолащивая смысл ожидания. Нелепо, дико. Зачем ложиться строго в десять вечера? Вставать в шесть утра? Зачем всё, если уже незачем?
Пройдёт 3650 дней – разрешат ходить на работу, шить робы и тапочки. Пройдёт ещё столько же – позволят в камере телевизор. Изменится ТВ к тому времени или останется таким, каким его помнил Митя? Экран занимали сплошь свиные рыла, и хотелось, как у Чехова, с тоской возопить: «Человек! Выведи меня!»
Тяжелее всего было с молодым накачанным телом. Слишком много его, тела – некуда девать. Самые лучшие дни – когда Митя тяжело заболел. О, вот бы так на долгие годы забыться в бреду, метаться в сорокаградусном жару, плыть в волнах красного мутного жара, в воспалённом сознании забывая реальность.
Но он выздоровел и больше не болел. Только иногда, откусывая хлеб, будто обнаруживал во рту звякнувший камешек: очередной зуб без боли, сам собой выпадал из размягчённой десны. И рядом, если осторожно тронуть языком, шевелился в гнезде следующий.
Не помогал проросший болезненный, зеленовато-бледный – тоже заключённый здесь – чеснок. Он рос в подвешенном под потолочным окошком в полиэтиленовом мешочке с горсточкой земли, тщательно смачиваемой водой из-под крана. Такой же мешочек, по другую сторону окна, заботливо висел у Людочки. Такие висели по всем камерам у ОС.
Чтобы разнообразить жизнь, Митя, например, напивался воды из – под крана и с 6 утра до 10 вечера не ходил в туалет по-малому. Терпел, скрипел зубами, ни о чём больше не мог думать (и это счастье). И, когда, наконец, подскакивал к унитазу и с болью, со стоном пускал горячую стоялую, толстую мутную струю – эта боль и этот стон были от краткого острого счастья.
***
На уроках истории Митя восторгался мужеством революционеров, годами сидящих в одиночках. О, как бы он хотел оказаться на их месте, лишь бы не видеть… не слышать… не чуять ГАДА рядом. В благословенных одиночках только камень, только стены вокруг – и никто не шевелится рядом, не издаёт звуков, не дрочит всю ночь напролёт, дыша по-собачьи и не давая Мите сомкнуть глаз. Не воняет, наполняя камеру специфическим запахом продуктов жизнедеятельности, не насвистывает одну и ту же мерзопакостную песенку, не цокает издевательски языком на одной ноте. ГАД проделывает это, заметив страшно выводит из себя Митю.
Зачем? А ни зачем, хоть какие-то эмоции, впечатления. О, какому палачу пришла в голову пытка на долгие годы обречь двоих полусумасшедших (а других здесь не было) людей на вынужденное соседство, сожительство в каменном мешке?
Когда-нибудь Митя не выдержит, и они покатятся и будут вгрызаться в лицо и горло, как звери, с конкретной целью: успеть убить друг друга, пока не ворвалась охрана. После карцера их, возможно, разведут по разным камерам и вместо ГАДА появится новое лицо.
И снова по кругу, разговоры: как же так? Хорошо, по мнению общества, Митя террорист и убийца. За это его заточили живьём гнить в клетке. И в это же самое время то же самое общество ездит в метро, где сотни раз, ежедневно во всеуслышание объявляют станции, названные в честь народовольцев- террористов? Застраиваются улицы, носящие имена убийц, на чьей совести не 14 человек, а сотни тысяч…
Эй, государство, ты или крестик сними, или штаны надень!
***
В четырнадцать лет Митя понял, что всё, кроме духовного – есть тлен. И с острой жалостью и недоумением смотрел на отца и мать, тративших единственную, неповторимую жизнь на смену обоев в квартире, на выбор брусчатки для дачи. Делавших это с такой страстью, словно от этого зависела жизнь. Оживлённо прикидывавших, какой кухонный гарнитур с зарплаты купить, какие серёжки для матери на день рождения, увлечённо обсуждавших покупку одежды, мяса на ужин.
И сторонился, и стыдился, и огрызался на отца, меняющего очередного крутую тачку на ещё более крутую. Сам он, выдержав все обидные и насмешливые слова от друзей и родителей, три летних месяца носил задёрнутый до подбородка дешёвый спортивный костюм и кроссовки, найденные на мусорке и самолично постиранные, и подружился с дворовым бомжем Пашей. Только 1 сентября заставило его надеть строгую форму физико-математического лицея. Над ним смеялись – а ему было до слёз жаль людей.
В шестнадцать лет автостопом, с рюкзачком изъездил полстраны от Урала до Дальнего Востока. Пока мать ночами сходила с ума, трясся в кабинах грубых дальнобойщиков, с непременными сентиментальными занавесками с фестончиками и бахромой. Лобовые стёкла напоминали сувенирные витрины, густо увешанные бусами, мягкими игрушками, распятиями, голыми красотками и даже новогодними гирляндами.
Слушал разговоры у вечерних костерков, рассказывал сам – его заслушивались. Одобрительно били по плечу: «Ну, студент, даёшь!» В знак поощрения протягивали шампур с дымящимся подгорелым мясом.
Краснея от слёз, под ржание мужиков, пулей вылетал из кабины, когда туда, пыхтя и сверкая капроновыми ляжками, карабкалась малолетка плечевая. Уходил далеко в лес, чтобы не слышать постыдной возни в кабине. Бродил до тех пор, пока ему не кричали: «Студент! Сеанс окончен, ехаем дальше».
Он прошагал тысячу вёрст по сибирским сёлам, прибившись к печнику со странным именем-кличкой Шаргя. При малом, лилипутском росте у того на могучих плечах лохматилась огромная башка, как у гриба моховика. Шаргя талантливо, влюблённо клал звонкие жаркие печи. После смывал грязь в гостеприимной хозяйской бане и на неделю пускался в загул.
***
В 21 год перед Митей, как в былине, встал камень на четыре пути.
Первый: валить из страны, куда глаза глядят. Но разве он крыса какая, преступник, чтобы позорно дезертировать? Ну, рванут все в чистенькие, тёпленькие сытые, обустроенные кем-то до них чужие страны. А свою кто будет обустраивать?
Второй путь: принять правила игры. Стать массой, не задавать лишних вопросов, рожать детей и проедать их будущее – стать частицей многоголового, многорукого, равнодушно чавкающего Кроноса.
Третий: выйти на площадь, кататься и биться головой от безысходности – да хоть закричись, разве что пришлют машину из «дурки».
Четвёртый…
О чём они, единомышленники, только не говорили… О смерти, о любви, о торжестве Князя Тьмы на земле. О трубах, возвещающих о великой битве…
У Игоря (князь Игорь, называли за глаза руководителя группы) – необъятные плечи и грудь: только тяжёлой кольчуги не хватало. Синь глаз, спутанные каштановые волосы. Умная и горькая, в тонких морщинках ироничная улыбка… За эту улыбку не раздумывая шагнули бы за Игорем в огонь. И шагнули.
Игорь вручил ему пакет с «бомбой»: подложить к ларьку. Буднично пояснил:
– Пукалка. Акт устрашения. Ярко выраженный шумовой и световой эффект. Припугнём торгашей.
В том ларьке стационарно торговали героином, оружием, русскими девчонками – о том знал весь город.
Игорь соврал. Бомба оказалась не пукалка. Пролилась кровь. На суде Мите дали последнее слово. Он сиплым, надтреснутым, неожиданно тонким от долгого молчания голосом, запел:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Он прокручивал в уме эту сцену заранее. Хорошо бы находящиеся в зале подхватили песню и, сначала неверно и вразнобой, а потом всё более слаженно и могуче, запели:
– Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её огромные
Не смеет враг топтать
И, сильно накрашенная и крепко завитая судья, путаясь в широкоплечей бурке-мантии, прикрывая голову, побежит прочь, и листы из папок с делом, как крупный снег, полетит по залу… Об этом напишут все газеты…
Какой же он был дурак. После приговора к клетке с юными пожизненниками, цокая копытцами, набежали репортёры с камерами и диктофонами. Невидимые волосатые хвостики от возбуждения тряслись под джинсами и мини-юбочками… И слышался неугасимый звон тридцати сребреников.
Какая-то женщина, чья-то мать, рыдала, вскрикивая: «Сыночки, не стОит эта страна, чтобы вы за неё жизни отдавали! Не стОит!»
Больше всех было жаль самого юного девятнадцатилетнего Ивана – после оглашения приговора его разбил инсульт. А может, и к лучшему: сидит сейчас овощем, ничего не соображает.
***
Об этом думал Митя в камере, глядя в засаленную, потрёпанную книгу и не видя, что читает. Хотя в «Матросской тишине» пуще всего остерегали от этого: не задумываться, не цепенеть, не засыпать с открытыми глазами. Сколько пожизненников вот так стекленели взглядом, часами упёршись в одну точку. И – готовы: челюсть отвалена, слюни текут, глаз мутный, рыбий.
Чтобы не сойти с ума, Митя снова и снова переносился в детство: восстанавливал его в памяти час за часом, день за днём. Прокручивал в голове непрерывный сериал. После утренней баланды шагал по камере, вспоминая: так, на чём вчера остановились?.. Садиковская панамка в рубчик, компот, новые тугие сандалики, которыми он не мог нанюхаться. Строгая нянька с мокрым кручёным полотенцем: «Тихий час – чтоб ни звука мне!»
Самое первое воспоминание: высокое зимнее серое небо, скрип полозьев и шагов, острые верхушки заснеженных елей. И его тащат по этим елям: круто вверх-вниз. Он смотрит широко открытыми глазами, страшно: а ну как вывалится из санок? Бабушка везёт его, укутанного чурочкой, из сельской больнички вниз с горы, потом вверх на гору… Сколько ему тогда было? Четыре года? Пять?
Чем ближе к вечеру, тем он становился нетерпеливее. Каждый вечер с 19. 45 до 20.00 у него свидание с родителями. Выход на связь – так они договорились. Родители, где бы ни были, оставляют в эти 15 минут все дела. Мысленно протягивают издали руки, гладят. Отец крепко и больно прижимает к себе и держит – не отпускает. Идёт почти физическое соприкосновение. На подсознательном уровне он всегда был у них в голове («Митя…») Но эти в пятнадцать минут совершалось такое плотное, насыщенное взаимопроникновение душ, благодаря которому можно было жить ещё один день.
Митя подсовывает голову, как телёнок, под горько ласкающую, судорожно сжимающуюся, мокрую от слёз мамину руку. «Что же ты наделал, сыночка? Что ты наделал?!». Непроизвольно жмурит глаза и, забывшись, трётся щеками, носом, вдыхая запах маминой кожи…
…Завидев похабно ухмыляющегося, ненавистного Людочку, нечеловеческим усилием воли разрывает далёкую связь, отворачивается к стене. Людочка пронюхал о Митиных свиданиях и поганит их – ухмылкой, взглядом, гадким словом.
***
Ночной звонкий грохот расколол тишину камер, коридоров всех четырёх этажей. Взорвались ушные перепонки и мозг, весь спящий мир, всё небо взорвалось. Сухопутный чёрный дельфин в тюремном дворике дрогнул хвостом и дал микроскопическую гипсовую трещинку.
В первую секунду Митя присел и схватился за голову. Во вторую – с размаху уткнулся затылком в стену, будто собирался клевать рассыпанное зерно. Ноги широко разведены в поперечном полу-шпагате, руки крест-крест назад, ладони вывернуты, дрожащие от напряжения пальцы растопырены… Готов в любой момент скороговоркой отбарабанить: «ОсУжденный такой-то, осУжден по статьям 210, 222, 223, 167, 213, 205, 105—30…»
Что его ждёт за нарушение режима? Изолятор, дубинка, стакан, где изнемогающее тело перестаёт себя чувствовать через несколько часов? Или…
Только что Митя спросонок шёл к параше – месяцами выработанной мягкой бесшумной походкой-скольжением – крадущийся бы ночной зверь позавидовал. Откуда на его пути в камере взялось пустое, тускло блеснувшее в свете «дежурки» цинковое ведро?! Гремя, покатилось, раскололо мир. Вдали, за тысячи километров мама взметнулась, прижимая руки к прыгающему из груди исстрадавшемуся, истаявшему больному сердцу.
– Кто тут есь?! Ково лешак принёс?
На Митю из полутьмы таращилась старуха в ситцевом мятом сарафане. Если бы между тощих грудей не болтался крестик на грязноватом шнурке – чистая ведьма. Смотрела на стоящего раком Митю, качала растрёпанной седой трясущейся головой:
– Эк тебя раскорячило.
Он медленно, недоверчиво разогнулся. Огляделся: дощатые щелястые стены, увешанные пучками трав. Под ногами, под полом курятник: тревожно стонут и вскрикивают разбуженные куры. Он стоял в сенях, и пахло здесь, как у бабушки в деревне, луковой шелухой. Мысленно себя поздравил: слабак оказался. Не прошло года – поехала крыша.
– Засветло не мог явиться? – ворчала бабка, подбирая злополучное ведро. – Прогоню вот поганой метлой – и деньги ваши не нужны.
– Какие деньги? – едва слышно шепнул Митя, косясь на предполагаемую дверь камеры. Он всё ждал топота охраны.
– Какие. Которые за тебя плочены. Приезжие люди сказывали: к тебе, Прокопьиха, студен на постой станет. Становись, не жалко. А его ночью лешак принёс. Напугал, сердце чуток не разорвало… Айда, полуночник, койку покажу.
Митя покорно двинулся за чешущейся ворчащей старухой. Лёг на указанное место в пахучее тряпьё, вытянулся на полке как солдатик. До рассвета смотрел в потолок, ожидая, как себя дальше проявит съехавшая крыша. Смотрел, пока не засветились щели. И вдруг рухнул в сон, как в яму.
***
Его разбудили звуки летнего деревенского милого, милого детства: воробьиный гомон, протяжное, озабоченное пение и стоны кур, ищущих то ли червяка, то ли место для кладки яиц. Митю подбросило до потолка: «Побудку, побудку проспал!» Путаясь в тряпье, принялся лихорадочно и безуспешно приводить его в порядок. Ничего не соображая, огляделся…
Подумав, нерешительно потянул обитую рваным войлоком низенькую дверь. Перед ним открылась грязная комната с большой чумазой печью посредине. Из-за дощатой перегородки выглянула вчерашняя бешеная бабка.
– Продрал глаза? Садись завтрикать, студен.
В окна бился рой больших зелёных мух, мокрая клеёнка прилипала к локтям. Бабка, подумав, положила перед Митей ломоть чёрного хлеба, скупо придвинула два тёплых, прозрачных розовых яйца, стакан пенистого молока. Сразу принялась жаловаться, как заведённая:
– Коза молодая, тугосисяя. Куры шибко плохо несутся. Я сразу сказала: тута не курорт… – И, видя, что молоко, яйца и хлеб исчезли в доли секунды в молодой пасти, горестно забила себя по бёдрам, застонала: – О-о, хомяк прожорливый в избе завёлся. Ты мне избу не сгрызи!
Митя торопливо вскочил из-за стола, чтобы не раздражать бабку. Он стоял и ждал, что ему теперь прикажут.
– Чего столбом стоишь. Не обломится лопать боле ничего, не жди.
– А… Что мне делать?
– Что делать. Иди на вылежку – сказывали, ты больной. А больной-то наш здоров – из чашки ложкой… О-о-о, – снова заныла бабка, вспомнив утренний урон.
Митя на цыпочках вышел в сени, сел на полку и тихо просидел до обеда. Он решил не усугублять тяжёлую форму сумасшествия. Прокопьиха, ругаясь, шмыгала туда-сюда с какими-то черпачками, мисками, ветошками, цинковым ведром (!) По случаю дня она надела кофту, юбку с колом стоящим от грязи подолом, засаленный передник. Сиво-седые волосы убрала и заколола на затылке в крошечный кукиш.
В обед были жидкие крапивные щи в липкой от жира алюминиевой миске. Митя, под подозрительным старухиным взором, старался есть прилично медленно. Но опять нечаянно проглотил всё в секунды, повергнув Прокопьиху в стенания.
– Можно мне выйти из избы? – попросился Митя.
– Провались на все четыре стороны, таракан ненасытный, – от души пожелала Прокопьиха, с яростным грохотом швыряя ложки в кутье. – О-о, лихо на мою голову! Мне бы такой больной быть.
На дворе – мяконькое байковое солнышко. Тугие волны тёплого ветра. Изумительно чистый, сладкий травяной, медовый воздух. Облака разбросаны, как гигантские клоки небрежно отщипнутой ваты. В небесном океане послушно плыла стайка облачков-китёнышей, возглавляемая крупным пухлым облаком-старым китом. Один детёныш отбился, поспешал за стаей изо всех силёнок. Не догнал, распался на прозрачные клочки, растаял, растерзанный и проглоченный акульим зубастым ветром.
Митя не мог надышаться, жмурился и подставлял лицо ласковому свету, потокам воздуха. Бережно вбирал в себя небесное тепло, тыкался, как слепой кутёнок, как в мамины ладони.
Страшный призрак камеры не появлялся. Солнце оставалось солнцем, небо – небом, а провалившееся, вросшее в землю кривое крыльцо – гнилым крыльцом.
Когда к Мите вернулась способность слышать и видеть, он услышал шелест трав и треск кузнечиков. Перед ним открылся заросший старухин огород. Среди бурьяна можно было с трудом обнаружить: тут картофель, тут морковка. Тут мощный пырей и жирный одуванчик душили едва пробивающиеся свёкольные ладошки. Бородатый чертополох неопрятно сорил клочковатым седым пухом по всем грядам. Капустные кочаны тонули в пышных коврах мокреца.
У бабушки в деревне и у мамы на даче грядки содержались в идеальном порядке. К его наведению активно привлекали маленького Митю. Говорили: «Вырастишь свою грядочку – купим тебе новый велосипедик…» И он пыхтел, копал маленькой лопаткой, выковыривал сорняки, таскал воду в игрушечном ведёрке.
Прокопьиха, охая и держась за поясницу, выползла на крыльцо, присела рядом. Митя несмело предложил свою помощь по огороду.
– А на здоровье. Хоть какая помощь бабушке, – подобрела Прокопьиха. – И болесть, глядишь, отступит.
– Какая болезнь?
– Эта, как его… Болесть пространства, сказали. Фобья какая-то… Что ты людей боишься. За забор не смеешь носа казать.
– Агорафобия?
– А лешак знает. Шибко наказали: за забор тебя не пускать. В огород, мол, можно, а дальше – ни-ни.
– А они… не сказали? Сколько можно здесь жить?
– Сказали: сколько хочет – столько будет жить. В деньгах, мол, тебе, Прокопьиха, отказу не будет. Я и то сомневаюсь: каково со мной, сухим пеньком, в огороде торчать? Молодому здесь тесно, тошно, хуже тюрьмы. Разве что огарофобья твоя… Ты чего?
Митя хлюпнул носом. Тесно здесь? Всю жизнь?! Господи, здесь же настоящий мирок! Целый мир! Мирище! Вселенная!
Прокопьиха смотрела на повалившегося и катающегося по земле Митю, в восторге рвущего горстями и разбрасывающего траву. Дивилась, качала трясущейся головой:
– Ишь, лихоманка трясёт, вроде припадка. Огарофобья-то.
Митя долго не мог уснуть от ощущения Счастья. И проснулся в нетерпеливом ожидании, когда на улице было ещё серенько и прохладно. Руки ныли в предвкушении действия.
Первым делом он вырубил в огороде сухие кусты и деревья, торчащие там и сям как скелеты с задранными руками. Хотя нет: сначала размочил ссохшееся топорище, наточил лезвие топора, насадил расшатавшийся черенок в лопату – так делал дедушка в деревне.
Прокопьиха только качала головой. Увидев свежие, сочащиеся розовой сукровицей нежные пузыри на Митиных ладонях, отыскала в чуланном хламе пару пыльных холщовых рукавиц. На завтрак расщедрилась: вбила в сковороду шесть яиц, взболтала с молоком, покрошила молодой крапивы и щавеля. В жизни ничего вкуснее этого омлета из тяжёлой чугунной закопчённой сковороды Митя не едал.
После завтрака деловито наметил фронт работ: заросшее картофельное поле. Постоял минуту, как полководец перед боем, опершись на тяпку, как на меч…
Работал – как воду жадно пил и не мог напиться. К обеду ныли сгоревшие на солнце, блестящие от пота плечи – не разогнуться. Кучи вялого парного сорняка топорщились в небо выдранными корнями, в знак капитуляции: сдаёмся! За Митиной спиной вздымались высокие конусовидные жирные, чёрные гряды, увенчанные кудрявой голубоватой картофельной ботвой. Его воля – он бы весь Земной шар, ползая на коленках, любовно вскопал, засадил, окучил.
После обеда лёг отдохнуть. Но не мог превозмочь восторга и возбуждения, вскочил. И до вечера, до сладкой истомы в спине, ползал, полол поздно высаженные, только-только проклюнувшиеся хвостики морковки. Для отвыкших пальцев это была почти микрохирургическая работа: чтобы, не дай Бог, вместе с комочками земли не вырвать слабенькие, до слёз беспомощные ростки.
Потом Митя перешёл к капусте, погрузил пальцы в прохладный хрупкий мокрец… И тут Прокопьиха стеной встала на его защиту.
– Капуста в рост пошла – мокрец не задушит. Наоборот, земле не даст сохнуть. А я тебе его надерьгаю, да с первым огурцом, да с укропом, да с чесночком, да сметаной заправлю. В твоих столовках, студен, такого салатику не поешь!
Когда садилось за лес красное прозрачное, как уголёк, солнце, Прокопьиха полила солёного, прожаренного, ржущего жеребцом Митю – у колодца из ведра колодезной водой. И – захромала в избу разогревать на керосинке ржаные пироги с картошкой. Когда пришла звать на ужин, он мертвецки спал на своей полке в сенях. По нему, задумчиво ко-ко-кокая, гуляла курица, доверчиво сажала тёплые дымчато-топазовые кляксы.
С утра Митя занялся высохшими сто лет назад стеблями малины. Безжалостно вырезал их – и малинник на глазах молодел, очищался, вставал прозрачной сочной стеной. Под оханье Прокопьихи («Избу не спали, окаянный!») дрожащими от нетерпения руками развёл аккуратный костёрчик. Глядя на живые рыжие прозрачные язычки, жадно облизывающие сушняк – снова заскулил от счастья, размазывая грязные слёзы по лицу.
За забором в лесу раздались голоса. Митя пригнул голову, рухнул на четвереньки. За ним?! Люди прошли мимо.
– Ты говорила, одна в деревне живёшь. Все избы заколочены.
– Это зимой одна. Заметёт снегом по крышу – иной раз неделю сидим, пока не откопаемся. Ой, ску-учно, темно. Я пух пряду, Катька рядом сеном хрумкает. А летом дачники наезжают. Студенки лагерем на реке становятся. Через мою избу тропа к соседней деревне идёт в магазин. Летом здесь ве-есело, шу-умно.
Там, за забором, вольно гулял ветер в верхушках вековых деревьев, доносился могучий шум большой воды. Со стороны дачного посёлка слышался смех, далёкая музыка.
***
Через неделю вылизанный Прокопьихин участок стоял чистенький, торжественный, недоверчиво ожидающий ещё новых прекрасных перемен. Митя поменял крылечко на новое, довольно ладное. Сам себе подивился: дедова, прадедова плотницкая память рук была жива. Прикидывал, как поменять сгнившие нижние венцы у чулана.