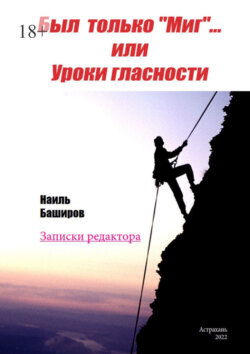Читать книгу Был только «Миг»… или Уроки гласности. Записки редактора - Наиль Баширов - Страница 4
Был только «Миг»… или Уроки гласности
Школа «районки»
Ни дня без строчки
Перестройка
ОглавлениеРазмеренная жизнь редакции нарушилась, когда генсеком стал М.С.Горбачев, а новым редактором «Коммуниста Приволжья» Михаил Александрович Анашкин. Пришла перестройка. Михаила Александровича коллектив сначала не принял. Он – бывший парторг татаробашмаковского колхоза «12 лет Октября» (в районе шутливо называли этот отстающий колхоз «12 лет без урожая»), в редакциях никогда не работал, – начал наводить порядки. Трудовую дисциплину в редакции он понимал как работу не с 9 утра, а с 7 часов. Ведь в колхозах и совхозах рабочий день начинался даже с 6 часов. Стал бороться с привычкой работников редакции побаловаться спиртным. В рамках кампании за трезвый образ жизни в редакцию как-то неожиданно нагрянули представители райисполкома Галина Сергеевна Кулышева и Ирина Аркадьевна Козловская. Нос к носу я с ними столкнулся в дверях сельхозотдела, в руке у меня была чашка. Обе уважаемые и строгие женщины одобрительно посмотрели на чашку, давая понять, что, мол, молодец, чай пьёшь. Но они не догадывались, что в чашке было только что налитое вино…
М.А.Анашкин упрямо приучал нас к планированию и отчётности. У меня были ещё свежи воспоминания об опыте бессмысленного планирования в Каспийском мореходном училище. Перед приездом инспектора ЦК КПСС проводилась проверка от обкома КПСС. Звали проверяющую от обкома Ольгой Валерьяновной, фамилии не помню. Она требовала от меня, чтобы я на каждого из полутора тысяч курсантов завёл план индивидуально-воспитательной работы. Мои возражения о том, что, если я даже составлю полторы тысячи планов индивидуально-воспитательной работы, то физически все равно не смогу эти планы выполнить, она категорически отвергала. Мы, привыкшие отвечать за конечный результат – газету, и ради этого ни с чем не считаться, были дезориентированы. Прошли месяцы, прежде чем он убедился в специфике труда газетчика, а мы в правоте его некоторых требований. Но зато он потом со всей присущей ему страстностью взялся за перестройку содержания газеты. Я благодарен Михаилу Александровичу за то, что он научил меня докапываться до сути процессов, происходящих в общественно-политической жизни, экономике района. Правда, суть он видел всегда только с партийных позиций. Мы много спорили, ругались, обижались. Как-то утром ехали вместе на работу и он по-партийному обвинил меня, непартийного: «Я знаю, что ты проповедуешь. Ты – за буржуазную свободу слова!» Его приговор тогда сильно обидел, и я хотел даже уволиться. Сейчас, по прошествии более трёх десятилетий, это обвинение в буржуазной свободе слова кажется смешным, наивным. Сейчас, но не тогда… Хотя произнёс он пророческие слова.
М.А.Анашкин сумел создать в коллективе обстановку творческого поиска, вскоре мы бурно обсуждали напечатанные статьи, планы будущих материалов, события в жизни страны и района. Нам хотелось идти на работу, чтобы узнавать что-то новое и самим активно участвовать в перестройке.
Хотя приходилось писать в первую очередь на сельскохозяйственные и производственные темы, но был ответственным тогда за тематические полосы, развороты и рубрики – «02» (милицейская), «Закон и право» (суд, прокуратура, юстиция), «Корреспондентский пост ГАИ», медицинская, историческое краеведение, литературная, школьная и другие.
Перестройка нарушила негласную табель о рангах печатных СМИ (многотиражки – районные газеты – городские и областные – республиканские – общесоюзные). Мы, несмотря на окрики свыше, смело вторгались в епархию тем и проблем областных и республиканских газет. Помнится, секретарь обкома партии по идеологии В. Аракелян публично заявил, что «Коммунист Приволжья» не должен писать на темы, подвластные областной газете, что каждый сверчок должен знать свой шесток, иначе, мол, можем закрыть вашу районку. А завсектором печати обкома горько пошутил: «Что вы бежите впереди паровоза?».
В период начавшейся гласности районная газета внесла весомый вклад в самоидентификацию астраханских ногайцев. Сейчас ясно, что татары и ногайцы – это родственные, но разные народы. А ведь совсем недавно их всех считали потомками татаро-монгольских завоевателей. «Коммунист Приволжья» оказался на острие этого процесса и известные учёные, специалисты считали за честь публиковаться в районной газете. Для координации всей работы создали общественный совет по краеведческим и национальным вопросам при редакции газеты «Коммунист Приволжья». В жарких дискуссиях и поисках золотой середины газета искала историческую справедливость. Опубликованные материалы вызвали интерес, стали известны далеко за пределами Астраханской области, в том числе у серьёзных учёных. А моё интервью перевели на ногайский язык и целым разворотом перепечатали в республиканской газете Карачаево-Черкессии «Ленин йолы» и «Шоьллик маягы» Дагестанской АССР. Это было нарушением негласной табели о рангах печатных СМИ (многотиражки – районные газеты – городские и областные – республиканские – общесоюзные), так как не принято было перепечатывать материалы из газеты рангом пониже, но говорило об актуальности проблемы, поднятой «районкой». Кстати, через несколько лет мои статьи в районной газете цитировались в научном сборнике Оксфордского университета, причём не один-два предложения, а сразу на нескольких страницах, что было для меня, конечно же, очень лестно.
С появлением Совета научно-краеведческая работа обрела более системный, планомерный характер. Увеличился актив. Материалы перед публикацией обсуждались Советом, благодаря чему избегали перехлёстов и амбициозности. На Совете было решено начать писать историю каждого села и хозяйства – члены Совета (в большинстве своём ученые, краеведы) взяли эту работу под свой контроль. Обсуждалось много других любопытных проблем, идей, предложений.
Был приятно удивлён, когда через три с лишним десятилетия ногаеведы из других регионов, из Стамбульского университета, вспомнили и выразили свою благодарность за проведённую работу, перепечатав статью «Дать шанс астраханским ногайцам», написанную мною при активной поддержке учёного-этнографа Виктора Михайловича Викторина в далёком 1989 году.
На те же годы перестройки пришлись два юбилея: 1100-летие принятия ислама на Руси и 200-летие создания ДУМЕС (Духовного управления мусульман Европейской части и Сибири), одним из мест празднования которых стала Астраханская область. Приехали представители мусульманских конфессий и национальных организаций не только из советских республик, но из Пакистана, Индии, США и других стран. Учитывая сложные отношения советской власти с религией, освещать допустили только корреспондента астраханского телевидения Олю Сосновскую и от печатных СМИ – меня, корреспондента районной газеты. От центральных СМИ никого не было. Сосновскую ограничили только новостным сюжетом, меня – небольшой заметкой, такова была установка редактору свыше. Помнится, около часа брал интервью у лидера татарской эмиграции в США Шамсии Апакай. Сам факт, что районная газета пишет о международных событиях, символичен для перестройки.
Свою публикацию послал Любовь Васильевне Шибаевой. Я учился на её письмах. И она, профессионально критикуя, показывала новые высоты в профессии, к которым должен стремиться каждый газетчик.
Из письма Любовь Василевны Шибаевой:
«Ваш материал «Все мы с одного корабля» выполнил задачу подробного информирования читателей о событии… От штампов официального события Вы ушли, дали живой рассказ, близкий к разговорной речи по стилю и насыщенный деталями, «картинками» и это хорошо. Но опытному глазу заметно, что Вы к такой работе действительно не очень подготовлены – заметно по тому, что «взять фактуру» вам удалось лучше, чем «взять тему»… Экстремальность ситуации состояла в том, что темы у Вас не было – как говорят теоретики, объект был у Вас перед глазами, а предмет своей публикации определить Вы не сумели… Чаще всего установку на предмет газетчик получает от редактора: «напиши о том-то, обратив внимание на то-то». Или знает из других газет, речей Горбачёва, что сейчас важно, на какие стороны происходящего надо направлять взгляд. Но вот происходит событие, по которому нет «заготовки» – никто не сказал «как это освещать»; в самой ситуации нет знакомых, уже как бы оценённых по важности блоков; лезет в глаза неровность, негладкость, выделяются заминки и сбои – за что зацепиться?
Вспомните, как часть в подобных ситуациях мы плывём по течению событий, пока нас это течение не вынесет к какой-нибудь готовой оценке типа «главное – чтобы был мир». Или, набрав достаточно много фактов, выстраиваем что-нибудь по веками проверенному шаблону. И всегда получается очень длинно, потому что как сделать отбор фактов, не зная, какие из них главные? Получается подробный, но беспредметный разговор «по поводу».
У Вас, впрочем, «предмет» выписался по чисто субъективному ощущению: «вот – событие, как мало мы к подобным событиям готовы»… И если бы Вашим редактором была я, то постаралась бы Вам объяснить, что собранный Вами фактический материал может быть неплохо выстроен вокруг такого предмета: ни власти, ни пресса, ни сервис, ни наше общественное сознание не готовы к тому, чтобы встречались люди не по единству экономических интересов или политических целей, а по единству веры… Повторяю – он не единственный и, может быть, не самый лучший, но Вы своего не предложили, и я имею право предложить свой.
Остаётся выяснить, почему у высокопрофессиональных журналистов темы находятся быстро в самых не привычных ситуациях, когда опыт ничего подсказать не может.
Дело в уважении к собственной личности, своим интересам: классный журналист всю жизнь разрабатывает 2—3 особо для него близкие темы. Для него лично! Аграновский всю жизнь думал о том, почему люди делятся на «умеющих и не умеющих», на мастеров своего дела и «кое-какеров». И он бы в Вашей ситуации, наверное, написал бы о неумении применить великий народный опыт гостеприимства. Или – о рождающемся умении уважать чужое мировоззрение. У этой темы неисчерпаемое количество граней и вариантов! И у Вас, я думаю, есть свой вопрос к миру, свой интерес к людям, столь же неисчерпаемый, только Вы меньше доверяетесь своему внутреннему голосу, ориентируетесь на внешнее «надо».
Новое руководство КПСС стремилось создать условия для обновления социализма, в частности, в плане демократизации были выдвинуты лозунги «Больше гласности, больше социализма!» и «Гласность нам нужна, как воздух!». Снимая административные барьеры и ряд общественных штампов, гласность во второе половине 1980-х гг. всё же не означала свободы слова.
С созданием Всесоюзного Добровольного Общества Борьбы за Трезвость (ВДОБТ) редактор, выполняя указание райкома партии, принудительно организовал в нашем коллективе ячейку ВДОБТ, а меня насильно заставил вести тематическую полосу «За трезвый образ жизни». Конечно, в убежденного трезвенника, как и многие мои коллеги, я не превратился, но свою полосу выпускал регулярно и порою делал даже развороты.
В один из летних деньков, буквально за час до окончания работы приходит в редакцию Ольга Валяева, ответственный секретарь районной ВДОБТ. Говорит, что сегодня секретный комплексный рейд, надо обязательно участвовать и осветить. Деваться некуда, тем более под руководством обаятельной и веселой Оли. Сначала мы – в составе инструктора райкома комсомола, старшего участкового РОВД (если не ошибаюсь, это был Владимир Гордеев), представителя районного комитета народного контроля и ещё двух человек – добирались да города на рейсовом автобусе, потом пересели на трамвай. На вопрос: «Куда мы направляемся?» Оля отвечала: «Пока не приедем на место, не скажу, это тайна. Рейд закрытый и, чтобы не просочилась информация, никто не должен знать». Затем по неожиданному приказу Оли на одной из остановок всей группой вышли из трамвая. Там нас ждал автомобиль. Таким образом пересекли город и вышли к другой части пригородного района. С соблюдением полной конспирации приехали к селу Карагали, а точнее к кафе «Огонёк». Перед входом в кафе Оля наконец-то объяснила нам, что по некоторым сведениям здесь тайком для «своих» продают водку. Нам надо сесть посетителями за столик, а когда старший участковый «поймает» покупателя водки и начнёт разбирательство, мы будем присутствовать в качестве районной общественности.
В кафе никого не было, сели за столик. Пришлось заказать чай и кренделя. Сидим 15 минут, 30 минут, как одинокие тополя на Плющихе… ни одного посетителя. Вскоре я вышел покурить. И тут ко мне подходит один из местных жителей и нетерпеливо спрашивает: «Ты не знаешь, когда у них закончится рейд? Выпить охота, а они всё сидят…»
Этот рейд напрашивался на фельетон, но ничего не стал писать. Иначе Оле досталось бы от начальства… хотя досталось мне: был в рейде, а материала добротного нет.
Поскольку тематические страницы ВДОБТ выходили исправно и, видимо, были кому-то интересны, вдруг Оля Валяева сообщает, что за активную пропаганду трезвого образа жизни меня награждают Почетной Грамотой Центрального Комитета ВДОБТ и что это очень высокая награда. Надо обязательно быть на областной конференции в Доме политического просвещения. Я единственный из района среди награждённых. Отказы и ссылки на то, что трезвенником не являюсь, не принимались. Куда деваться – пришёл на конференцию, которая, проводилась с большой помпой. Зарегистрировался, показался Оле на глаза. После первого же перерыва незаметно ушёл, поскольку стыдно было получать грамоту, которой морально не достоин. На следующий день мне устроили разнос. Оказывается, второй секретарь обкома партии Геннадий Александрович Горбунов, он же председатель областной организации ВДОБТ, с Почетной Грамотой в руках для торжественного вручения, несколько раз объявлял мою фамилию. Раздавались аплодисменты. Ему приятно было вручить человеку из близкого ему района, поскольку до перехода в обком он возглавлял Приволжский район. А я… бежал, как подлый трус Леопольд из популярного в те годы мультфильма. Но Грамота ЦК ВДОБТ всё же нашла своего «героя», через месяц в редакции её вручили, затем мы «обмыли» такое событие. И хотя я близко не знал Геннадия Александровича, мне было очень неудобно перед ним.
С энтузиазмом делал тематические полосы о милиции. Кроме оперативных служб освещал все направления работы милиционеров. Узнал как тяжело быть хорошим участковым и что Анискин – это вечный идеал, к которому всю жизнь должны стремиться участковые инспекторы. Вместе со старшим инспектором речной инспекции Николаем Шичкиным, здоровым, добродушным и веселым человеком, объездил все реки и протоки, погрузился в другой мир – природы, любителей моторных лодок и рыбалки, браконьеров и борцов с браконьерами. Общаясь с начальником спецкомендатуры Валерой Фрунзе, узнал жизнь людей в большинстве своем нечаянно оступившихся, среди них было много водителей-виновников аварий… Воочию убедился в многогранной деятельности добросовестного, подчеркиваю, добросовестного инспектора ГАИ. Подружился с ребятами из районного ГАИ, начальником райГАИ Николаем Геннадьевичем Сахновым (добрая ему память!), с никогда не унывающим и остроумным инспектором ДПС Уразом Синдюковым. Как-то у него работал стажером-инспектором сельский парнишка, который к всеобщему удивлению украл лошадь. Заходит Синдюков в правление колхоза имени Кирова, а девчата из бухгалтерии ему с укором говорят: «Ураз, как же так, твой стажер и украл лошадь?» Он их тут же разыграл: «Девчата, этот чудила не только украл, он ещё на крупе лошади синей краской написал „Приволжское ГАИ“. Представляете?!» Они: «Ой, неужели? Вот он дурачок…»
Целая эпоха в жизни райотдела связана с начальником РОВД Фаридом Вахитовичем Ахмедовым. Он сам работал самоотверженно и того же требовал от подчиненных, ему удавалось держать под личным контролем абсолютно каждого сотрудника. Фарид Вахитович ввел практику каждую пятницу проводить по всему району профилактические рейды, на которых были задействованы все службы. Был свидетелем, когда на оживленном перекрестке дорог Камызяк-Карагали в окружении дружинников стоял Ураз и вдруг подъехал на своей служебной старенькой «Волге» Н.Г.Сахнов, он был небольшого роста и едва выглядывал из-за руля. Несмотря на разницу в должностях, они были в приятельских отношениях. Не выходя из машины, Николай Геннадьевич через автомобильный мегафон проинструктировал: «Ураз Борисович, обратите особое внимание дружинников на то, чтобы тщательно проверяли водительские документы!» Ураз молодцевато щелкнул каблуками, вытянулся, отдал честь и громко ответил: «Слушаюсь, товарищ капитан!» И в тот момент, когда Сахнов заводил мотор своей вечно глохнувшей «Волги» и не слышал его, но слышали дружинники, с улыбкой добавил: «Да ты сам, товарищ капитан, уже лет десять без прав ездишь». Раздался хохот. Сахнов через мегафон переспрашивает: «Что? Не слышал!» Тот опять громко: «Будет исполнено, товарищ капитан!» Сахнов: «Молодец!». Синдюков с улыбкой: «Да ты ещё и глухой».
Приходилось даже участвовать в погоне. Зима, мороз, поздний вечер. Едем с Уразом в машине и вдруг перед нами из-за поворота вылетает на большой скорости самосвал «ЗИЛ-130». Мы еле успели затормозить. Самосвал мчится на подъем Татаробашмаковского моста и чуть не сбивает встречную легковушку. «Пьяный за рулем!» – говорит У. Синдюков. Погоня затрудняется из-за гололёда. Только въехав в село, водитель бросает самосвал и забегает в один из дворов. Мы за ним. Сколько ни искали по дворам, безуспешно… Затем вышел репортаж о погоне, о том, что мог натворить пьяный водитель, с анализом причин, условий и последствий. Позже У. Синдюков при наших встречах вспоминал, какую роль сыграл этот репортаж в наведении порядка на дороге и в водительских коллективах. Убежден, что очень правильно советское государство делало упор на профилактику. Не допустить правонарушения, предупредить заболевание. Когда спрашивали с начальника милиции или главного врача на бюро райкома, а спрашивать тогда партийные и советские руководители умели, обязательно ставили вопрос: а как вы предупреждаете аварийность на дороге, правонарушения, как профилактируете заболевания? Большим помощником в профилактической работе считалась, конечно же, районная газета. К сожалению, сегодня слово профилактика превратили в пустой звук. В лучшем случае под лозунгом профилактики «перекачивают» деньги из бюджета в собственные карманы… А возможностей для эффективной агитации и пропаганды сейчас несравненно больше.