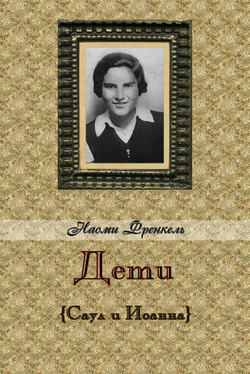Читать книгу Дети - Наоми Френкель - Страница 4
Глава третья
ОглавлениеФонарь раскачивается на ветру. Красный свет освещает черные буквы на большой вывеске: «Опасно! Строительная площадка!»
Скамейки, которая здесь стояла, давно уже нет. Однажды, летним днем, пришли сюда рабочие и убрали ее.
Вокруг лип поставили веревочную ограду. Миниатюрный травяной покров и узкие грядки цветов уничтожили. На их месте распростерлась гладкая бетонная поверхность с широкими ступенями, ведущими к квадратному пьедесталу. «Цветущий» Густав, который все лето возил сюда на тележке черную землю, поглядывал за происходящей здесь лихорадочной деятельностью, двигал ушами, подбрасывал шапку и бормотал про себя: «Густав, друг мой, если глаза твои видят верно, смущение графа не лишено основания».
Но пьедестал оставался пустым. Оттокар просто не успел водрузить на него Иоанна Вольфганга Гете. Зима оккупировал Берлин стужей и снежными бурями. Работы прекратились, и все покрыл снег.
– Уф! – говорит Эрвин, отирая лицо забинтованной рукой. Ветер швырнул в него влажный ворох снега. Облетевшие липы избиты ветром. Тонкие ветки их сгибаются под тяжестью снега. Над ними чернеют голые верхи деревьев. Посверкивающая белизна морозного покрова и чернота верхушек лип расхристаны бурей. Все голоса большого города затихли. Даже киоск Отто напротив лип закрыт на замок. Во время сильных морозов Отто перенес торговлю в коридор своего дома, в конце переулка. Как покинутый ковчег, тонет киоск в снегах.
– Иди своей дорогой, – мать Хейни протягивает руку Эрвину. Она тяжело опирается на палку, с которой ходил на прогулку ее покойный муж. Платок небрежно висит на ее голове, и ветер раздувает черное пальто. Голос у нее хриплый и слабый. – Возвращайся домой, сын мой. Отсюда недалеко до моего дома. Напротив. – И она указывает палкой.
Большие, грубые хлопья снега летают там, вокруг газовых фонарей. Снег громоздится на тротуарах, по обе стороны улицы, до стен домов. Ветер взвихривает снежные шапки на крышах. Стекла фонарей покрыты слоем льда, и почти не светят. Окна домов темны, и только трактир Флора посылает в ночь широкий сноп света. В тишине переулка разносится пугающее завывание пса Ганса Папира. Старуха втыкает палку в снег и опирается на нее всей тяжестью тела.
– Доброго тебе пути, сын мой...
Длинный язык света коснулся лица Эрвина. На мгновение ярко осветило его пламя красного фонаря, и вновь погрузило во тьму.
– Ты в беде, сын мой, – старуха положила руку на воротник его пальто – беда тебя съедает.
– Съедает, мать, – улыбается Эрвин.
– В чем дело, сын мой?
– Оставьте. Еще мои беды вешать мне не вашу шею? Достаточно бед, и не стоит их увеличивать. Возвращайся в свой дом и к своей печи, мать.
– Оставим, сын, оставим. Даже без лишних слов все видно. Не знакомы ли мне признаки? – про себя бормочет старуха.
– Что вы сказали? Какие признаки? Трудно услышать из-за ветра.
– Да, признаки. Дело нелегкое, и не сейчас время о нем говорить.
– Если так, разойдемся, каждый своей дорогой, – Эрвин берет велосипед, прислоненный к веревочной ограде.
– Успеха тебе, сын. Большое спасибо, что проводил меня, и за прекрасные слова, сказанные тобой сегодня вечером на собрании. Откуда у тебя было столько добрых слов о моем сыне, ты ведь с ним вообще не был знаком? – удивляется старуха.
Сегодня исполнилось два года со дня смерти Хейни. Вечером устроили собрание в его память. Эрвин был главным оратором.
Ветер несколько затих. Из-за густой снежной завесы нисходит и поднимается голос Эрвин уже издали, из глубины морозной ночи.
– Я знал вашего сына, матушка. Знакомство было коротким. – Эрвин ведет старуху к фонарю и освобождает свою руку от кожаной повязки. Падающий снег делает мутным свет фонаря, и Эрвин отряхивает повязку о фонарный столб. Красный свет падает на глубокий шрам на его руке. – Это память от большой драки вашего Хейни на рынке. Случайно я оказался там в Рождество и дрался на стороне Хейни против одноглазого мастера. Этот мастер – мой отец, и этот знак остался с того дня.
– Знак, – бормочет старуха, опираясь на его руку, и голос е жесток, – и офицера ты видел?
– Видел, матушка. И не только во время драки. До того, как он выстрелил в твоего сына, я встретил его в доме моего друга.
– Итак, все то, о чем ты сказал на собрании, ты ясно и твердо видел?
– Видел немного, но предполагаю многое.
Сквозь завесу снега Эрвин видит испуганное лицо Эдит в тот летний день, в саду, когда ей стало известно, что Эмиль Рифке посажен в тюрьму.
– Ты точно знаешь, что офицер никогда не действовал от имени республики? – спрашивает мать.
– Точно знаю.
– Если так, сын мой, то, что говорят коммунисты, – ложь.
– Да, матушка, – отвечает Эрвин тяжелым голосом. – Так я и сказал на собрании.
– Точно так.
В последние дни коммунисты в своих газетах снова подняли историю гибели Хейни сына-Огня. Они выяснили, что, что офицером, сделавшим смертельный выстрел в Хейни, был Эмиль Рифке, посланный нынче наводить порядок в Альтону от имени социал-демократического правительства. На собрании Эрвин обвинил коммунистов, что своими обвинениями социал-демократов они, по сути, оправдывают тех, кто в действительности посылал этого офицера, чем и способствуют палачам...
– Офицер – нацист? – кричит мать, и слова ее летят по ветру.
– Полагаю, что это так, но точно не знаю.
– Но именно это и нужно узнать!
Эрвин провожает ее до входа в переулок. Она исчезает, входя в дом, и Эрвин возвращается к липам, и уезжает на своем велосипеде.
Город тих. Не слышно звонка трамвая, гудка автобуса, грохота поезда. Не видно толкущегося народа у входа в метро. В истории города первая всеобщая забастовка. Бастуют транспортники. Темные фигуры снуют во всех направлениях. Ледяная корка на тротуарах и мостовых трещит под тяжелыми сапогами, и безмолвие тут же замирает вслед за ними. Эрвин разглядывает забастовщиков, выставивших пикеты на перекрестках, и долго еще поворачивается к ним. Ему кажется, что он наедине со всеми этими черными фигурами, движущимися по улицам. Ветер, бьющий навстречу велосипеду, остро колет в лицо, обжигая его до красноты, руки замерзли, и дыхание теряется под порывами ветра. Он слышит шум сталкивающихся льдин на реке. Слева, за небольшим полем, течет река Шпрее. Конец улицы упирается в мост, по ту сторону которого – его дом. Там ждет его Герда. Эрвин сходит с велосипеда, немного размяться, и начинает хлопать себя по бокам, сбрасывая снег со своего пальто, топает замерзшими ногами, постукивает замерзшими рукавицами, трет посиневшие щеки и нос. Затем опирается о стену дома. Ночная тьма глубока. Снег смешивается с нею. Но вот он уже у моста. Огоньки уже ведут его по знакомой улице, и он уже размяк и замерз достаточно, чтобы вернуться к Герде. Она ждет его там, чтобы приступить к решительному, меняющему ход судьбы, разговору, а он все убегает от ее упреков и уговоров. Неожиданно он поворачивает обратно велосипед и останавливается около небольшой забегаловки на углу. Свет пробивается наружу из ее окон и слышны звуки старой народной песенки, звучащей с патефонной пластинки. Из-за стойки смотрит на него старый трактирщик, потирая руки.
– Что, парень, тяжелая зима. Такой зимы еще не было.
– Каждый год то же самое, – сердитым голосом отвечает Эрвин, и не может понять, откуда у него возник этот недружелюбный тон, – каждый год та же зима, и каждый год люди говорят, что такой зимы еще не было!
Эрвин видит себя в зеркале за спиной трактирщика. Почти не узнает самого себя. Снимает шапку. Чуб взъерошен. Светлые волосы во многих местах поседели. Глаза слезятся, и, несмотря на то, что щеки покраснели, пробивается сквозь красноту какое-то темное отчаяние. Брови прыгают: где это он уже видел это несчастное лицо с этими пятнами отчаяния? Его мать! Так ему помнится лицо госпожи Пумперникель в тот день, когда он с нею расстался и больше ее не видел. С таким лицом она смотрела на него: потемневшим, беспомощным от отчаяния. В тот день, оставив навсегда родительский дом, он был еще студентом Берлинского университета. Это были дни инфляции, дни, бурно продуваемыми по-новому веющими ветрами. Он подолгу гулял с Гердой, каждый вечер приходил и свистел под ее окнами. Дом ее родителей соседствовал со зданием старого суда, первым судебным зданием, построенным в Берлине. Стены здания украшали различные статуи: обезьяна – символ вожделения, орел – символ грабежа и убийства, дикий кабан – символ коррупции и взяточничества, и странная птица с человеческим лицом и ослиными ушами – символ корыстолюбия. Напротив здания суда, посреди круглой площади, стоял большой памятник Мартину Лютеру, который держал открытую Библию из бронзы в руках, протянутых к аллегорическим скульптурам пороков на стенах судебного здания. Эрвин и Герда сидели на ступенях памятника Мартину Лютеру. В те дни Герда еще не была истовой христианкой. Маленький позолоченный крестик еще не висел у нее на шее. Оба носили эмблему коммунистической партии, и говорили не о любви, а об их совместном участии в борьбе. И чем больше говорили об этом, тем сильнее разгоралась между ними любовь. В те дни воздух города пылал от знамен демонстраций, от гражданских диспутов и войн. Ораторы рождались на улицах. Голодные люди, чье имущество и сбережения съела инфляция, прислушивались к «освободителям» и предсказателям будущего, как, к примеру, Отто Кунце, странного путаника, с жирным блестящим лицом, словно бы сделанным из недопеченного теста. Он толкал многословные речи на улицах и площадях, обвиняя во всех бедах этого голодного города социал-демократов и евреев, и беспрерывно повторял: «Бейте их палками!» Отсюда пошло выражение «Кунце Палкин». За короткое время он собрал достаточное число приверженцев, чтобы получить место в парламенте, и там, среди избранных представителей нации, продолжал истерически выкрикивать: «Бить палками евреев!»
Когда однажды Эрвин и Герда пришли к своему месту на ступенях памятника Мартину Лютеру, место их было занято. Там стоял Кунце и рубил свою «правду-матку», и масса народа взирала на Мартина Лютера и «Кунце Палкина». Рядом с Кунце стоял отец Эрвина, мастер Копан, который вернулся с войны без одного глаза и с обидой на весь свет: «Бить их палками! Палками!» И мастер поднимал вверх свою прогулочную трость, и помахивал ею в воздухе так, что воздух свистел. Эрвин был потрясен и испуган. Он все еще видел отца, мастера, как человека приветливого, каждое воскресенье посещающего церковь, и трость сопровождала его шаги ритмичным стуком по тротуару. До этого дня он не чувствовал изменений в поведении отца, ничего не знал о новом пути одноглазого мастера.
– Гляди, Эрвин, – сказала Герда голосом, полным боли и презрения, – насколько омерзительны эти типы, просто человеческие отбросы!
Но он тогда не сказал Герде, что среди омерзительных типов был и его отец. Он испугался, что Герда узнает про его кровную связь с истерически вопящим рядом с Кунце человеком. Эрвин чувствовал, как растет ненависть из этого стыда, и как под этой ненавистью рушатся его детство и юность. Он сбежал тогда от памятника. Преследуемый этой ненавистью и позором, он пришел домой, собрал свои вещи, чтобы навсегда покинуть отчий дом.
Тогда его мать готовила в кухне борщ из красной свеклы. Серый передник ее был весь в красных пятнах. И он по ее серому лицу понял всю правду, обнаруженную им у памятника. Она молча прислушивалась. Из всего, что он ей сказал, она поняла, что ее единственный сын покидает дом и никогда сюда не вернется! Она знала сына, его упрямство, и стояла, замерев, у плиты, отирая руки о передник, глаза ее смотрели на сына, и лицо потемнело от отчаяния.
– Выпей водки, товарищ, – говорит старый трактирщик успокаивающим голосом, – это снимает угнетенность тела.
Эрвин опрокидывает рюмку одним махом и говорит нетерпеливо:
– Еще!
– Ну, конечно, конечно, – обращает внимание трактирщик на лицо клиента, покрасневшее от неожиданного разлившегося по всему телу тепла. Клиент опирается на стойку, словно на миг лишился сил. «Хороший клиент!» – говорят хитроватые глаза трактирщика, он склоняется над стойкой и говорит:
– Лучше двойная порция, парень, тебе необходим серьезный глоток.
Эрвин берет полную рюмку и направляется к одному из пустых столиков. Все остальные заняты. В такие морозные дни все питейные заведения забиты народом. Только в углу, за маленьким столиком сидит один человек. Эрвин занимает свободное место, рядом с ним. Человек пьян, взгляд у него мутный. За спиной его звуки патефона, смесь голосов, дым сигарет, запах алкоголя, медленное перемещение теней. Воздух забегаловки до того уплотнен, что вгоняет в угнетающую дрему. Слабо мерцающая лампочка на столе посылает шарики света в полную рюмку Эрвина, и они порхают по поверхности водки.
– Ирена! – обращается к Эрвину сосед плаксивым голосом, и кладет руку ему на плечо. – Ирена, ах, Ирена! – Икает. Сосед – крепкий усатый мужчина, с голубыми глазами и светлым волосом.
– Я не твоя Ирена, – снимает Эрвин руку соседа со своего рукава.
– Ты не Ирена. Разве кто-то сказал, что ты Ирена? Она моя жена. Из-за ее имени, у нее водятся мухи в носу. Мухи. Я тебе говорю, она дочь уборщика, и отец ее всю жизнь ковырялся в мусоре. А я взял ее в жены. И я... – Капли пота выступают у него на лбу. – Я... – икнул... Я! Профессиональный портной, работаю на швейной фабрике, где шьют пальто. Но пришла безработица, вышвырнули меня оттуда...
Эрвин еще раз махом опрокидывает рюмку. Сосед провожает взглядом каждое его движение. Расслабились все члены Эрвина. Туман усталости и жара в голове. Веки отяжелели, он закрывает глаза, но сосед снова кладет руку ему на плечо.
– У нее мухи в голове, товарищ, родила трех детей, и уже провозглашает и объявляет – хватит потомков, Эгон. Пора тебе обуздать свою чувственность. А я... товарищ, не хочу и не должен. Достаточно женщин для развлечений, но из-за того, что я безработный, приходится возвращаться к Ирене. Говорю ей – я без работы, и единственное мое удовольствие...
Глаза Эрвина рыщут вокруг, ища, куда скрыться от чувств назойливого пьяницы. Трактирщик ловит ищущий взгляд Эрвина, и вот уже стоит рядом, склонив голову.
– Еще, товарищ? У меня превосходный шнапс...
– И мне... товарищ, – ноет профессиональный портной, – нет у меня в кармане ни гроша... И очень желательно, чтобы ты угостил меня рюмочкой, человек. Я ведь тебе выкладываю душу. Выпьем рюмочку для сближения сердец.
– Дай нам! Дай нам... От твоего превосходного напитка, – Эрвин не ощущает, что угодливый тон посетителей забегаловки прилип к его языку.
Алкоголь смягчает его настроение. Картины и мысли приходят к нему как бы из дальней дали, хаотично стучат в голову, как ветви дерева – в окно рюмочной. Чужой голос без конца что-то нашептывает ему, голос человека, находящегося по ту сторону стола и за снежной вьюгой, бушующей там, за окном. Пытается Эрвин узнать человека, находящегося далеко от него, но сосед опускает голову и заслоняет того, далекого.
– Езус, – ноет портной, – товарищ! И что говорит И... Ирена? Распутник, говорит она, подумай лучше о том, чтобы бороться за свои права, как любой человек в наши дни. У тебя голова только настроена на грязные дела. Иди! – говорит она, иди и ты, сделай хотя бы раз что-то большое и чистое, выйди на улицу бороться, Эгон!
«Нет! – шепчет издалека голос. – Не выходи на улицу, Эрвин». – Это же голос Герды. – «Если ты больше не можешь идти с нами, не проповедуй против нас. Возвращайся домой, и молчи. Храни свою душу во имя твоего сына и во имя меня... Не выходи на улицу, Эрвин. Молчи!»
– Ха-ха-ха! – помирает от смеха профессиональный портной в полный рот, обдав лицо Эрвина тяжким облаком алкоголя. – Ха-ха-ха, товарищ, я говорю тебе то, что сказал Ирене. Хорошо, ты хочешь дела большого и чистого, пойду, помою слона. Ха-ха-ха! И пошел... Взял денег, пришел сюда, и вот, есть у Ирены дело большое и чистое.
«Герда, – шепчет голос в мозгу Эрвина, – нет, Герда, нет! Я не буду сидеть в доме и молчать!» – Он не чувствует своих двигающихся губ. – «В эти дни, Герда, каждый человек стремится жить честной творческой жизнью, быть частью общего пробуждения, большой войны. Так же и я иду своим путем!»
– Да, да, ха-ха! – смеется портной. – Я проучу Ирену.
«Герда! – стучит голос в мозгу Эрвина. – Герда, вывод в наши дни...» «Молчи, Эрвин!» «Послушай, Герда!» «Молчи!» – Эрвин охватывает ладонями голову. Но головная боль не проходит.
– Я проучу ее! Я проучу ее! – кричит портной.
«Вывод нашего времени, Герда, в том, что каждый шаг вперед начинается с отрицания ошибок и существующих лживых теорий. Я пытался познать на практике все идеалы моего поколения, Герда, все его движения, все наши ошибки и заблуждения, которые подталкивали меня».
«Молчи, Эрвин, замолкни! Каков смысл в этих твоих словах в наши дни. Отвечать надо на другие вызовы дня. Нет свободного времени на сомнения».
«Послушай, Герда, послушай!» – Эрвин ударяет кулаком по столу, и портной тоже ударяет.
«Слушай! Какое ничтожество требуется от человека, чтобы всю жизнь шагать по единственной линии мысли, выполнять слепо единственный неизменный долг. Какого ничтожества вы требуете от человека, Герда...»
«Прекрати, Эрвин. У меня не меньше сомнений, чем у тебя, несмотря на мою неотступную веру...»
«Почему мы все время ссоримся, Герда, почему?» – крупные капли пота покрывают лоб Эрвина.
– Слушай, товарищ, слушай! – кричит портной и ударяет кулаком по столу. – Сейчас я скажу тебе, И... Ирена хочет быть святой, как... в церкви.
Эрвин прислоняется к спинке стула, отирает пот со лба и вздыхает с облегчением. Голоса в сознании замолкли. Конец ссоре. За толстые голые стены церкви не проникает никакой голос. Как хорошо, что пришло ему в голову искать в ней укрытие от мучавших его голосов. В детстве он приходил в церковь со своей матерью, госпожой Пумперникель, и отцом, уважаемым мастером. Юношей он приводил в церквушку своего друга Гейнца, церквушку на берег Шпрее – «Церковь святого Петра». Сидел с другом в глубокой нише около входа и нашептывал свои тайны. Церковный служка Эрих Бенедикт Фидельман подходил к ним, вперял взгляд в Гейнца и удивленно говорил: «Мальчик, ты еврей!» Никто никогда ему не рассказывал, что Гейнц, светловолосый юноша, – еврей. Бенедикт Фидельман, высокий, узкогрудый, длинноногий, широкоплечий, веснушчатый, в очках, обладал шестым чувством в отношении многих вещей. Он вел беспрерывные войны с женщинами, юношами и мышами. За церковью, на небольшом пустынном поле, иногда располагался рынок, носящий имя церкви – «Рынок Петра». Толстобрюхие женщины у рыночных прилавков носили кличку – «Ангелы Петра». Они окрестили Бенедикта «Очкастый журавль». Дети дразнили его этой кличкой и стреляли вслед ему из игрушечных пистолетов. Но самой большой бедой для него были мыши. Они приходили с рынка и находили себе в церкви теплое и удобное местечко. Эрих Бенедикт Фидельман вел с ними неустанные войны. Иногда призывал на помощь Эрвина, единственного юношу, к которому питал добрые чувства, и Эрвин отвечал ему тем же, защищал его от мальчишек на улицах и от мышей в церкви. Вместе с Бенедиктом Эрвин ходил по пустынной, едва освещенной церкви, рассыпая яд по углам, и Бенедикт обращался к юноше грустным голосом: – Юноша, этот яд не помогает. Я сельчанин, и хорошо в этом разбираюсь. Ты рассыпаешь яд против мышей, приходят коты, съедают мышей и подыхают от отравы. Прилетают хищные птицы, клюют дохлятину, и сами тоже подыхают. А без хищников мыши размножаются и заполняют весь мир. Так оно, юноша, мелкие гады всегда побеждают...
– Что ты там все время нашептываешь? – выходит из себя портной. – Все время повторяешь гады, гады... Берегись называть мою Ирену гадом. Не то, почувствуешь кулаки профессионального портного. Прекрати ее так называть!
«Не называй их гадами, Бенедикт», – пугается Эрвин, – Герда выходит из себя, когда я называю этим словом мышей, рыжего и тех, кто его посылает. Рыжий посещает Герду каждый день – предостеречь ее от мужа-извращенца и напомнить о ее единственном долге перед партией. Молчи, Бенедикт, молчи!»
Решительным движением Бенедикт кладет миску с ядом на пол между своими длинными ногами и начинает хлопать в ладоши, выбивая ритм какой-то неслышной мелодии.
– Говорю тебе, перестань без конца стучать пустой рюмкой! Этот стук раздражает меня. Сильно раздражает!
Эрвин внимает неслышной мелодии ладоней. И Эрих Бенедикт одаряет его долгим, невероятно печальным взглядом и спрашивает столь же печальным голосом: – Что с тобой будет, в конце концов, юноша Эрвин?
«Не знаю, Бенедикт. Здесь, где мы одни, без Герды, я могу назвать гадом этого рыжего, который приходит к моей жене день за днем. Это один из тех гадов, которые всегда возвращаются и побеждают. Всегда! Вчера пришел к Герде с угрозой. Речь шла о забастовке. Большой забастовке работников транспорта. До нее наша жизнь была почти спокойной. После смерти господина Леви я вернулся к Герде и маленькому сыну. Работал на литейной фабрике «Леви и сын», и приносил Герде, как полагается в семье, месячный заработок. Жизнь была нормальной и спокойной, несмотря на то, что все лето бурлило событиями. Все дни и ночи я проводил дома, читал книги и занимался малышом, заброшенным и нуждающимся в любви, как любое малое существо. Герда осталась членом партии и даже достигла в ней высот. Мы были вместе не в хорошем или плохом смысле, просто тень непроизносимых вслух вещей сопровождала нас все время. Мы старались сохранять в напряжении тот малый островок тишины и покоя между нами. Вся моя общественная деятельность сократилась до размеров задымленного литейного цеха фабрики. Там я сумел добиться уважения среди литейщиков до того, как вспыхнула эта судьбоносная забастовка вопреки решению профсоюзов. Коммунисты и нацисты провозгласили ее. Вместе они шагают в демонстрации по улицам Берлина. Коммунисты нарушили фронт и воюют плечом к плечу с нацистами...
Звон усиливается. Эрих Бенедикт Фидельман стучит ладонью по жестяному боку миски с ядом. Эрвин пугается. Портной рядом с ним стучит по столу, так, что рюмки подпрыгивают и звенят.
– Ты не перестаешь... называть Ирену гадом! Ты...
Эрвин не обращает внимания на портного. Фидельман заполнил его душу. Эрвин погружен в беседу с ним. Не так уж много есть, что ему рассказать. Но это надо сбыть с души.
«Эта забастовка, Фидельман, вырвала меня из покоя, вернула на сцену. Я воюю, Бенедикт я ораторствую на площадях и перекрестах улиц».
«Перестань это делать, Эрвин, перестань! – Голос Герды. – Рыжий был у меня сегодня. Если не прекратишь, партия будет тебя судить. Не может покинуть известный лидер партию, чтобы публично выступать против нее, и не нести за это ответственность».
«Я знаю, Герда. Закон в ваших руках. Я готов к партийному суду».
«Суду у нас! Ты там, и я там... Эрвин, вернись!»
«К кому, Герда?»
«Ко мне! Не к нам!»
Он хочет притянуть ее к себе, но снова ничего не видит, кроме арки входа в церквушку Петра над собой, и надписи золотом и серебром большими буквами – «Простри, Господи, крылья Свои над каждой живой душой!»
Эрих Бенедикт Фидельман исчез, и глаза Эрвина, ищущие его, натыкаются на хитрый взгляд старого трактирщика, который стоит рядом, готовый обслужить.
– Еще?
– Еще!
– И мне! – стучит кулаком портной. – Он тут сидит и без конца бормочет... Ругает мою Ирену. Он должен угостить меня стаканчиком в знак примирения.
Голова Эрвина отяжелела. Глаза закрыты. Пылающая голова погружена в ладони. Портной успокоился. Звуки патефона замолкли. Облака табачного дыма сгустились. Где-то слышен пьяный крик. Сухой кашель и женский смех. И снова тишина, в которой слышен свист ветра за окнами. И вдруг студеный и сильный порыв ветра проносится по залу. Дверь распахнулась и со стуком захлопнулась. Шаги тяжелых сапог по деревянному полу. Смутное волнение среди посетителей. В разных местах люди вскакивают с мест.
– Рот фронт!
– Хайль Гитлер!
Мгновенно вспыхнувшая сумятица голосов. Со всех сторон кричат – одни сжимают кулаки, другие вскидывают руки. Портной вскакивает с места и исчезает.
Четверо мужчин у стойки пьют пиво. Пикет забастовщиков решил немного согреться. Двое из них в черных штанах для верховой езды, высоких черных сапогах, коричневых куртках, с повязками на рукавах, на которых – черная свастика. Двое других в тех же одеждах, только куртки светлые, на груди знак «Серп и молот». Черные шапки у всех четырех, привязаны шнурками к подбородкам.
– Прозит!
Восклицание мгновенно объединяет всех посетителей забегаловки, которые тут же окружают четырех пикетчиков. Трактирщик работает, не покладая рук. Только Эрвин из угла не поворачивает к ним голову, еще не соображая, кто эти четверо. Но почему стул у его столика пуст? Словно кто-то силой сорвал его соседа с места. Эрвин тоже движется туда, где портной маячит в первых рядах. Эрвин отталкивает его, словно хочет с ним поругаться. На пикетчиков он внимания не обращает. Люди в форме – дело привычное в эти дни. Народ за его спиной увеличивается. Четверо мужчин чувствуют себя в своей среде в окружении этих лиц, выражающих им поддержку. И вот уже перед Эрвином бокал пива, хотя он его не просил. Он протягивает руку, и видит себя в большом зеркале между груд бутылок. Четыре черных головных убора, привязанных шнурками к подбородкам, и между них его светловолосая взъерошенная голова. Четверо – как стена за его спиной. Четверо тюремщиков поднимают бокалы, Эрвин тоже поднимает. Звон сталкивающихся бокалов слышен за его спиной. Рука его опускается. Может, стена эта рухнет и рассосется! Стена прочна. Четверо тюремщиков вокруг него. Свастика с одной стороны, серп и молот – с другой.
– Свободы! Дайте мне свободу!
– Не кричи, – шепчет трактирщик Эрвину и протягивает ему бокал. – Ты что, сошел с ума. Пей и молчи!
Никто, кроме трактирщика, не услышал выкрика Эрвина. Вокруг звенят бокалы и голоса. Эрвин прилежно подносит бокал ко рту. Из-за эмблем, голов, рук, бровей, лиц, четыре пары глаз упирают взгляды в его лицо, четыре физиономии в зеркале хохочут.
– Что за смех? Вы смеетесь надо мной? Не смейтесь надо мной?
– Никто над тобой не смеется. Заткни пасть, если тебе дорога твоя жизнь.
Смех еще не прекратился. Ах, там, в стене, возник просвет. Один сдвинулся. Бежать! Один прыжок – и он свободен. Господи! Просвет закрылся. Это портной, его мимолетный друг возник между свастикой и серпом и молотом, держит бокал и кричит:
– Я совершу де... дело... большое и чистое!
Хочет Эрвин поднять кулак и чувствует боль в руке. Трактирщик вцепился ему в руку ногтями. Боль заставила его отвести глаза от зеркала и посмотреть в сердитое лицо трактирщика.
– Человек, будь человеком, сбереги свою душу, помолись благодарной молитвой за этот шум и суматоху, благодаря которой не слышат твоих слов, рассчитайся и немедленно убирайся отсюда.
– Мы еще посчитаемся, – кричит Эрвин, – посчитаемся до конца!
– Заткнись немедленно! – шепчет голос рядом с его ухом, и чей-то острый взгляд уставился в него. Тут возникают в его мозгу искры осознания ситуации.
– Сколько?
Кладя на стойку банкноту, он снова смотрит в зеркало. Трактирщик торопливо кладет на стойку сдачу. Но Эрвин не видит денег – взгляд его не отрывается от зеркала. Портной окружен тремя . За спиной его – голова в черной шапке, прикрепленной к подбородку кожаным шнурком. Портной сдвинут с места, словно кто-то его сильно толкнул, Четвертый снова замыкает стену.
– Вперед! – сдавленным голосом кричит портной, высоко подняв бокал. – Вперед... к окончательной победе! – его тяжелое тело падает на Эрвина.
– Не выталкивай меня отсюда!
– К окончательной победе! – наваливается портной на Эрвина.
– Не хочешь сдачи, – шепчет трактирщик, – бери это, – и вталкивает в карман пальто Эрвина плитку шоколада, – это покроет сдачу. Только убирайся с моих глаз.
– К победе! К победе!
Мечутся волнами руки в зеркале:
– За победу! Вперед!
– Хайль Гитлер!
– За победу! Рот фронт!
– Ложь! – кричит Эрвин. – Все лгут! Ложь!
– Он нарывается на скандал, – обращается трактирщик к четырем.
– Вы толкаете всех не к победе! Вы толкаете...
Сильные руки волокут Эрвина. Нет у него сил оказать сопротивление. Только голос его не умолкает:
– Придет день. Все вы исчезнете с городских улиц! Все эти рубашки! Коричневые и красные.
Резкий ветер закрывает ему рот, режет пылающее лицо, ерошит непокрытую голову. Шапку он забыл на стуле в забегаловке. Влажные хлопья снега выводят его дремотного сознания. Над дверью забегаловки тянутся длинные полосы света от большого фонаря. Белые тротуары пусты. Никого здесь не было миг назад? Никто здесь не ораторствовал перед толпой? Следы подошв на снегу вдоль тротуара. Куда все подевались? Почему ушли? Ни одной живой души! Только деревья по сторонам тротуаров и между заснеженными и безмолвными домами сбрасывают снег под порывами ветра. Надо бежать отсюда. Нет велосипеда. Он тоже оставлен у забегаловки. Полосы света словно хлещут по Эрвину. Глаза его возвращаются к человеческим следам на снегу. Он идет по ним, словно хочет обнаружить того, кто оставил эти следы, стоял здесь и, может, даже слышал его слова. У моста следы исчезают. Эрвин бежит по безмолвно замершему гладкому полю и быстро исчезает во мгле.
Герда услышала звук ключа, проворачиваемого в замке, и напряжение на ее лице спало. Она сидела на кровати, в толстом шерстяном свитере, большая подушка подпирала ей спину, большие очки в черной оправе на носу, с книгой, освещенной настольной лампой, в руках, в которой за последний час не прочла ни одной страницы. Очки сдвинулись на кончик носа, книга выпала из рук.
– Это ты, Эрвин?
– Ну, конечно, дорогая, это я.
– Твой ужин в печи, Эрвин.
– Минутку, Герда, только сброшу мокрую одежду.
– Ты совсем охрип, Эрвин. Иди сюда быстрей, согрейся.
Дыхание его все еще не успокаивается, после бега по ветру. Уши пылают. Пальцы замерзли. Он с трудом расстегивает пуговицы пальто, сбрасывает с него снег. Из кармана что-то торчит. Каким образом попала эта плитка в его карман? Конечно, это он купил Герде. Что вдруг? Никогда не приносил ей шоколад. Не было такое принято между ними. О чем он думал, когда решил купить плитку дорогого шоколада? Кажется ему, что размышлял о чем-то важном, но о чем. Вспомнить не может.
– Что ты там делаешь, Эрвин? Поему ты застрял в коридоре?
– Снимаю мокрую обувь, Герда, и немного причешусь.
Из зеркала в ванной смотрит на него влажное припухшее лицо. Глаза красные, утомленные. Где он уже сегодня видел это лицо? Из-за зеркала, из-за лица полного отчаяния и беспомощности, возвращаются воспоминания. Теперь он чувствует боль, синяки от рук, которые толкали его. Была драка. Он сейчас ее припоминает.
– Эрвин, ну что-то ты там замешкался?
– Я иду, Герда! Я иду! – и замирает в дверях комнаты. – Вот, для тебя, Герда. – Он приближается к ней и протягивает плитку шоколада.
В полном удивлении, она сотрясается от смеха и кутается в свитер.
– Возьми, Герда, возьми.
Какая-то непривычная мягкость слышна в его голосе, и плечи ее вздрагивают. Лицо его какое-то совсем иное, словно что-то отвлеченное проступает в нем.
Она протягивает ему руку и бормочет:
– Очень красиво, Эрвин. Спасибо. Это действительно приятно.
Ее шершавая рука, дрожащая в его руке, пробуждает непривычные, забытые струны души. Губы прижимаются к ее руке с жадностью человека, который ждал этого мига давно, выстрадал его. Лицо ее тоже меняет выражение. В последние недели страдания сделали выражение ее лица смутным, огрубило его, и светлые глаза потемнели. Она разрывалась между верностью Эрвину и верностью партийному долгу. И выбрав партию, она замкнулась в отчаянии. После такого решения, она не была готова а таким эмоциям.
Все было перевернуто, вопреки всякой логике. Лицо ее было растерянным, красным, глаза увлажнились. Она положила свою холодную руку на его охваченный болью пылающий лоб.
– Но, Эрвин, Эрвин, – поглаживает она плитку шоколада, лежащую на одеяле. Эрвин склоняет к ней голову и обнимает ее плечи. Запах алкоголя ударяет ей в лицо.
– Ты пьян! – Она отталкивает его, и выражение омерзения проступает на ее лице. Эрвин отпрянул. Не он, а что-то более общее засмеялось в нем коротко и остро. Герда не может принять его беспомощность.
– Твой ужин там. Сядь и поешь, – указывает она на печь в углу комнаты.
Но Эрвин не голоден. Тошнота сжимает его горло. Он хочет удалиться в смежную комнату, к маленькому сыну, лечь на диван, отключиться от всего, и от нее тоже. Но не решается. Послушно идет к печке, извлекает сковороду с едой, которую она ему приготовила. На столе белая светящаяся чистотой скатерть, и посуда, приготовленная для ужина. Но эта чистота и порядок уже не связываются с его жизнью, которой завладел беспорядок и сумятица. Он рассеянно плюхается на стул, а Герда молчит. Чем-то раздражает нервы это тяжкое молчание. Он захлебывается, кусок не лезет в глотку, и он отталкивает тарелку. Дрожь от холода сотрясает его тело. Он кладет руки на стол, и голова падает на них. Босые ноги замерзли. Убегая от зеркала к Герде, он забыл надеть домашние туфли. Он хочет рассказать ей, что носки у него порвались, и смеется про себя: чего ему приходить к ней с такими мелочами? Чувство бунта против всего этого пробуждается в нем. Чувство сопротивления рождает в нем новые силы:
– Носки у меня порвались.
– Ах, – поднимает она голову, – действительно, я не проверяла твои носки в последнее время... Почему ты не надел хотя бы домашние туфли?
– Я не нахожу их.
– Сейчас принесу.
– Что ты? Не выходи из теплой постели в холодный коридор.
– Чего ты столько времени шатался по улицам после собрания?
– Ты уже все знаешь о собрании. Рыжий тип посетил тебя и сегодня.
– И не один. И не ко мне пришли. К тебе.
– Ко мне? Что им еще от меня нужно?
– Хотели с тобой поговорить. Пришли с добрыми намерениями. Они хотят отменить суд, учитывая былое ваше товарищество. Ты знаешь, Эрвин, внутренний партийный суд требует выводов и также... Приговора. – Голос ее холоден, и Эрвин опускает голову. – Эрвин, хотя бы один раз нам следует поговорить открыто. Я давно жду этого разговора. У меня нет больше сил – все это выдержать. Что будет, в конце концов, с нами, Эрвин?
Он уже слышал такой вопрос в ту ночь. В мозгу его смешиваются голоса.
– Что будет с тобой, в конце концов, юноша Эрвин?
Жестяная ложка ударяет в миску с ядом. Порывы ветра взвихривают снег за окнами, стучат в стекла. Печаль в голосе Эриха Бенедикта Фидельмана столь глубока, что в самом вопросе заключен ответ. Красный фонарь раскачивается на ветру и старуха, мать Хейни, говорит хриплым голосом: «Нет нужды в стольких словах, Эрвин, я видела знак на твоем лбу». Эрвин проводит ладонью по лбу. Сердце возбуждено ощутимо ночным безумием, а в душе усталость и размягченность, какие бывают после долгого, трудного и бесцельного диспута. Герда в ореоле света не поднимает головы, и молчание между ними, как пропасть.
– Герда, уже все сказано, слова тут уже не нужны.
– Когда было сказано что-то серьезное? – отвечает она сердито. – Давно уже мы не говорили откровенно.
– Говорили, Герда. Был долгий разговор. Нечего к нему прибавить.
– Эрвин, что ты говоришь? Ты...
Хотела добавить слово «пьян», но Эрвин вскочил со стула и смотрит на нее тем взглядом, в котором выражено все его душевное состояние. Она опять кутается в свитер, вид у нее несчастный.
– Герда, – придает он своему голосу добросердечный тон, – ты хотела сказать, что я пьян. Нет, дорогая моя, опьянение мое в эту ночь было не опьянением. Я вернулся к тебе из ужасных мест. Там все сказано, Герда. Там все потеряно. Я вернулся бездомным. Осталась нам лишь сила души. Силы, которым вручены наши жизни, не в силах отобрать наши души. И душа моя любит тебя, Герда. Странно, что в дни, когда, по сути, все разрушено, именно, в эти страшные дни я ощутил в себе любовь. Это талант души, как любой талант, и он обладает великой силой, если хочешь знать. Давай держаться друг за друга.
– Эрвин! – кричит Герда. – Если ты меня любишь, почему оставляешь меня на произвол судьбы?
– Я оставляю тебя, Герда? На кого?
– Ты оставляешь меня в их руках! Я остаюсь у них, Эрвин, чтобы стеречь твою жизнь. Не только потому, что, по-моему, нельзя оставлять воюющий фронт, не только потому, что оставлять его я считаю предательством. Не из-за всего этого я осталась с ними. Я не хочу потерять свой дом. Но пока еще я их лидер, я сумею защитить твою жизнь.
Он ерошит ее волосы и улыбается. Свет лампочки мигает. Ночь заглядывает в комнату.
– Бедная моя. Так и осталась наивной и чистой. Душа твоя не постигает, что они, твои друзья не отличают невинность от долга. Я о тебе беспокоюсь, Герда.
– Если так, Эрвин, почему ты не делаешь единственную вещь, которую надо сделать?
– Что ты просишь от меня?
– Сядь и успокойся. Они от тебя не требуют ничего, кроме твоего молчания. Что тебе до этой войны? Один, без партии, ты ведешь против них подстрекательские речи. И долго ты будешь это делать?
Снова в ее глазах ожесточение человека, решение которого неизменно, и он не хочет слушать никаких возражений. И от этого решительного лица в сердце его вернулось отчаяние. Он отворачивает от нее взгляд. Там, за темными стеклами, возникает лицо старухи, и низкий ее голос звучит в опустошенном мире, на собрании в память ее убиенного сына.
– Мой Хейни один пошел войной и не вернулся. И муж мой пошел не с толпой, один, и больше я его не видела. В тот день объявления войны, он вернулся домой с улицы и сказал:
«Голубка моя, толпа восторженно взывает к войне, а в углу, на ящике, стоит один единственный человек, Карл Либкнехт, и проповедует против войны. Я с ним, голубка моя... на фронт пойду, к оружию не прикоснусь». Вышел и не вернулся. От таких людей, как он, стараются быстро избавиться!»
Он снова смотрит на Герду:
– Я должен идти своей дорогой, даже один. Или ты бы хотела, чтобы я потерял самого себя, стал человеком без обличья, без внутренней сущности?
Она поджимает губы. Взгляд ее падает на чистую подушку, приготовленную для него.
– Разденься, Эрвин, – она ловит его удивленный взгляд, обращенный на чистую подушку. – В эту ночь тяжко во много раз. Поспим немного, Эрвин.
Когда он сбросил рубашку, на лице отразился ужас. Она увидела синяки на его руках и теле.
– Эрвин, что случилось? Что произошло?
– Бой, Герда, – отвечает он равнодушным голосом.
– Бой? Кто тебя бил? Кто тебе это сделал?
– Избили как надо!
– Кто? Кто?
– По двое с каждой стороны, Герда, – отвечает он с легким смехом, – я оказался между забастовщиками.
Он рассматривает свои руки в синяках, словно пытаясь определить, кто бил его. Герда сбрасывает одеяло. И с чувством солидарности бежит к нему и обнимает за шею. Слезы текут из ее глаз. Она прикладывает прохладные руки к его синяках.
– Они тебе это сделали. Все! Все! – сильные рыдания сотрясают ее.
Он сжимает ее в объятиях, целует в глаза, полные слез, чувствуя с удивлением чудные ее объятия.
– Что они с тобой сделали?
Он старается успокоить ее и слегка отстраняет от себя.
– Успокойся, Герда. Это обычное дело. Происходит каждый день.
– Но все это они тебе сделали. Все набрасываются на тебя. Все!
Она чувствует его одиночество, как свою вину. Прижимается к нему, и он обнимает ее. Они сжимают друг друга в объятиях, словно боятся потерять друг друга. Эрвин гасит лампу, держит ее в объятиях, гладит ее тело и голову, как бы защищая ее от стужи и ветра.