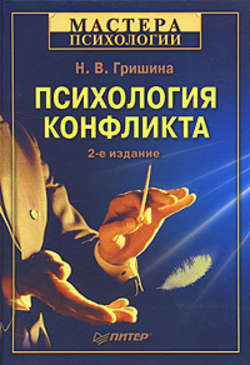Читать книгу Психология конфликта - Наталья Гришина, Наталия Гришина - Страница 62
Часть I. Основы изучения конфликтов
Глава 3. Отдельные виды конфликтов
Межгрупповые конфликты
Ситуационный подход
ОглавлениеИ все же гораздо больший резонанс в изучении межгрупповых конфликтов в психологии (и социальных науках вообще) приобрел ситуационный подход. Как мы видели ранее, для ситуационного подхода характерен поиск детерминант психологических явлений в ситуации, контексте, особенностях внешних факторов. В исследовании межгрупповых конфликтов именно этот подход стал наиболее плодотворной основой как теоретических построений, так и эмпирических обобщений.
Эксперимент М. Шерифа. Ситуационный подход в исследовании межгрупповых конфликтов прочно связан с именем Шерифа и его уже упоминавшимися экспериментами. Шериф поставил своей целью доказать, что решающими факторами, определяющими кооперативный или конкурентный характер межгруппового взаимодействия, являются факторы ситуации непосредственного взаимодействия групп. В соответствии с этим он выстроил методическую процедуру своего эксперимента, искусственно создав ситуацию конкуренции, жесткого соперничества между группами. На первой стадии создавались группы со сформировавшейся структурой и групповыми нормами. Эта стадия продолжалась около недели, после чего между группами начиналась конкуренция за счет искусственного создания разнообразных ситуаций, когда цели одной группы могли быть достигнуты только за счет другой, т. е. инициировалось жесткое соперничество групп. И в этой ситуации между группами возникает явная враждебность и конфликт и одновременно растет внутригрупповая солидарность. В эксперименте Шерифа мальчики описывали себя как «смелых», «крепких», «дружных», тогда как «они» (члены другой группы) были «трусы», «нахалы», «вонючки» (Майерс, 1997, с. 643). Контакт между группами использовался лишь как возможность для взаимных оскорблений. Например, когда один из «Орлов» столкнулся с «Громобоем», другие «Орлы» потребовали от него «смыть с себя грязь». Несмотря на «приличное» происхождение, в тот момент мальчики были, по выражению Шерифа, «сборищем злой, испорченной и разнузданной шпаны».
Окончательно Шериф закрепил свой успех, решив преобразовать ситуацию конкуренции в ситуацию кооперации. Если его гипотеза о решающей роли ситуативных факторов верна, то изменение ситуации должно было изменить и характер межгрупповых отношений. В качестве средств изменения ситуации Шериф выбрал общие объединяющие цели, наличие общей угрозы, опасности, проблемы, создавая тем самым объективную ситуацию взаимозависимости и взаимной заинтересованности.
Для этого использовалась последняя стадия эксперимента, когда перед членами противоборствующих групп ставились общие задачи, которые могли быть решены только совместными усилиями. Им приходилось вместе тащить «сломавшийся» грузовик, собирать общие деньги для просмотра дорогостоящего фильма и др. Уменьшение их неприязни друг к другу было совершенно очевидным (рис. 3.2). Домой они ехали вместе на одном автобусе и уже не держались двумя раздельными группами, а, подъезжая к родному городу, дружно запели приветственную песню. Таким образом, «с помощью изоляции и соперничества Шериф превратил незнакомцев в заклятых врагов. С помощью экстраординарных целей он превратил врагов в друзей» (Майерс, 1997, с. 657–658).
Соревнование «я выиграл – ты проиграл» быстро превращает незнакомцев во врагов, порождая открытую конфронтацию даже у нормальных честных мальчиков.
Д. Майерс
Столь же удачными оказались попытки Р. Блейка и Дж. Моутон, воспроизводивших в своих экспериментах с руководителями ситуацию, смоделированную Шерифом. Руководители (более 1000 человек) сначала занимались в раздельных группах, затем соревновались с другой группой и далее объединялись ради достижения общих значимых для них целей. Их поведение и реакции в целом оказались подобны реакциям подростков Шерифа (с поправкой на возраст). Эксперименты Шерифа имели большой резонанс. На фоне пессимистических рассуждений о неизбежной межгрупповой враждебности, берущей свое начало в природе человека и человеческих отношений, доказательства ситуативной обусловленности конфликтов открывали перспективы влияния на межгрупповые отношения и, более того, перспективы эффективного управления конфликтами. Кроме того, результаты, полученные в рамках ситуационного подхода, лучше согласовывались с идеями и работами социологов в области конфликтов.
Именно на основе исследования конфликтов в рамках социального контекста и с учетом социальных переменных была сформулирована реалистическая теория конфликта.
«Реалистическая теория конфликта». Д. Кэмпбелл считает, что «реалистическая теория группового конфликта» является своего рода протестом на психологизированное объяснение межгрупповых конфликтов, интерпретирующее их как «прожективное выражение проблем» самой группы.
Конфликт рационален в том смысле что те или иные группы действительно имеют несовместимые цели и конкурируют в стремлении овладеть ресурсами, которые не беспредельны… Своим названием эта теория обязана обращением к так называемым «реалистическим» источникам группового конфликта, а ее исходным тезисом является предположение о «рациональности» конфликта.
Д. Кэмпбелл
Основные положения «реалистической теории группового конфликта» Д. Кэмпбелл формулирует следующим образом.
«1. Реальный конфликт интересов различных групп обусловливает межгрупповой конфликт».
Межгрупповой конфликт будет, соответственно, особенно интенсивным, если реальный конфликт интересов значителен, а предполагаемый выигрыш сторон велик.
«2. Реальный конфликт интересов, а также явный, активный или имевший место в прошлом межгрупповой конфликт и/или наличие враждебности, угрозы и конкуренции соседних групп (что в целом может быть названо „реальной угрозой“) обусловливают восприятие угрозы отдельными членами группы».
Соответственно дальнейшие положения могут рассматриваться с точки зрения либо реальной угрозы, либо воспринятой угрозы, либо и той, и другой.
«3. Реальная угроза обусловливает враждебность отдельных членов группы к источнику угрозы».
По Шерифу, враждебность тем больше, чем значительнее подвергающаяся угрозе ценность, чем существеннее цель, к достижению которой стремятся конкурирующие группы, и чем серьезнее помеха на пути достижения.
«4. Реальная угроза обусловливает внутригрупповую солидарность».
«5. Реальная угроза обусловливает более полное осознание индивидом собственной групповой принадлежности (идентичности)».
Это положение было сформулировано Козером и конкретизировано Шерифом, показавшим, что внешняя угроза, как и межгрупповая конкуренция, приводит членов группы к преувеличению собственных достоинств и чужих недостатков.
«6. Реальная угроза увеличивает непроницаемость групповых границ».
«7. Реальная угроза уменьшает отклонения индивидов от групповых норм».
«8. Реальная угроза увеличивает меру наказания и степень отверженности нарушивших верность своей группе».
«9. Реальная угроза приводит к необходимости наказания и остракизма членов группы, отклоняющихся от групповых норм».
«10. Ошибочное восприятие членами группы угрозы со стороны внешней группы обусловливает повышенную внутригрупповую солидарность и враждебность в отношении внешней группы».
Речь идет о сознательном использовании выявленных закономерностей для усиления сплоченности группы или ее сохранения, например искусственное нагнетание внешней угрозы, поиск врага и т. д. (Кэмпбелл, 1979).
Хотя, как уже отмечалось, некоторые положения реалистической теории имеют психологический характер, сама теория в целом является синтезом данных социально-психологических экспериментов и ситуаций взаимодействия групп и развития социологических идей.
Из других тезисов социологов полезны для понимания межгрупповых конфликтов и работы с ними положения Козера о факторах длительности конфликтов и Зиммеля об их остроте.
По мнению Козера, длительность конфликта определяется следующими факторами: ясностью целей конфликтных групп, степенью их согласия по поводу смысла победы или поражения, способностью лидеров понять, чего стоит победа, и убедить своих сторонников в том, что желательно прекратить конфликт (Тернер, 1985, с. 173–174).
Г. Зиммель об остроте межгруппового конфликта
1. Чем больше группы вовлечены в конфликт эмоционально, тем острее конфликт.
A. Чем выше была раньше степень причастности групп к конфликту, тем сильнее они вовлечены в него эмоционально.
Б. Чем сильнее была раньше вражда между группами, принимающими участие в конфликте, тем сильнее их эмоции, вызванные конфликтом.
B. Чем сильнее соперничество участвующих в конфликте, тем сильнее их эмоции, вызванные конфликтом.
2. Чем лучше «сгруппированы» группы, втянутые в конфликт, тем он острее.
3. Чем выше относительная сплоченность участвующих в конфликте групп, тем острее конфликт.
4. Чем крепче было раньше согласие участвующих в конфликте групп, тем острее конфликт.
5. Чем меньше изолированы и обособлены конфликтующие группы благодаря широкой социальной структуре, тем острее конфликт.
6. Чем меньше конфликт служит просто средством достижения цели и чем больше он становится самоцелью, тем он острее.
7. Чем больше, по представлению его участников, конфликт выходит за пределы индивидуальных целей и интересов, тем он острее.
Несмотря на некоторую общность положений реалистической теории конфликтов и ряда социологических представлений, отраженных, в частности, в работах Зиммеля и Козера, нельзя сказать, что эти две точки зрения полностью совпадали. В частности, одним из дискуссионных остался вопрос о связи межгрупповой враждебности и внутригрупповой сплоченности. Сама связь при этом не подвергается сомнению и не оспаривается, однако высказываются разные мнения относительно их причинно-следственного характера.
Одна из возможных позиций состоит в том, что внутригрупповая сплоченность ограничивает выход негативных чувств для членов группы, в связи с чем разногласия и напряженность между ними находят свой выход в аутгрупповых проявлениях, в частности во враждебности к «другим» (что, соответственно, становится следствием внутригрупповой сплоченности). И наоборот, другая точка зрения рассматривает внутригрупповую сплоченность как «защитную реакцию» на внешнюю угрозу со стороны «других», конкуренцию с ними и другие проблемы. Эта позиция также представляется вполне обоснованной, и на ее счет имеются экспериментальные подтверждения.
Хотя эти две точки зрения нередко противопоставляются, вряд ли они должны рассматриваться как взаимоисключающие. Речь вполне может идти о двух разных механизмах, «работающих» в разных условиях: как внутри-групповая солидарность может при определенных обстоятельствах способствовать возникновению и интенсификации аутгрупповой конфликтности, так и межгрупповая враждебность может вести к усилению внутригрупповой солидарности.
Таким образом, несмотря на успех реалистической теории, нельзя считать, что получены ответы на все вопросы, касающиеся природы и процесса возникновения межгрупповых конфликтов.
Обобщение М. Дойча. Дойч, обобщив результаты своих многочисленных исследований, а также работ других авторов, следующим образом сформулировал различия по ряду параметров между группами, вовлеченными в процесс кооперативного или конкурентного взаимодействия (Deutsch, 1985, р. 118–119).
1. Коммуникация:
а) кооперативный процесс характеризуется открытой коммуникацией и честным обменом информацией между участниками, которые заинтересованы информировать и быть информированными;
б) конкурентный процесс характеризуется недостаточной коммуникацией между участниками, попытками разными способами получить информацию о других, снабжая тех в свою очередь вводящей в заблуждение информацией.
2. Восприятие:
а) кооперативный процесс усиливает восприимчивость участников к сходству и общности интересов, стимулирует конвергенцию их представлений и ценностей и, напротив, снижает тенденцию к подчеркиванию различий. Также усиливается способность принимать другую точку зрения;
б) конкурентный процесс имеет тенденцию усиливать восприимчивость к различиям и опасности, идущей от других, и минимизировать сходство с ними. Возникает чувство полной оппозиции: «Ты плохой, я хороший».
3. Установки по отношению друг к другу:
а) кооперативный процесс ведет к доверительным, дружественным установкам относительно друг друга, увеличивает желание помогать другим, способствует взаимному принятию и ожиданию быть принятым;
б) конкурентный процесс ведет к подозрительным, враждебным атти-тюдам, усиливает готовность негативно реагировать на просьбы и потребности других, способствует взаимному отвержению и ожиданию быть отвергнутым.
4. Ориентация на задачу:
а) кооперативный процесс стимулирует тенденцию участников подходить к решению общей задачи с использованием их индивидуальных возможностей и делает их способными заменять друг друга в совместной работе. Он способствует координации усилий участников и их общему пользованию ресурсами таким образом, что их продуктивность в задачах, включающих взаимозависимую деятельность, увеличивается. Ведет к определению конфликтных интересов как общей проблемы, могущей быть решенной совместными усилиями. Облегчает признание законности интересов друг друга и необходимости поиска решения, которое отвечало бы интересам обеих сторон. Имеет тенденцию скорее ограничивать, чем увеличивать масштаб конфликтных интересов. Попытки повлиять на другого имеют тенденцию ограничиваться процессом убеждения. Целью становится усиление общей мощи и ресурсов;
б) конкурентный процесс затрагивает разделение ресурсов и труда, а также координацию действий таким образом, что страдает продуктивность выполнения задач, которые были бы оптимальнее решены в ходе взаимосвязанной работы. Конкуренция стимулирует точку зрения, в соответствии с которой конфликты могут разрешаться только в результате навязывания одной стороне позиции другой.
Усиление собственной мощи и ослабление другой стороны становятся целями участников, что увеличивает масштабы конфликтных проблем. Для влияния на других используются насилие, тактика угроз и хитрости.
М. Дойч считает, что эти сравнительные результаты влияния кооперативной и конкурентной ситуации отражают не только процессы взаимодействия между группами, но приложимы и к внутригрупповым проблемам.