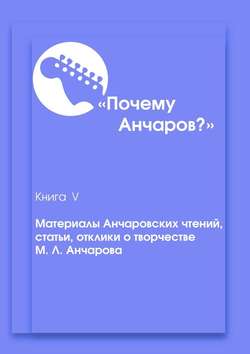Читать книгу Почему Анчаров? Книга 5. Материалы Анчаровских чтений, отзывы и рецензии на творчество Михаила Анчарова - Александр Васильевич Теренин, А. В. Брега, Наталья Фёдоровна Антоненко - Страница 5
БИОГРАФИЯ М.Л.АНЧАРОВА
ЮРИЙ РЕВИЧ
Немного об изобретениях М.Л.Анчарова и «третьей сигнальной системе»
ОглавлениеКогда составляешь биографию любого человека, крайне важно показать место, которое его достижения занимали в общей картине своего времени, как они соотносились с деятельностью других, как на неё влияли, какое вызывали отношение и что осталось в сухом остатке нам, потомкам. Это, пожалуй, самый сложный момент, потому что тут запросто можно оторваться от реальности и впасть в любую из крайностей, например: превознести достижения до небес и при этом оставить непонятным, почему же до сих пор вашему герою не ставят памятники в каждом городе. Или наоборот: впасть в покровительственный тон всезнайки-потомка, снисходительно похлопывающего по плечу дремучего и необразованного предка.
Насколько в биографии М.Л.Анчарова нам удалось избежать этих крайностей, судить читателю, а сейчас мы приведём несколько фрагментов из книги, которые посвящены оценке самых, наверное, не понятых читателями сторон деятельности Анчарова: его технических и научных предвидений. Серьёзному рассмотрению эти грани его творчества никогда не подвергались, чему в немалой степени виной сам автор, демонстративно представлявший их в упрощённой, иногда шуточной и уж во всяком случае далёкой от какой-либо научности и техничности форме. Между тем сам Анчаров относился к этим моментам своего творчества вполне серьёзно и очень обижался, что они остаются незамеченными. Вот мы и рассматриваем на примерах, насколько эти обиды обоснованы и имеют ли его изобретения и идеи какое-либо практическое значение.
Анчаров потом много раз обращался к своему представлению, что творчество и вдохновение являются универсальным механизмом создания нового в любой области человеческой деятельности – это можно найти почти в любом его прозаическом произведении. В конце концов эта идея вышла из рамок анчаровского творчества, стала общепринятой, и её, наверное, можно причислить к главным и бесспорным положительным итогам эпохи. Идея стирала различия между научным и художественным видениями мира, которое тогда ещё вызывало беспредметные и бессодержательные споры о том, «кто лучше: поэт или учёный».
Осознав важность этой мысли, Анчаров решает попробовать, как это выглядит на практике – применение методов творчества к смежным областям, – и ему показалось, что получается. В «Самшитовом лесе» он напишет про себя в то время: «И надо было ждать, когда идеи признают производительной силой, а ждать Сапожников не мог, его бы разорвало, и была такая полоса и такая жажда придумывать, что он каждый день высказывал идеи, которые потом назовут «пароход на подводных крыльях, конвертолёт и видеозапись». И до сих пор ещё в журналах «Техника – молодежи» и «Наука и жизнь» появляются давние, отгоревшие сапожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Сапожников мог показать журнал и сказать: «А помните?“…» Очень характерная для Анчарова небрежность: «конвертолётов» не существует, есть «конвертопланы». Ну и как тут серьёзно относиться к такому вот изобретателю, который даже терминологию толком выучить не может?
Надо сказать, что многие изобретения в реальности действительно делались дилетантами, что может служить блестящим подтверждением идей Михаила Леонидовича. Ярким примером может служить одно из самых значимых изобретений в новейшей истории – постройка телеграфа Самюэлем Морзе. Великий изобретатель до того, как увлёкся телеграфом, был, между прочим, признанным художником-портретистом и даже основателем и президентом существующей до сих пор Национальной академии дизайна в Нью-Йорке – чем не анчаровский типаж? Отличие, однако, Морзе от Сапожникова в том, что бывший художник не ждал, когда кто-то более технически подкованный подхватит его идею и загорится воплощать её на практике: он всё сделал сам, по мере необходимости привлекая компетентных консультантов со стороны.
Проще всего показать истинное место, которое занимают практические результаты анчаровского увлечения изобретательством, подробно разобрав самый известный пример, в пропаганду которого он сам вложил немало сил.
Речь идёт о «вечном двигателе» Сапожникова. Подробнее, чем в «Самшитовом лесе», где представлена только голая идея генерации энергии за счёт всегда существующих её потоков (правильнее было бы сказать – разностей потенциалов), эта конструкция была представлена Анчаровым в статье «Бесплатная энергия?!», опубликованной в 1987 году в журнале «Студенческий меридиан». В нашей книге пример подробно разобран и показано, во-первых, что принцип изобретён еще в XIX веке, во-вторых, почему, собственно, анчаровская конструкция, описанная в «Студенческом меридиане», неработоспособна (хотя и довести её до ума не очень сложно), в-третьих, почему сам принцип не востребован в широких масштабах. Хотя сейчас каждый может себе купить на дачу основанный на этом принципе отопительный агрегат, называемый «тепловым насосом», но стоит это дорого, намучаетесь вы с ним изрядно, да и электроэнергию получать таким способом невыгодно, только тепло (а о том, чтобы приставить к каждому станку, как мечтал Сапожников – и говорить не приходится).
Но всё это не важно: обратите внимание, что такие конструкции есть, идея не погибла, пусть она и не принадлежит Анчарову! Да, не слишком востребовано, ибо экономически оправдывается с большим трудом даже в Европе, где энергия сравнительно дорогая и существуют дотации наподобного рода «экологически чистые» агрегаты («экологически чистые» – в кавычках, потому что на деле они не очень-то и «чистые»). Потому здесь важна не сама по себе конструкция, а главная идея, которая намного опередила своё время, – размышлял-то об этом Анчаров на рубеже 40-50-х, когда об экономии энергии ещё и не заикались. В наше время «тепловой насос» – один из многочисленных способов сбора рассеянной энергии из окружающей среды, наряду с гидротермальными станциями, солнечными батареями, электростанциями приливными, волновыми, ветровыми и т. п.
Сама по себе идея заимствования энергии из окружающей среды, до которой Анчаров дошёл самостоятельно, гораздо важнее технических деталей конструкции его «вечного двигателя». Идею сбора рассеянной энергии, заложенную в «вечный двигатель Сапожникова», можно поставить в ряд с другими блестящими предвидениями нашего героя: сейчас весь мир как раз активно работает над различными воплощениями альтернативой энергетики. В те «времена высоких энергий» (как выразились сотрудники журнала «Изобретатель», рассматривавшие изобретение) утилизация рассеянной энергии рассматривалась только там, где она была абсолютно необходима, как солнечные батареи в космосе или ветряки на полярных станциях. И практически до конца ХХ столетия основная ставка делалась на новые высокопотенциальные источники – особенно вдохновлял современников Анчарова термояд, как не требующий дефицитного сырья и теоретически даже не нагружающий окружающую среду радиоактивными отходами. Не их вина, что из блестящего старта мирной термоядерной программы так пока и не вышло ничего путного – слишком велики оказались трудности на этом пути, а состоявшаяся позднее чернобыльская катастрофа надолго отбила охоту заниматься ядерной энергетикой вообще. Меж тем первые грозы над нефтяной экономикой прогремели ещё в 1970е годы, во время «арабского» нефтяного кризиса. Потому-то сейчас никто не видит другой перспективы, кроме как становиться на «путь Сапожникова», всё больше обращаясь к той самой рассеянной, «низкой» энергии, о которой столь пренебрежительно отзывались технически образованные собеседники Анчарова.
Обо всём этом Анчаров даже не подозревал, но интуицией Михаил Леонидович обладал просто потрясающей: из обрывков разговоров, газетных заметок, научно-популярных очерков и просто слухов он сумел отфильтровать главную, даже центральную проблему современности ещё тогда, когда она давала самые первые незаметные всходы.
Стоит также обратить внимание на анчаровскую формулировку «когда идеи признают производительной силой». Действительно, во времена индустриализации и у нас, да и на Западе тоже, во главу угла ставили исключительно материальные ценности: так, стоимость предприятия считалась равной сумме стоимостей её материальных активов. В настоящее время, когда словосочетание «интеллектуальный капитал» стало привычным, уже никого не удивляет, что компании Apple и Microsoft, не имеющие никаких собственных производственных мощностей, числятся в рекордсменах по капитализации, обогнав традиционных лидеров – глобальные нефтяные империи Shell и ExxonMobil. Этот поворот произошёл сам собой с началом информационного века, где именно идеи и их носители стали играть определяющую роль, а интеллектуальное достояние становится важнее материального. Анчаров, конечно, поворота к информационному веку не предвидел (его не предвидел в таком масштабе вообще никто), но саму идею уловил ещё тогда, когда она была совершенно не очевидной.
И так со многими идеями Анчарова – они содержали совсем не то рациональное зерно, которое рекламировал автор. Настоящий смысл его идей оказывался куда важнее прямого, на невнимание к которому сетовал Анчаров, и далеко выходил за рамки представлений самого их автора.
Рассмотрим подробнее под таким углом одну из научных идей Анчарова, которую он не переставал пропагандировать всю жизнь. Сначала нужно отметить, что наука и техника в отношении к дилетантам различаются диаметрально. В истории изобретательства дилетантов полно, собственно, их даже гораздо больше, чем профессионалов. А вот наука, наоборот, дилетантов и их теории не терпит совершенно: наука представляет собой довольно законченную систему, где любая мелочь связана со всем остальным и в отрыве от этого «всего остального» рассматриваться не может. И здесь непризнанный одиночка чаще всего является синонимом «лже-» или, в лучшем случае, «псевдоучёного». Поэтому наука дилетантов отторгает, и, в общем, правильно делает: в её истории практически нет примеров, когда непризнание гения всерьёз и надолго затормозило бы развитие науки. А вот обратных примеров, когда неправильно выдвинутая теория может обернуться огромными потерями, полно: пример для нашего соотечественника на виду, когда влиятельный шарлатан Трофим Денисович Лысенко меньше чем за полтора десятка лет умудрился закопать отечественную биологию так глубоко, что она уже никогда не смогла вернуться на те передовые позиции в мире, которые занимала в первой половине ХХ века.
Поэтому и случаи, когда Анчаров претендует на «научность», рассматривать значительно сложнее.
В повести «Голубая жилка Афродиты» Анчаров упоминает о некоей «третьей сигнальной системе», которая, по его представлениям, должна заведовать вдохновением:
«…Стало быть, один художник от другого отличается каким-то особенным богатством внутренней жизни, которое нельзя свести ни к интеллекту, ни к эмоциональности; ни ум, ни темперамент ещё не делают художника, хотя и нужны ему, как всякому человеку. И вот, занявшись тогда поисками этой особенности, я убедился, что её, особенность эту, можно определить одним словом – вдохновение. Я понял, что это некое душевное состояние, свойственное только тем, кто может изобретать эти приёмы, а не копирует их, и только в тот момент, когда он их изобретает.
Что же заведует в мозгу вдохновением? Ежели оно есть, должен быть и механизм. Первая сигнальная система заведует сношениями с внешним миром, рецепторы – глаза, уши и прочее. Вторая заведует речью. Опять не годится. Описать свои ощущения может каждый, а изобрести нечто новое – только некоторые. И тогда мне пришло в голову, что должна существовать третья сигнальная система, заведующая вдохновением, то есть особым способом мышления, которое отпущено многим, но возникает редко. И в эти моменты человек добивается результатов, которых ему никаким другим путём не добиться.
Парнем я тогда был неглупым, хотя и наивным до изумления.
Изложил я все эти соображения в письме, снабдил большим количеством цитат – высказываний великих мастеров, описывающих это состояние, и отправил в Академию наук. И получил оттуда ответ – он у меня и сейчас хранится. Суть ответа такова. Третьей сигнальной системы быть не может, потому что о ней ничего не говорится у Павлова, а кроме того, мысль о ней не нова, её высказывали академики – приводились фамилии, – но после соответствующей критики они отказались от этой мысли. Ну тут я сразу успокоился. Потому что времена были такие, что после соответствующей критики отказывались от собственных родителей, не то что от мысли».
И хотя в «Птице Гаруда» Анчаров издевается над этим ответом, нельзя не признать, что реакция научного учреждения была вполне оправданной. Наличие первой и второй сигнальных систем – не выдумка Павлова, а итог многолетних опытов и наблюдений. Анчаров занимался не наукой, а метафизикой – выдумывал новые сущности путём абстрактных размышлений над неочевидными и совсем не общепризнанными фактами, даже не пытаясь их подкрепить целенаправленными экспериментами или хотя бы разработать методическую основу для проведения таковых. Он демонстрирует не только слабое владение предметом, но и непонимание того, как устроена наука.
И что в сухом остатке – остаётся посмеяться над не понимающим предмета дилетантом? Совершенно нет!
Сложнее всего было эту теорию Анчарова классифицировать – понять, к чему её отнести. Интуитивно ясно, что в рамки одной нейрофизиологии, к которой относится учение Павлова о первой и второй сигнальной системах, эти представления Анчарова не совершенно умещаются. Ближе всего была психология, в её рамках феноменом творчества занимались отечественные учёные Лев Семёнович Выготский и Александр Романович Лурия, а также некоторые немецкие учёные, в том числе ученик Фрейда Карл Юнг. То есть, если уж встраивать всё это в рамки тогдашних научных представлений, следовало бы отнести теорию Анчарова к ведомству психологии. Но в СССР она целых тридцать лет, с 1936-го по середину 1960-х, была под фактическим запретом, и уж точно в научно-популярных журналах об этом не рассказывали.
После долгих поисков обнаружилась, наконец, научная дисциплина, к которой идеи Анчарова о творчестве ближе всего. У нас она по-прежнему не признаётся за отдельную науку, но на Западе существует единый термин: cognitive science, в буквальном переводе «наука о мышлении» (или «наука о познании»). У нас подобные учёные числятся по ведомству психологии, любимой Анчаровым нейрофизиологии, лингвистики и даже философии: питерский профессор Татьяна Черниговская, как раз специалист по cognitive science, числится в редколлегиях философских журналов. Есть такие философские дисциплины под общим названием теория познания (эпистемология и гносеология) – они также имеют ко всем этому непосредственное отношение. В этой мысли мы, кстати, совершенно не оригинальны: в 1988 году попытку привязки к философии анчаровских идей предпримет профессионал – преподаватель философии С. Грабовский. Но какая там была эпистемология в единственно верной марксистско-ленинской философии? Профессиональный философ скажет, разумеется, что «Анчаров – плохой философ». Ну, конечно же, плохой – а как ему было стать хорошим, не после чтения «Краткого курса» же? И что бы стало с ним в 1950 году, если бы он стал претендовать на вклад в философию?
В книге все эти вопросы рассматриваются детально, в подробностях.
В заключение остановимся на одном современном приложении этих идей, очень наглядно демонстрирующем практическую пользу теории Анчарова:
…«третья сигнальная система», как механизм творчества, оказывается очень актуальной, когда заходит вопрос о том, как устроено человеческое мышление вообще. Этот вопрос как раз во времена Анчарова – особенно в пятидесятые и шестидесятые годы – дискутировался во вполне практическом аспекте, при рассмотрении проблем, в которые совершенно неожиданно для её творцов уткнулась кибернетическая дисциплина под названием «искусственный интеллект». Крупнейшие математики того времени, энтузиасты искусственного интеллекта, среди которых были знаменитейшие Алан Тьюринг и Андрей Колмогоров, не смогли преодолеть барьер традиционного представления о том, что процесс мышления можно разложить на элементарные логические операции.
Математикам пришлось самостоятельно приходить к тому же выводу, к которому пришёл Анчаров ещё тогда, когда о вычислительных машинах слышали лишь немногие специалисты. А именно о том, что процесс мышления не подчиняется логике, не может быть разложен на элементарные операции, а происходит скачком – путём внезапного «озарения», приступа «вдохновения». Конечно, у Анчарова были предшественники (в том числе известный физик Анри Пуанкаре, о котором Анчаров упоминает), а уже позднее, в 1980-е, английский физик и математик Роджер Пенроуз попытался объяснить скачкообразный характер творчества с позиций квантовой механики.
Положа руку на сердце, рассуждения Пенроуза (они подробно изложены в книге «Новый ум короля», 1989), хотя и подкреплены отнюдь не дилетантским знанием математики, физики и всех остальных сопутствующих дисциплин, в основе своей не очень сильно отличаются от рассуждений Анчарова о «третьей сигнальной системе». Как и Анчаров, Пенроуз вынужден ограничиться словесным описанием возможного пути решения, без какой-либо конкретики. Скорее всего, проблема творчества вообще не может быть решена в рамках современной науки. Незаслуженно недооценённый советский математик и философ Василий Васильевич Налимов говорил, что подобные – то есть связанные с человеческим мышлением – проблемы в рамках человеческого разума могут быть лишь осознаны, а для решения их требуется как минимум некий «метаразум». То есть такой, который сможет взглянуть на человека со стороны, подняться над его уровнем. А поскольку из мыслимых сущностей подобное по силам лишь богам, то и проблема, очевидно, в обозримое время решения иметь не будет.
Нельзя тут не упомянуть факт, который наверняка очень понравился бы Анчарову: суть проблемы искусственного интеллекта вполне квалифицированно ухватила ещё в первой половине XIX века дочь Байрона Ада Лавлейс, которую называют первым в истории программистом вычислительных машин. В 1842 году она писала: «Аналитическая машина не претендует на то, чтобы создавать что-то действительно новое. Машина может выполнить всё то, что мы умеем ей предписать. Она может следовать анализу, но она не может предугадать какие-либо аналитические зависимости или истины. Функции машины заключаются в том, чтобы помочь нам получить то, с чем мы уже знакомы». Главный идеолог искусственного интеллекта Алан Тьюринг знал об этих возражениях, но так и не сумел их опровергнуть, предложив путь обхода в виде знаменитого теста Тьюринга. Ясно, что этот тест (игра в имитацию разумного поведения) проблемы не решает и нового знания имитатор Тьюринга всё равно выдумать не сможет никакими силами. То есть разумным его поведение не будет, даже если оно будет очень напоминать таковое. Понадобилось почти полтора века, считая от гениального прозрения леди Байрон, для того, чтобы на рубеже восьмидесятых учёные в лице философа Джона Сёрля, наконец, осознали эту истину в полной мере. Анчаров опередил их как минимум на тридцать лет.