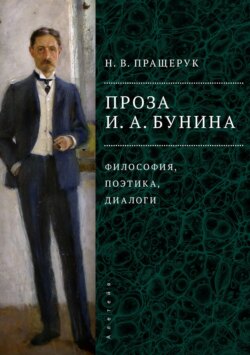Читать книгу Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги - Наталья Пращерук - Страница 4
I
Проза И. А. Бунина: философия и поэтика
Глава 2
«Освобождение» от времени в произведениях 1910–1920-х гг
ОглавлениеКнига путевых поэм «Тень птицы» становится для творчества Бунина определяющей и вместе с тем занимает в нем особое место. Пожалуй, ни в каком другом произведении художник так полно и свободно не выразил владевшую им в течение всей жизни страсть «неустанных скитаний и ненасытного восприятия» (3, 483). Это сладкое, волнующее, ни с чем не сравнимое ощущение свободы, которое дает путешествие в «чужие земли», Бунин прямо выразил в первом очерке, во фрагменте, потом частично изъятом из окончательного варианта: «…и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за триста миль от тебя» (3, 314). «Ах, никогда-то я не чувствовал любви к ней и, верно так и не пойму, что такое любовь к родине, <…> воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной! И трижды благословенно море, в котором чувствуешь только одну власть – власть Нептуна!» (3, 428). В этом признании вовсе не следует искать цинизма или равнодушия писателя к судьбе России. Напротив, «переболев» ее болью и вполне разделяя ее проблемы, страхи и заботы, художник оставляет за собой право «быть свободным», «выключенным» из проблематики «родного» – хотя бы на время путешествия.
Очень сильно и непосредственно выражено ощущение радости от того, что беспокоящее и тягостное наконец позади, «за триста миль», а значит – его нет с тобой, оно утратило власть. Силу, яркость этого ощущения подчеркивают два восклицательных предложения, в целом не характерные для бунинской манеры письма.
Понятно, почему этот фрагмент не вошел в окончательный текст. Ощущения, переданные в нем, слишком сиюминутны, конкретны, слишком «очерковые» и слишком «биографические». Они, безусловно, контрастировали бы с основной интонацией произведения – скорее, вопрошающей, лирико-медитативной, стремящейся при всей конкретности впечатлений к определенной художественно-философской обобщенности. А в книге остается лишь одно предложение о России. Многоточие в конце него, пожалуй, по содержанию более объемно за счет оставшихся в подтексте смыслов, нежели целиком восстановленный фрагмент из ранней редакции с определенностью заключенных в нем значений. И остается то удивительное, органическое ощущение свободы, которое пронизывает, питает, одухотворяет весь текст, делает его поистине «живым», «звучащим» и «пахнущим», просторным и каким-то очень светлым и многокрасочным, то ощущение свободы, которое, конечно, не объяснишь только «отсутствием» любви художника к собственной стране.
Создается впечатление, что Бунин как будто намеренно «сдерживает», «смиряет» свой изобразительный талант, свой дар живописания в произведениях о России, написанных практически в то же время, хотя и блестяще, по-бунински, но в иной манере – с тем, чтобы во всей немыслимой щедрости развернуть его здесь, в «Тени птицы».
Бунинская «книга странствий», ярко отмеченная печатью «неясности жанра», создается «по следам» путешествия на Ближний Восток (1907–1911), «в край прошедших свой цикл и окаменевших цивилизаций»[46]. В ней – как будто в соответствии с традиционной формой путевого очерка – есть внешний сюжет, продиктованный маршрутом путешествия (из Одессы пароходом в Турцию, затем через Дарданеллы и Афины в Египет, потом древняя Иудея: Яффа, Иерусалим, Иерихон, оттуда в Ливан и Сирию, и в финале – вновь земли, связанные с пребыванием Христа: Геннисарет, Тивериада и Табха) и четкой фиксацией впечатлений. При этом писатель не пытается «укрыться», как это было в «Деревне» и «крестьянских рассказах», за объективированным повествователем и вообще не слишком озабочен проблемой авторского самоопределения, он как бы «освобождает» себя и от этого, предельно сблизив «я» путешествующего с биографическим автором. Эффект документальности, достоверности усиливается использованием повествовательной формы, близкой к дневниковым записям.
Однако очерковость как жанрово-стилевая характеристика произведения слишком условна и не исчерпывает его внутреннего содержания. Исследуя цикл, О. А. Бердникова, например, пишет, что «повествователь в “Тени птицы” – это самостоятельный образ, это активное лирическое “я”, связующее все 11 поэм вполне по законам, действующим в стихотворной цикле»[47] и утверждающее прежде всего поэтическое восприятие окружающего мира, его художественную и эстетическую ценность: «чем восточнее, тем древнее и тем более поэтично»[48]. Действительно, повествователь обнаруживает поразительную эстетическую одаренность, демонстрирует безупречное качество преображающего взгляда художника.
Вместе с тем эта бунинская вещь концептуально масштабнее и значительнее. «Тень птицы» – первая книга, в которой глобально поставлена проблема пространства и, по существу, вся философия изначально «завязана» в «пространственный узел». Можно считать «Тень птицы» произведением манифестирующего и эмблематического характера – утверждающим и развертывающим саму идею, концепцию, философию и картину путешествия как такового.
Любопытно, что в книге при всей конкретике и избыточности деталей и подробностей практически отсутствует бытовая, «вокзальная» атрибутика путешествия. Это особенно бросается в глаза, если, предположим, вспомнить «Жизнь Арсеньева», где герой тоже большую часть времени проводит в поездках и перемещениях и где «вокзальная» линия входит совершенно закономерно в «пространственный словарь» текста, составляя существенную его часть и работая на общую концепцию произведений. Такое отсутствие «вокзалов» в «Тени птицы» как непременной и иногда довольно досадной составляющей любого путешествия объясняется не только тем, что герой, в отличие от Арсеньева, выбирает преимущественно «морской» способ передвижения и значительно меньше связан с поездами. Самому путешествию в «Тени птицы» изначально придается тот особый статус, при котором «технические» и «организационные» моменты не важны, поскольку закономерно и естественно вытесняются масштабностью переживаемого героем и происходящего с ним. А кроме того, Бунина волнует здесь проблема «возвращения» и «родного гнезда», стоявшая перед художником столь остро в период написания «Жизни Арсеньева» и определившая во многом пространственную динамику книги, где «вокзал» стал знаком «способа» существования героя.
В «Тени птицы» автора занимает само путешествие как событие, факт, феномен жизни человека и жизни художника.
Порт сравнивается в первом рассказе цикла с городом, «усеянным мачтами», и воспринимается как начало развертывающейся картины этого события, в которой детали прибытия в один пункт и отбытия в другой не несут концептуальной нагрузки. Поразительно размышление героя, относящееся к «греческому фрагменту» путешествия и не вошедшее в окончательный текст книги: «Ты – путь, соединяющий небо с землей, – сказали Нилу гимны. Не таковы ли и все пути в чужие земли? Они рождают неутомимую жажду духа и теряются, как море, в небе» (3, 440). Путь бунинского путешественника «по морю», начало которому положил одесский порт, един, непрерывен и устремлен в небо – так метафорически означивает автор смысловую и пространственную стратегию цикла. Действительно, море и небо, существуя в тексте во взаимообращенности, «нераздельности и неслиянности», являют, с одной стороны, одну из сквозных пространственных тем, имеющую свою систему образов, а с другой – вместе они составляют доминирующий, единый фон книги, который, во-первых, дает ощущение простора, во-вторых, на нем «прочерчиваются» главные «сюжеты» путешествия.
Остановимся на этом подробнее. Уже в первом очерке герой, плывущий в Константинополь, ощущает живое единство неба и моря. «В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце. <…> Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете» (3, 315).
Мотив соединенности неба, солнца, моря настойчиво повторяется в тексте, становится сквозным: «И опять развертывается предо мною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца» (3, 329); «Море росло, поднималось синей туманностью к светлому небу. А небо было несказанно огромно» (3, 397); «Жаркое солнце склонялось к золотому (!) морю» (3, 378) и т. п.
Перед нами не только поэтическая достоверность созерцаемой и изображаемой природной реальности. Плавание, предпринимаемое героем, открывает ему феномен космического миропорядка[49] в глобальном и глубинном единстве его живого бытия. Отсюда постоянно переживаемое путешественником ощущение открывающихся перед ним пространств без границ, простора и той захватывающей бесконечности, которая как будто «напоминает» душе о ее «нездешней» природе: «Теплый, сильный ветер гудит за мною в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность…» (3, 327); «Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря» (3, 338); «Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины (!) облаков, таявших над ним в бездомном шелковистом небе» (3, 344); «Небо просторно, огромно» (3, 393); «…в необъятное пространство за ними все ниже и нижа падала далекая бейрутская долина <…> и необозримая синь моря» (3, 3, 97); «Между небом и землей был несказанный простор» (3, 402) и т. п.
А феноменально проявленная путешествием природно-космическая жизнь «заражает» героя своей жизненной силой, игрой, радостью, бесконечностью изменений и, конечно, своей свободой: «Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа, – и вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая. <…> Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья» (3, 316).
Мир, такой притягательный, разнообразный и ощущаемый героем как очень близкий, действительно «освобождает» его от привычной системы отношений, от исполняемых социальных ролей, от конкретно-исторической и национальной принадлежности и дает возможность непосредственно ощутить сопричастность живой целостности космоса, включиться в нее самому и включить ее в свое жизненное пространство. Отрешенность героя от предшествующих «содержаний», стереотипов и связей напоминает нечто вроде «феноменологической редукции» в ее «прикладном» – к конкретной жизненной ситуации – и «художественном» вариантах.
Душа путешественника предельно раскрепощена, предельно открыта и готова вместить, удержать и сохранить эту немыслимую полноту бытия, которая в обычных условиях приоткрывается перед человеком фрагментарно, частично, эпизодически – в самые лучшие, «вершинные» минуты его жизни. Такого – почти невозможного – результата можно достичь, если твое сознание уже не отражение мира, а сам способ его существования и осуществления, поскольку неразрывно с ним.
Бунин одним из первых художников очень лично ощутил недостаточность представлений о противопоставленности субъекта и мира, гениально угадал поворот в культурном сознании XX в., который связан с преодолением многих аксиом классической философии. Мир и человек для него образуют единство (das Eins по Хайдеггеру), субъект и объект неразрывны. Уже в конце века он формулирует в одном из писем свое «феноменологическое кредо»[50]: «Мир – зеркало, отражающее то, что смотрит в него»[51], а в ранних рассказах «опробывает» позицию отношения к жизни как к «сознанию, пущенному в материю» (А. Бергсон)[52]. Природный и материальный мир для Бунина непосредственно являет смысл и «прозрачен» для духовного содержания. Такое мироощущение «питает» многие образы-впечатления повествователя и героев в произведениях 1890–1900-х гг.: «…думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает» (2, 223); «И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство – томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере» (2, 243); «Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде» (2, 266).
Однако бунинский феноменологизм ранних прозаических вещей еще «нуждается» в самоопределении, кристаллизации, стилевой оформленности, он живет в тексте пока на уровне мотива, догадки, спонтанных интуитивных вспышек. Это сказывается и в некоторой избыточности лирических пассажей, и в поиске спасательных «опор», «мостов» между субъективным и объективным, роль которых нередко выполняют выражения казалось, как будто, похож, представлялось, точно и т. п.: «Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным – думающим и чувствующим» (2, 219); «…пароход был похож на воздушный корабль <…> и матрос, который курил невдалеке от меня, <…> казался мне порою таким, точно я видел его во сне» (2, 231); «…пароход <…> представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением» (2, 233). Можно сказать, что именно цикл «Тень птицы» стал для Бунина художественно воплощенным «феноменологическим» самоопределением.
Повествовательная «плоть» текста формируется пафосом воссоздания всей полноты впечатлений, переживаний и «проживаний» путешествующего «я». Причем воссоздание в данном случае не является последовательным, скрупулезным и «точным» воспроизведением – повторением увиденного ранее.
Речь идет о способности героя принять этот мир так, чтобы он «заиграл» всеми возможными красками, «зазвучал» разнообразнейшими звуками и вообще стал «живым», ощущаемым и осязаемым. Задача, которая по силам далеко не каждому художнику. Здесь и проявляется бунинский артистизм высшего порядка, который помогает найти единственное слово и сохранить при этом поразительный эффект непреднамеренности, непосредственности общения с реальностью, иллюзию того, что она сама формулирует за героя свои состояния, качества, цвета, звуки и запахи. При всей бунинской живописности вряд ли какое-то другое произведение художника обладает таким многообразием цветов и оттенков, такой совершенно роскошной и щедрой цветописью. Это относится в первую очередь к образам моря и неба, но, безусловно, распространяется и дальше – на землю. Сравните: «зелено-голубая вода пролива»; «и горы, и холмы, овеваемы морским воздухом, принимают лиловые тоны»; «зеленеющее небо»; «цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево»; «огненно-золотые пчелы»; «яркой бирюзой сквозит вода»; «теснины, полные утренних фиолетовых теней»; «море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло, <…> горящее масло, лизавшее пароход и <…> плескавшее языками бирюзового пламени»; «все необозримое пространство заштилевшего моря внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность»; «над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц»; «шафрановый свет запада»; «бледно-лиловая река»; «сине-лиловое небо»; «золотисто-синяя <…> долина. С юга – желто-серые <…> пески. На востоке – знойно-голубой мираж Иудеи»; «мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное» и т. п.
Бесконечность этих ярчайших примеров, показывающая щедрость и безупречность бунинского изобразительного дара, есть еще и особый образный адекват, эквивалент глубинного стремления художника «удержать» все увиденное, запечатлев его, в том числе и в цвете.
Более того, пытаясь обеспечить максимальную проявленность этой космической жизни в мире героя и сохранить непосредственность ее «вхождения» в его «я», Бунин использует мотив «яркого», последовательно проводя его через весь текст и сообщая ему функцию образной и смысловой доминанты. Яркость – знак соединенности «я» и «не-я», поскольку связан как с «качеством» окружающей реальности, так и со спецификой ее восприятия, отношения к ней. Видеть мир во всей яркости его проявлений – значит, быть «настроенным» на него, открытым ему и не «обремененным» грузом предшествующих, «опосредующих», стирающих свежесть восприятия впечатлений: «яркой бирюзой сквозит вода»; «ярко зеленеют деревья» (3, 325); «яркая густая синева неба» (3, 326); «яркая лента неба льется» (3, 337); «было ярко» (3, 342); «яркая синь утреннего неба» (3, 346); «белые яркие стены» (3, 346); «ярко-зеленое дерево» (3, 353); «пирамида <…> восходит до ярких небес» (3, 355); «пустыня <…> ярко подчеркивает сине-лиловое небо» (3, 355); «…небо над базаром ярче» (3, 360); «яркое небо» (3, 370); «ярко-пунцовая герань»; «… глянул Джебель-Кемэзэ весь в ярких серебряных лентах» (3, 398); «изумительно-яркое поле неба» (3, 399); «ярко млела синь неба» (3, 405).
Нетрудно заметить, что по «яркости» среди других образов «лидирует» образ неба. И это не просто деталь художественного мира. «Яркое небо» отсылает нас к той цели путешествия в «чужие земли», которая была метафорически сформулирована самим художником и процитирована нами выше. Путь героя, действительно, словно «теряется» в небе, а кроме того, находясь как бы «внутри» самого природно-космического миропорядка, он соединяет небо и землю. Отсюда – закрепленное повторяющейся образностью, объединяющее для всего текста и фоновое значение образов – и особенно неба. Сравните: «А сама пирамида, стоящая сзади, восходит до ярких небес великой ребристой горой» (3, 355); «А за Лиддой и Рамлэ, каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярким синим небом…» (3, 361); «А когда я оборачиваюсь, я вижу в яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии. <…> И четыре стража этой грубой громады – четыре белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба» (3, 327); «А когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов» (3, 338); «Радостными синими глазами глядит сверху небо» (3, 372); «Темно-сизый фон неба еще более усиливал яркость зелени и допотопных стволов колоннады» (3, 401).
На фоне яркого неба еще ярче, зримее, выпуклее проступают краски, очертания, формы земли и земных сооружений.
Развертывающийся мир не только ярок и многокрасочен, он полон самых разнообразных звуков, мелодий, ритмов, голосов: «Но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе – и, внезапно сорвавшись, разразился страшным захлебывающимся скрипом. Рыдал в соседнем дворе осел» (3, 354); «Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые горбоносые попугаи» (3, 358); «Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими» (3, 359); «…под стеной (имеется в виду Стена Плача. – Н. П.) стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный рокот и говор. Он то замирает, то возрастает, то сливается в нестройных хор, то делится на выкрики» (3, 372); «…засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами и нескладной, страстно-радостной и в то же время страстно-скорбной восточной музыки, прыгающей в лад с позвонками» (3, 323).
Нетрудно заметить, что Бунин старается не просто описать звуки, а именно передать их, включить в текст так, чтобы они «звучали». Достигается это особым построением фразы, повторами и, конечно, звукописью – виртуозным использованием приемов аллитерации и ассонанса. Так, в первом примере «текущее», плавное во прерывается резким вн, а затем сбив, повторяясь, разрастается в целую серию мощных «рыдающих» звуков, передаваемых сочетанием слогов – рев, ре, глу, рва, раз, ра, скрип, ры и т. п., или другая, очень характерная, «стонущая» фраза, в которой повторяется набор слогов и звуков, создающий вполне определенный звуковой эффект: «под стеной стоит немолчный стон».
И, безусловно, немаловажную роль в создании полноты открывающегося герою мира играют запахи, тонко улавливаемые и вбираемые героем как некие обязательные знаки и атрибуты «живого» пространства: «Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов – смолой, кокосом и зерновым хлебом, от воды – огуречной свежестью» (3, 318); «Пряно пахли нагретые травы. Животной теплой вонью несло из загона, где бродили голенастые страусы» (3, 358).
Следуя стратегии воссоздания, художник, как мы видим, наряду с преимущественным выстраиванием визуального ряда, стремится к всесторонности и «жизненности» «образа мира», насыщая этот образ звуками и запахами.
Но, пожалуй, самое главное для Бунина то, что воссоздание «совершается» «здесь и сейчас» (и каждый раз заново) и только при таком условии состоятельно, ибо только так способно удержать входящую в «жизненный мир» героя живую, подлинную реальность. Здесь, пожалуй, впервые так последовательно развернут хронотоп «длящегося настоящего» (термин Д. С. Лихачева). Он требует, во-первых, «полного присутствия», «тотальной души» (термины М. Мамардашвили) повествующего субъекта и, во-вторых, позволяет воспринимать воссозданное им как то, что совершается «все время». Воссоздающее реальность начало, собирая и фиксируя ее во всей конкретности образов, деталей, описаний и подробностей, облекается в формы и приемы, «бьющие» читательское восприятие, конечно, насколько это возможно для гармоничного бунинского стиля, подчеркнутой ангажированностью. Речь идет в первую очередь о широчайшем использовании назывных конструкций, а также разнообразных глагольных и именных форм настоящего времени, задающих тексту темпоральную доминанту и приобретающих всеобъемлющий характер: «Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля, с утра свежо и облачно» (3, 313); «Штиль, зной, утро…» (3, 359); «…Вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!» (3, 361); «Вот она, ясность красок, нагота и радость пустыни» (3, 555); «Вот он, этот жуткий, погребальный Вертеп…» (3, 371); «Летний ветер, белые акации в цвету…» (3, 399); «Воздух прозрачен, краски несколько дики» (3, 313); «Берег все отходит, уменьшается…» (3, 314); «Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья» (3, 316); «Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны» (3, 318); «Обмениваемся улыбками и пускает в путь» (3, 323); «И светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом…» (3, 327); «…Тихо брожу я среди этой высоты и простора» (3, 328); «Есть “Свет Зодиака”» (3, 366); «В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым» (3, 367); «Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры» (3, 393) и т. п. В подобные формы облекается не только непосредственное восприятие, но и то, что «видит» повествователь «духовным» зрением: «Теперь, возле Сфинкса, в катакомбах мира, зодикальный свет первобытной веры встает передо мною во всем своем странном величии» (3, 357); «Он крестится и уже готов раскрыть уста, чтобы благовествовать миру величайшую радость. Но – “Дух ведет Его в пустыню”…» (3, 383); «Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот Он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы» (3, 410) и т. п.
Интонация непринужденной естественности усиливается введением глагольных форм II лица, предполагающих стирание границ между авторским и читательским «я» и, следовательно, как бы дополняющих «полное присутствие» повествователя «соприсутствием» читателя, становящегося причастным к предпринимаемому воссозданию: «…Не проберешься один после семи часов в город» (3, 319); «Нигде так быстро не падаешь в глубь времен, как здесь» (3, 346); «В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, то первое…» (3, 407); «…И опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола. <…> И теряешься в образах времен Рима, Византии и Омаров» (3, 396). В таких переходах от «я» к «мы» и «ты» отражается поиск и «отработка» художником лирически обобщенной формы некой «универсальной субъективности»[53]. Совершенно прав Ю. Мальцев, утверждая, что «в отличие от авторов “нового романа”, у которых “ты” служит обезличиванию текста и устранению авторского субъекта, чтобы придать книге характер как бы “самопишущейся”, – у Бунина “ты” служит, напротив, усилению лиричности и эмоциональной насыщенности»[54].
Кроме того, как уже упоминалось, Бунин создает текст, который стремится быть в доверительных отношениях не только с читателями, но и с самой реальностью. Отсюда столь естественна, закономерна в произведении повторяющаяся «фигура вопрошания», при которой вопросы адресованы как будто бы прямо и непосредственно вступающему в общение с героем миру: «только где же те “бездны”, которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где высоты, что будто бы “еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти”?» (3, 361–362); «Зачем же так первобытно вторглась в этот божественный молитвенный чертог сама природа?» (3, 376); «Бог ли человек? Или “сын бога смерти”?» (3, 381); «Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?» (3, 384); «Они рыбаки, в лодке лежат их сети. <…> “Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море…” Разве не мог призвать он и этих?» (3, 410).
Работая в цикле с материалом, так или иначе подводящим автора к мифологическому и метафизическому его толкованию, Бунин-художник сознательно уходит от чуждых ему трансформаций реальности в метафору или аллегорию трансцендентного. Поэтому так важно здесь постоянное предметное и бытовое «сопровождение» путешествующего сознания. Это и точный отсчет фактического времени, придающий повествованию дополнительную конкретность и узнаваемость: «Сутки прошли незаметно» (3, 314); «Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся…» (3, 317); «…На турецких часах двенадцать…» (3, 319); «Близился полдень» (3, 335); «Около полуночи взошел оранжевый печальный полумесяц» (3, 342); «Часам к четырем город снова ожил» (3, 345). Это также обилие «случайных»; «лишних», но очень ярких, запоминающихся подробностей, выхваченных зорким взглядом повествователя и создающих «избыточную» полноту, многоцветье, объемность восстанавливаемого «образа мира»: «Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника» (3, 315); «Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шапках, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю шелудивых соловых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза» (3, 323); «В это жаркое солнечное утро все хорошо: и блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи» (3, 325); «Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми в черных ободках крыльями» (3, 384) и т. п.
Воссоздаваемая с помощью названных форм картина путешествия (и мира в целом) не означает только верность избранным жанру (очерк), манере письма (дневники). Это уже осознанная автором и художественно воплощаемая позиция по отношению к времени. Позицию эту можно охарактеризовать как стремление освободиться от него в остановленном и «все время» длящемся настоящем, а прокомментировать следующими образными формулами, относящимися к конкретным эпизодам общения героя с реальностью, но распространимыми и на весь текст в целом: «Но вот наступила и длится ночь» (3, 390); «Длится и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро» (3, 394) и т. п.
Путешествие дает возможность герою бесконечно длить настоящее время и обретать пребывающее в таком времени, а значит – вневременное пространство. По его законам и строится художественный мир «Тени птицы».
Это развертывающееся «вне времени» пространство изначально обусловлено переживанием героя своего «места» в путешествии как «места» внутри природно-космической целостности с такими ее сущностными комплексами-координатами, как небо, земля, море и т. п. и, соответственно, «не знающей» времени. Отсюда сквозные темы, формирующие «пространственный словарь» книги и создающие фон для развития других пространственных сюжетов.
Однако бунинский герой, включенный в космический порядок и соприродный ему, устремлен к истокам, корням человеческой культуры и цивилизации, плывет к тем местам, которые отмечены их самыми «первыми днями» и первыми событиями. Маршрут путешествия, таким образом, связан не только с внешней его стороной и составляет фактографическую основу произведения, он становится важным компонентом художественной концепции цикла, продолжая и углубляя ее пространственный аспект.
Поразительно, что путь, открывающий мир, полный света, цвета, ярких красок жизни, мир яркого неба и солнца, сосредоточен вокруг «всех Некрополей, кладбищ мира»[55]. Это «Поля Мертвых». Именно так первоначально называлась книга. «Разве не Поля Мертвых – Баальбек и Пальмира, Вавилон и Ассирия, Иудея и Египет? – вопрошал Бунин в отрывке, исключенном из окончательного варианта очерка “Тень птицы”, – Разве не сплошное Поле Мертвых и Константинополь? Его погосты – величайшие в мире – и называются: Поля Мертвых. И сколько их, этих погостов!» (3, 484).
Тема смерти в таком, казалось бы, мажорном и жизнеутверждающем произведении может показаться диссонирующей с его общим пафосом.
На самом деле, для Бунина это один из принципиальных и определяющих моментов его художественного мышления, обретающий здесь, в книге странствий, особое звучание, связанное с проблемой культуры.
Ближний Восток – места драматические и памятные для всего человечества, места давно ушедших, погибших цивилизаций. Тема смерти и исторической завершенности когда-то живущих сложной насыщенной жизнью цивилизаций особенно остро и обнаженно звучит в рассказе «Иудея». Вся эта страна некогда «великих царств», «сложного и кровавого прошлого» сейчас напоминает герою не что иное, как могилу: «На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея – как эта могила» (3, 365). И далее, размышляя над ярким, легендарным прошлым и «первобытным», «патриархальным» настоящим, он замечает: «…в Ветхом завете Иудея <…> была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля» (3, 367). Об этом говорится и в библейском эпиграфе, предпосланном рассказу. (Между прочим, эпиграфом отмечены лишь два рассказа: этот и «Храм солнца», концептуально важные для книги как контрастно-нераздельные по своему основному пафосу. В «Иудее» заострена тема Востока как Полей Мертвых, во втором рассказе Восток предстает «царством солнца», страной, которой, по признанию самого автора, «принадлежит будущее», страной, «камни которой останутся здесь недвижными до конца мира» (3, 406).)
Однако Бунин, как известно, был художником, для которого смерть никогда не означала конца жизни, напротив, для него, во-первых, полнота жизни, острота ее ощущения невозможны без присутствия смерти (в «Жизни Арсеньева» он напишет: «Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» (6, 7)). А во-вторых, жизнь может быть продолжена и после смерти. Он мог бы повторить за С. Кьеркегором: «Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь»[56]. В данном случае подобное мышление сориентировано на проблему судеб мировой культуры. И тогда оказывается, что здесь, на Полях Мертвых, в стране погибших цивилизаций, жизнь культуры подобно природно-космической, предстает в уплотненной, концентрированной форме. Отсюда такая повышенная, подчеркнутая и одновременно очень органичная, естественная «витальность» образного ряда, экспрессивно-выразительных средств, деталей, отсюда такая плотная предметность и «вещественность» стиля.
Жизнь культуры также не знает временных границ, временной последовательности и развертывается в пространство, имеющее собственную систему координат, знаков, свой «словарь». Нетрудно заметить, что оно организуется двумя ведущими темами – темой уже упомянутых кладбищ и темой храма. Не случайно в самом начале книги герой, соотнося собственный путь с путешествием к «святым городам», о котором говорится в Коране, вспоминает одну из лубочных картин, купленную им в Турции. На ней изображен «святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков» (3, 317). Затем эта картинка словно экстраполируется на весь последующий текст. Города, посещаемые и осматриваемые героем, «входят» в его мир, запоминаются ему прежде всего своими кладбищами, знаменитыми и безвестными могилами и, конечно, своими великолепными храмами и культовыми сооружениями.
Константинополь – город Великого кладбища Скутари и Ая-Софии; в Каире «полтысячи мечетей, а вокруг него, в пустыне, – сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем» (3, 349); «вся Иудея – как могила», но главный ее город, Иерусалим, сосредоточил в себе еще и три святыни – храм Гроба Господня, Стену Плача и мечеть Омара; дорогие человечеству могилы – «маленькая крепость, где почиют Авраам и Сара – прах, равно священный христианам, мусульманам и иудеям» (3, 367); «гроб Мириам», «простой женщины из Назарета, венчанной высшею славой земной и небесной» (3, 384); «древность могилы Лазаря», о которой говорят «камни времен Ирода» (3, 385) и Парфенон, Баальбек, храм Рождества Христова в Вифлееме…
Перед нами не просто фактография путешествия, добросовестно, во всех подробностях, восстановленная героем. Эти «достопримечательности», системно представленные и сконцентрированные в одном тексте, носят, безусловно, знаковый характер. Храм и кладбище – два пространственных центра любой культуры, они составляют ее ядро, сердцевину, то, без его она жить не может. Сохранение могил – это продолжение жизни мертвых и непременное условие подлинной жизни живых. А храм означает соединение земного и небесного начал, устремленность человеческого духа к Богу, и действующий храм, даже при окружающем запустении, как это было в бунинской Иудее, свидетельствует (в той же степени, как и сохранение могил) о преодолении разрушающего характера времени, о возможности приобщения к вечности. Здесь, в местах, удаленных от суеты и призрачности жизни современных цивилизаций, эти закономерности функционирования культуры проступают особенно ярко и отчетливо. Бунин очень хорошо понимал и прекрасно показал это. Тем самым «смерть захватывается ритмами жизни и находится не вне, а внутри жизни, она вписана в жизненный цикл в качестве предела некоторого типа существования (но не существования вообще)»[57]. Такой принцип, как показывает художник, вполне применим не только к человеческой жизни, но и к жизни культуры. Поэтому в бунинском мире не выглядит кощунственно, например, надгробный павильон, который «весел»: «Весел даже надгробный павильон султана Махмуда – большой киоск под вековыми деревьями за высокой решеткой, отделяющий его от тротуара» (3, 330). Это и есть знак «предела некоторого типа существования, но не существования вообще». Не случайно за названным образом следует столь характерная реплика Герасима: «Султану везде хорошо» (3, 330).
46
Формула О. В. Сливицкой. Цит. по: Бердникова О. А. Концепция творческой личности в прозе И. А. Бунина: автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1992. С. 5.
47
Бердникова О. А. Концепция творческой личности в прозе И. А. Бунина. С. 10.
48
Там же.
49
См. об этом словарные статьи «Небо», «Солнце», «Море», «Океан» и др. в исследовании Х. Э. Керлота: Керлот Х. Э. Словарь символов: [Мифология. Магия. Психоанализ]. М., 1994.
50
См. об этом: Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М., 1994.
51
Там же. С. 112.
52
Такое «феноменологическое» определение жизни дает А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» (Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М., 1995. С. 339).
53
Мальцев Ю. Указ. соч. С. 110.
54
Там же.
55
Характеристика принадлежит Бунину. Г. Кузнецова записала 22 ноября 1932 г. признание писателя: «Заметь, что меня влекли все Некрополи, все кладбища мира! Это надо заметить и распутать» (Кузнецова Г. Н. Грасский дневник; Рассказы; Оливковый сад. М., 1995. С. 265).
56
Цит. по: Подорога В. А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. М., 1993. С. 96.
57
Подорога В. А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. С. 99.