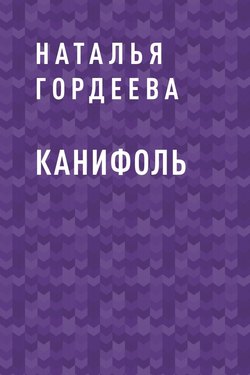Читать книгу Канифоль - Наталья Сергеевна Гордеева - Страница 1
ОглавлениеСоню познабливало. Колючие коготки ветра царапали щёку. Пытаясь найти баланс между дрожью и жаром, чувствуя каждую клеточку в теле, она достала из кармана леденец от кашля, развернула и положила на язык. В позвоночнике у неё сидел спрут, жалясь под кожей и дёргая за нервные окончания гриппозными щупальцами.
Тётя тоже заболела двумя неделями раньше. Недуг её назывался «Говард».
Прошлым вечером она ушла на приём, вписанная в лиловое платье, местами втиснутая: платье жало в груди – никаких глубоких вдохов, никаких глубоких чувств; ушла и не вернулась.
На других тётушек осенью вязание крючком нападало, как бандит из-за угла, но Мона красила губы помадой с запахом карамели, слипшейся в один неразгрызаемый ком, чтобы через несколько часов приличия в такой же ком слипнуться со своим амантом. Соне представлялось, как они с Говардом пьют утром яйца всмятку на брудершафт, и её мутило.
К леденцам от кашля Соня привыкла с детства – ими тётя лечила её от любой болезни.
Крошкой, на тётиной кровати, с уксусным компрессом на лбу, она цеплялась за тётин локоть, пока та собиралась в театр.
Мона закалывала волосы в пучок, сидя перед трюмо. Рыжая, как прерафаэлитская Годива, в свитере, съехавшем с плеч, она низко опускала голову, шаря рукой по столу в поиске шпилек. Потом она долго, с наслаждением, красила ресницы; задумчиво, будто шахматные фигуры, вертела флакончики духов и, наконец, застёгивала дорогую косметичку, смахнув в неё большую часть туалетного столика. Дома оставались пустые пузырьки – и Соня. Ей хотелось плакать из-за невозможности спрятаться под узорчатой крышкой тётиной пудреницы.
«Рассасывай драже и запивай чаем, – говорила Мона, собрав сумку. – Вернусь после спектакля. Ты должна хорошенько отдохнуть!» («Хорошенько сдохнуть», – думалось Соне).
Приходилось считать крапинки на обоях и тихонько хныкать в подушку. На тумбочке, рядом с упаковкой голубых драже, стояла девичья фотография тёти. На снимке у Моны было наглое, злое лицо, оттого не менее красивое, с чуть коротковатой верхней губой. Фотограф поймал её в коридоре, на женской половине гримёрных, в пачке из балета «Раймонда», с не затушенной вовремя сигаретой во рту.
…Лекарства, прописанные племяннице доктором, Мона отметала. Когда маленькую Соню укачивало в транспорте, тётя выдавала ей леденцы от кашля; если морская болезнь не проходила, раздражённо замечала, что тошнота – это блажь и расхлябанность, и крепость вестибулярного аппарата достигается усилием воли. Соня верила и страдала.
Когда у неё открылась аллергия на морепродукты, Мона всерьёз порывалась уехать, подозревая у племянницы ветрянку. Сама она ветрянкой не болела, и перспектива испортить кожу в разгар сезона доводила её до истерики. Вызвав на дом врача, она подхватила чемодан и сбежала, вернувшись, только когда доктор по телефону заверил её, что опасности нет.
Детство Сони прошло в ожидании тёти. Пока та крутила фуэте и кружила головы любовникам, девочка сидела дома одна, и уныние для неё пахло вчерашними тётиными окурками в пепельнице. Верь Мона в исключительную пользу кровопускания – Соня, наточив ланцет, сама бы просила её сделать надрез.
Лечебные голубые драже, до горечи эвкалиптовые, заставляли Соню раскаиваться – в поступках, мыслях, в собственной смутной девичьей природе.
Серое, утекающее под мост тело реки покрылось старческими веснушками листьев. Рябь от воды поднималась вверх, белым шумом просачиваясь сквозь перила.
На пешеходном переходе свежеобведённая надпись «STOP» резко белела на мокром, виниловом асфальте: дорога приказывала деревьям перестать облетать. В каждой луже таилось по чудовищу, и одним из них было Сонино отражение.
За трамвайной остановкой, в узком простенке, шипел маслом и дребезжал дверью китайский ресторанчик с едой на вынос. Крохотные фонарики, словно ягоды облепихи на проводах; в ресторан больше входят, чем выходят, и там, среди соусниц с сусальным узором и несвежих скатертей, сам чёрт подслушивает людские разговоры – и мотает на ус. Настроение у судачащих кислое, подслащённое сливовым вином, а на десерт подают печенье, которым можно убить человека.
Голодной Соне казалось, что она поправится на килограмм, если просто вдохнёт ресторанные запахи. Когда ветер доносил до её носа аромат съестного, она отворачивалась в другую сторону, стараясь не дышать, и терпела выразительные монологи пустоты в желудке.
Коченея под продувным козырьком, она мысленно перебирала подробности минувшего дня, как испорченную крупу; а день выдался унизительный.
***
Репетировали «Красную Шапочку», новый балет в постановке модного, специально приглашённого хореографа.
Балет выходил кровавый; руководство училища, прежде смаковавшее удачу работать с всемирно известным балетмейстером, теперь настаивало, что для выпускниц столь шокирующая постановка не подходит. Было бы гораздо разумнее (и спокойнее) нарядить девочек виллисами и сильфидами, убрать их хорошенькие головки бумажными венками и скрестить им руки в привычной вымученной позе на груди.
Дело, конечно, было не только в авторском прочтении.
Шёпотом, за дверями балетной канцелярии, педагоги и начальство переругивались между собой, признавая, что язык танца невероятно сложный даже для зрелых артистов балета. Каждая сцена, каждая вариация сплеталась в хореографический ад из классических па, акробатических трюков и современных элементов, выполняемых на разрыв связок.
Училищные мальчишки не тянули, и на главные мужские партии пригласили двух солистов из театра. Руководство училища тайно кусало локти и панически отсчитывало недели до «неминуемого позора».
Сидя на репетициях и наблюдая, как хореограф хладнокровно муштрует молодую поросль, педагоги ёрзали на складных стульях, изредка заискивающе приподнимаясь и спрашивая, нельзя ли вот этот кусок заменить другим, попроще и поканоничнее (понафталиновее).
Хореограф вежливо кивал, ослепительно улыбался, коротко отвечал «Нельзя!» и гнул свою линию. Преподаватели, не глядя на учеников, возвращались на места, чувствуя, что их многолетний, потом и кровью завоёванный авторитет меркнет и складывается пополам, как стулья, на которых они сидят.
В первый же день своего приезда хореограф посетил мужской и женский классы, оценивая данные и технику будущих артистов балета, чтобы к обеду на дверях канцелярии вывесить список ролей и фамилии исполнителей.
В зал, где занимались девчонки, он вошёл к концу работы у станка, во время большого батмана.
Пот тёк Соне в глаза; она не сразу заметила постороннего у зеркальной стены.
«Симпотный», – донёсся до нее шёпот Ольги, стоящей спереди.
Кроме среднего роста и широчайшей улыбки ничего не удалось разглядеть. Пользуясь перерывом, Соня сняла с боковой перекладины мокрое полотенце и приложила к лицу.
Поприветствовав в игривой манере учениц, хореограф вновь улыбнулся, сияя белоснежными, будто с синькой прополосканными зубами. Пианистке он поцеловал руку, не выглядя при этом опереточно-пошлым, а перед преподавательницей классического танца Галиной Викторовной почтительно встал на одно колено – и заслужил складной стул.
Мальчишеские, до неприличия шкодливые глаза цвета разбавленной ежевичной шипучки изучали юных балерин у станка. За миг до того, как взгляд этих глаз подобрался к Соне, она опять нырнула лицом в полотенце.
Когда дело дошло до прыжков на середине танцевального зала, восторг и возбуждение учениц достигли пика. Проскакав «па де ша» через весь зал наискосок, Инка самодовольно подтянула лямки купальника перед зеркалом и шепнула Соне на ухо: «Хорош, да? Вживую ещё лучше, чем по телеку!»
Девчонки работали на износ, стремясь показать максимум своих возможностей. Педагог остерегалась окликать их в привычном, язвительно-гневном тоне. Соня могла поклясться, что Инка и остальные, выполняя диагональ, думают: «Галина-то наша как присмирела, стесняется орать при чужих! Почаще бы этот милашка приходил в класс!»
Закончив урок экзерсисом на пальцах, девочки присели в реверансе и вопросительно посмотрели на Галину Викторовну; та еле заметно дёрнула подбородком, как от тугого воротничка – или предчувствия гильотины.
– Ну же, мои милые, идите сюда! – подозвал их хореограф с лёгким акцентом, и они, осмелев, радостно встали перед ним полукругом – желторотики в пуантах.
– Я рад находиться среди вас, столь юных, но преданных искусству танца наравне со взрослыми артистами. Нам выпал шанс вместе создать новый балет, и я верю, что работа над ним доставит нам удовольствие и сплотит вас. Сегодня вы узнаете, как распределятся роли, а завтра мы встретимся в этом зале после ваших ежедневных занятий. Жду вас на первую репетицию как следует разогретыми и в хорошем настроении.
Физиономией Инки можно было натирать окна: красная шапочка, витавшая над её головой, под алхимическим взглядом гостя стремительно превращалась в шапку Мономаха.
Соня примостилась сбоку, у одноклассниц за спинами, и мрачно разглядывала правую ногу. Сквозь тонкий клеевой слой изношенной балетной туфли, у пальцев, проступало кровавое пятно. «Это последняя пара от Амелии, – подытожила она мысленно. – Больше мне таких удобных колодок не видать».
В раздевалке девчонки, перебивая друг друга, обсуждали подробности урока, манеры и внешность балетмейстера. Инка, уже неся печать инсигнии на челе, в разговорах не участвовала. В списке, вывешенном у входа в балетную канцелярию, напротив партии Красной Шапочки ожидаемо вывели её фамилию.
Соня наследовала второй состав.
…Со следующего дня начались репетиции, и девчоночье воодушевление поугасло.
Вместо заявленных трёх часов репетировали шесть, с перерывом на пятнадцать минут. Все партии хореограф знал наизусть, и не жалел себя, разучивая роль с каждым участником кордебалета. От учеников он требовал танцевать в полную силу, сразу, не давая им времени адаптироваться к непривычным па.
– Вот же маньяк! – стонала Инка, обессиленно сползая со скамейки в раздевалке. – Кто-нибудь, отнесите меня в душ!
– Может, тебе и спинку потереть? – раздавались смешки.
– И потереть, – соглашалась Инка.
– А может, за тебя и балет станцевать? – фыркала Ольга, длинноногая и высокая – Мать Красной Шапочки.
– И станцуй! – огрызалась Инка. – Если думаешь, что выдержишь два акта этой инфернальной хреноты, вперёд! А потом приползёшь вся в соплях, и будешь тереть мне спинку, как миленькая, и в ножки кланяться!..
На две недели, пока разучивался балет, всех задействованных освободили от школьных общеобразовательных уроков. Первая учебная четверть заканчивалась: учителя били тревогу. Оценки брались из воздуха, натягивались, проставлялись в журналах карандашом. «Не до ваших дрозофил-с!» – злорадствовали юные танцовщики, сталкиваясь с учителями в коридорах.
Соня просыпалась с мышечной болью, с трудом умывалась и плелась на кухню. Тётя, переночевав дома, неизменно заставляла её есть на завтрак яйца всмятку.
– Да сколько можно, блин?! – взорвалась Соня, не перенеся в очередной раз вида желтка, так и не ставшего прелестным цыплёнком.
– Софья, вернись! – потребовала тётя, не меняя позы, сидя за столом с аккуратно поднятыми руками – чтобы впитался утренний крем.
Оставшись в кухне один на один с окном, Мона выигрывала поединок с безжалостным осенним светом. Любовные приключения были её доспехами – и очень дорогая косметика. Убранные под чалму тёмно-рыжие волосы, жемчужное свечение кожи и чёрные, медлительные, абсолютно ненормальные глаза. Уж не закапывала ли она себе тайком белладонну в конъюнктиву?
– Софья, поешь! Нельзя уходить на пустой желудок! – неслось Соне вслед. Она выбежала из квартиры в незастёгнутом пальто, с наспех собранным рюкзаком.
Моне с завидным постоянством удавалось её доконать – любовниками, про которых она говорила «аманты» (будто торжественно объявляла козырную масть), придирчивыми расспросами об учёбе, полусырыми яйцами.
Очередной ухажёр тёти, знакомясь с Соней, выдавал: «Приветствую восходящую звезду русского балета!» «Кавалер-неделька», – мысленно резюмировала она.
С неделю тётя была счастлива, а в понедельник по телефону брезгливо тянула в нос имя «Виталий» – словно вытирала испачканную в нечистотах подошву. «Упущенная» на время короткого романа племянница обкладывалась красными флажками заново с инквизиторским фанатизмом.
Соня спрыгивала с трамвайной подножки в мешанину прелых листьев и, преодолевая тошноту, бежала в училище, выдыхая пар.
В девчоночьей раздевалке наутро после визита уборщицы пахло плетёными корзинами и чистым бельём.
– Сейчас бы картошечки из «Макдака», – мечтала вслух Ольга, замазывая пятно на балетке мелом; другая девчонка жаловалась, что валидол принимает чаще, чем гормональные контрацептивы.
Инка, осунувшаяся, разогревалась в зале, зверски зевая.
– Он хорош, чего уж там, – бурчала она, подворачивая шерстянки повыше. – Гениальный хореограф, гениальный балет. Танцовщиком тоже был классным. Нам с тобой, Софус, крупно повезло.
– Ради бога, – взмолилась Соня. – Можем мы обсудить что-то другое или просто помолчать? Говорить о нём перед репетицией – всё равно, что проснуться за пять минут до звонка будильника.
– Признайся, тебе единственной он не нравится, – напирала Инка. – Можно подумать, у тебя к нему личные счёты!
– Да, не нравится, – прошипела Соня. – Нормальный человек такой балет не поставит!
– Нормальный – нет, а гениальный – да. И мы обе в нём станцуем, если я не окочурюсь до премьеры, – на этих словах хореограф вошёл в репетиционный зал, и Соня дёрнула Инку за рукав разогревочной кофты. – Между прочим, ты ещё ни разу с ним не репетировала в полном объёме, а жаль. Я бы посмотрела на это садо-мазо!..
Последнюю фразу Инка произнесла громким трагическим шёпотом, когда хореограф поровнялся с ними. Ничуть не смущаясь, она бодро вскочила и сделала реверанс.
Соня, вспыхнув, последовала её примеру и отошла в свой репетиционный угол, задаваясь вопросом, почему провидение посылает ей таких отбитых подруг.
Насчет «окочуриться» Инка была права. В будние дни она проходила все совместные сцены с одноклассниками, а по субботам в училище приезжали солисты из театра.
Со взрослыми артистами работалось намного легче – они безошибочно определяли, устойчива ли партнёрша в их руках, мягко приземляли после прыжка и помогали с вращением. На сложных поддержках Инка могла полностью им довериться, не боясь сломать рёбра и пропахать лицом ползала.
«Почему вы так не умеете, долдоны?!» – возмущалась она, вися в опасной близости над землёй на руках одноклассника, пока хореограф на стройных, по-молодому пружинистых ногах ходил вокруг, поправляя её пыхтящего партнёра.
В дальнем левом углу зала то же самое делала Соня.
Повторяя в сторонке отдельные части танца, она иногда ловила взгляд хореографа в зеркале. Иногда он кивал, иногда улыбался, и его лицо распадалось на две части: правый глаз оставался серьёзным, а вокруг левого собирались морщинки, будто прошитые общей нитью.
У Сони начиналась паника. Улыбка означала, что настал её черёд обливаться потом. Создатель балета разворачивался в её сторону и жестом или движением головы подзывал к себе. Соня шла, как лошадь в топь; пальцы ног, стиснутые пуантами, бросало в жар, и через своды стоп пробегала мелкая, призрачная дрожь. Если хореограф стягивал длинные тёмные волосы резинкой, то собирался заняться ею вплотную.
Влад, Инкин и Сонин нахальный одноклассник, проходил партию Волка с ленцой, любуясь на себя в отражении. Локон, падающий ему на глаза, делал его похожим на киношного итальянца с выкидным ножичком и износившейся в лохмотья совестью.
С собратьями по трико он вёл себя развязно, часто ругался, впадая в ярость из-за любой мелочи; к педагогам умел подлизаться, компенсируя лень обаянием и природными данными. На хореографа он смотрел настороженно, сквозь припухлые, сонные веки.
В мужской раздевалке Влад умудрялся спать на любой горизонтальной поверхности, мало-мальски пригодной для лежания. За пятнадцать минут перерыва он успевал вздремнуть, и в зал возвращался с отпечатком импровизированной подушки на щеке.
У Инки и Влада на протяжении двух лет был странный, вялотекущий роман: она любила его, а он – самого себя. В компании небалетных друзей Влад представлял её, небрежно ткнув пальцем в бок: «Моя девчонка». Инка таяла, но в репетиционном зале от дуэта с ним плевалась.
Соню Влад не выносил, швырял её на прыжках, не трудясь опустить на пол бережно. «Не боись, Морковка, – ржал он ей в затылок на поддержках. – Ниже земли не упадёшь!»
Соня прыгала, стиснув зубы. Так ей говорила тётя: «Ниже земли не упадёшь» (но имелось в виду, что упадёт Соня гораздо ниже – в тётиных глазах). Расслабляться было нельзя ни на секунду.
Приходилось повторять всё дважды: сначала с Владом, под окрики педагогов, затем – с хореографом, потому что до Влада не доходило с первого раза.
Именитый гость подкидывал и носил Соню на себе без видимых усилий, как тряпичную, попутно вдалбливая мальчишкам в головы, в чём залог успешного выполнения поддержки. Инка тем временем обмахивалась полотенцем и делала подруге сочувственное лицо. Беги по её лбу неоновые буквы, они бы складывались в слова: «Мне тебя очень жаль, но лучше уж ты, чем я!» Девчонки в раздевалке веселились, сравнивая Соню с манекеном для краш-теста.
Она даже рада была чрезмерной нагрузке – та не оставляла ей времени размышлять о том, зачем она дышит.
Её жизнь принадлежала кому угодно – Моне, училищу, театру, школьным учебникам – только не ей. Она сама не знала, чего хочет от жизни, и хочет ли вообще чего-нибудь. Её личность раздавили, стёрли в порошок, а новая
не успевала формироваться, как не успевала зарастать содранная кожа на пальцах ног. Сонино тело стало собственностью балетных педагогов, и она, заточённая в саркофаг своей измученной, дрессированной плоти, устало наблюдала за жизнью вокруг себя.
В конце первого акта Волк хватал Красную Шапочку за волосы и тащил в подвал бывшего бабушкиного дома.
Одной рукой партнёр должен был незаметно поддерживать шею и плечи партнёрши снизу, а второй вцепиться понарошку в распущенные пряди. Красная Шапочка, брыкаясь, почти что ехала за похитителем на спине.
Влад, и Инку, и Соню взваливавший на себя, как мученик – крест, окрасился в королевский пурпурный цвет. Локон прилип ко лбу, и он безуспешно пытался его сдуть, вытирая скользкие ладони о пояс.
Сонин купальник насквозь промок. Нескольких недель хватало, чтобы на чёрной нейлоновой спинке проступили несмываемые солевые пятна, и девчоночьи спины напоминали оленьи.
– Давайте ещё раз пройдем финал, и закончим на сегодня, – скомандовал хореограф. – Кто готов пожертвовать собой наспоследок?
Инка, преждевременно уверовавшая в освобождение и расслабившаяся, тут же принялась озабоченно массировать ступню, избегая поднять голову.
Влад мрачно вытирал руки. Восемь его пальцев из десяти могли принадлежать девушке – тонкие, чуткие, с трогательными белыми крапинками на ногтях; но большие – мяснику. Ими он тёр нос, когда ухмылялся: проводил подушечкой пальца слева направо, над неурожайной верхней губой, и тогда в нём проглядывал маленький вредный мальчонка, не желающий ходить на горшок.
Соня тяжело дышала. Бесплодный чёрный океан наползал на неё, затекал в уши, размывал напольное покрытие в зале и всё вокруг. Внутренняя поверхность век озарялась всполохами. К уху будто кто-то глумливо подсунул камертон.
Ей пришлось сглотнуть, прогоняя привкус ржавой подковы во рту. Конечности превратились в водоросли, в медузьи космы – как в боа у Моны, щекотавшем той плечи, а губы – её поклонникам.
Галина Викторовна сидела у зеркальной стены с кислым видом, заваривая в кружке растворимый супчик. Её ненакрашенное, с бледными матовыми щеками лицо над вишнёвой кофтой казалось бумажным. Она раздражённо помешивала кипяток ложечкой, пробовала варево, обжигалась и злилась. Узкие щиколотки, обтянутые кожаными брюками, она скрестила, вытянув ноги перед собой на всю длину.
Педагог мальчишек, ссылаясь на время, убежал раньше.
Ольга, отвечавшая за музыкальный центр, еле сдерживала зевоту. Была её очередь включать музыку; всякий раз она разомлевала на чужой репетиции, хорошела, облокотившись на колонку – видно, все силы, истраченные танцовщиками, перетекали к ней и прекрасно ею усваивались.
Глаза хореографа вонзились в Соню, как шпоры. Она заставила себя кивнуть в ответ, выражая покорность.
Наспех спрятав узелок от тесёмок, она приняла позу, с которой начинался финальный эпизод, но хореограф не дал сигнала включить музыку. Вместо этого он подошёл к Соне и заправил ей за ухо удравшую из-под невидимки мокрую прядку.
– Отдышись, – сказал он, глядя, как она старается не хватать ртом воздух. И добавил: – У тебя сквозь ухо солнце просвечивает.
В паническом табунке Сониных мыслей проскочило: «Трындец!», озвученное голосом Амелии.
Пока она усмиряла пульс, хореограф стоял рядом, впав в особую, гипнотическую неподвижность, присущую лишь кошкам и египетским статуям.
– Задолбала, – прорычал Влад, возникая у неё за спиной. – Ты меня всего испинала, придурочная!
– Отлепись от своего отражения и ради разнообразия хотя бы сделай вид, что держишь меня, – ответила Соня сквозь зубы.
Влад ощутимо стукнул её кулаком под лопатку.
– Так, музыка! – похлопал балетмейстер, привлекая внимание задремавшей Ольги. Та вздрогнула, выпрямилась и нажала на кнопку.
Музыку к балету написал зарубежный композитор, затворник и параноик, скандально успешный благодаря выдающемуся таланту и едким высказываниям. Ругаясь с журналистами, берущими у него интервью, он срывался с повседневного, занудного фальцета на неприличный девичий визг – как если бы интервьюер был крысой, или голым маньяком, или голым маньяком, облепленным крысами; хрипя, хватался за сердце, и потом остаток дня маялся – у него дёргалось веко под редеющей бровью.
Балет пронизывали те же истеричные визги, исполненные на скрипке.
В первом акте визг нарастал, из тревожного попискивания в сценах с Матерью Красной Шапочки перерождаясь в почти непрерывный вопль жертвы.
Героиня уворачивалась от Волка, подныривала под хищно расставленные руки, убегала, дралась.
Соня хваталась за Владовы запястья, проезжала под ним вперёд ногами и выпархивала вверх позади него – чтобы быть снова пойманной, поваленной на землю и протащенной через всю сцену (репетиционный зал) в заднюю кулису (левый дальний угол) на спине.
То ли у Влада не осталось сил, то ли ненависть к Соне достигла предела. Он варварски впечатал её в пол и разошёлся с текстом танца. Резкая боль от ушиба заставила Соню затормозить и перекатиться на бок.
– Стоп! – крикнул хореограф.
Музыка стихла. Галина Викторовна, отставив кружку с супом, подлетела к Соне.
– Цела? – спросила она, помогая ей подняться и одновременно заглядывая ей за спину. – Кровит, содрала кожу. Надо обработать. Двигаешься нормально?
– Да, спасибо, – ответила Соня на автомате.
На линолеуме краснела смазанная полоса – след неудавшейся поддержки.
Инка, забыв про массаж ступни, часто моргала, не зная, на кого смотреть; Ольга съёжилась за музыкальным центром.
Влад согнулся, упёршись ладонями в колени, и молча, со свистом, дышал.
Шоковое онемение сошло, как отлив. Обожжённая спина ощутимо вспухала. Болевой набат разнёсся по телу, и вырез купальника быстро пропитывался кровью.
Соня хотела доковылять до станка и взять полотенце, но хореограф мягко удержал её за предплечье и подвёл к Владу.
– Как это вышло? – обратился он к нему, не повышая голоса.
– У неё спросите, – прохрипел Влад.
– Я у тебя спрашиваю.
– Она выскользнула.
– Выскользнула?
Бровь балетмейстера изогнулась посередине и неторопливой гусеницей поползла вверх.
От желанного провала в преисподнюю Соню удерживали только его пальцы на предплечье. Глядя в пол, она жалела, что ей нельзя сбросить свою руку, как ящерице – хвост, и запереться в раздевалке в одиночку, посылая всех к чёрту через дверь.
– Она слабачка! – зло выпалил Влад. – Не может удержаться ни на одной поддержке!
– Это ты должен её держать, вместо того, чтобы перекладывать ответственность на неё! Ты её партнёр! Она что, по-твоему, умеет летать?..
Хореграф вдруг присел, подхватил Соню и вытолкнул её наверх одной рукой. Она мгновенно собралась для поддержки, не успев сообразить, что происходит. Точка опоры целиком приходилась на ладонь у нее под рёбрами.
– Почему я держу её одной рукой, а ты вцепился двумя и роняешь? Нахрена ты вообще тогда нужен? – тем же спокойным тоном продолжил постановщик, опуская Соню вниз.
Приземлившись, она вновь шагнула за полотенцем, и снова пальцы хореографа её догнали.
– Мне с Инкой работать легче, – отбивался Влад.
– Ты и её еле ловишь. И ты правда считаешь, что виновата партнёрша? – вмешалась Галина Викторовна.
– Просто уберите её от меня! – в безнадёжной ярости обхватил он голову.
– Я тебя уберу, – пригрозила Галина Викторовна. – На выходных у тебя будет время решить, ту ли ты выбрал профессию. Советую внимательно наблюдать за работой артистов и сделать для себя соответствующие выводы. Соня, – повернулась она к пострадавшей. – Можешь завтра не приходить, лечи спину. Девочки, поможете ей, да?
Инка и Ольга сделали уходящей преподавательнице реверанс.
Балетмейстер сверлил Влада парализующим взглядом, не ослабляя захват на Сонином предплечье:
– Не хочешь извиниться?
– Не хочу, – хором откликнулись оба; Влад, судя по виду, был готов придушить её.
– Не надо извинений, – бросила Соня. – Спасибо большое, я пойду.
Она деликатно высвободилась из-под балетмейстерской руки, присела в поклоне и, стараясь не меняться в лице, размеренным шагом подошла к станку. Сняв полотенце, висящее на боковой перекладине, осторожно приложила его к спине, где дотягивалась.
– Дай-ка я, – предложила Инка, сунув пуанты себе под мышку.
Оттянув край купальника, она заглянула внутрь, хмыкнула, отобрала у подруги полотенце и промакивающими движениями принялась обрабатывать рану.
– Что, всё плохо?
– До самой жо, – шепнула Инка. – Карпаччо.
– Вас проводить до раздевалки, барышни? – спросил хореограф.
– Нет, спасибо, тут два шага, – откликнулась Инка, не отрываясь от раны.
– Соня, ты в порядке? Доберёшься до дома?
– Да.
– Надеюсь, это не слишком тебя расстроило. Все падают. Сквозь тернии
к звёздам, а?..
Он подмигнул им, распустил волосы и бодро направился к выходу, что-то насвистывая.
Влад, отвернувшись к окну, заправлял майку в лосины. На руках у него вздулись вены. Ни слова не говоря, он поднял с пола кофту, повязал её вокруг шеи и бросился вон из зала.
– Э, – окликнула Ольга взбешённого Влада. – Куда? Мне что, музыкальный центр до канцелярии самой переть? Эй!..
Входная дверь за ним громко хлопнула.
– Поверить не могу, – вздохнула Инка. – Какая муха его укусила? Премьер фигов. Софус, прости, ладно? – затянула она извиняющимся тоном. – Моя очередь была, но я так устала!
– Знаю, – Соня потёрла предплечье. – Тебе ещё завтра пахать на прогоне.
– «Вас проводить до раздевалки, барышни?» – пародируя акцент хореографа, подскочила к ним Ольга. Она сверхбыстро захлопала ресницами и бесцеремонно обхватила девчонок за шеи, повиснув на них.
– Больно, больно же! – Соня попыталась отпихнуть её, но Ольга вцепилась в неё, как клещ. Склонившись к её уху, она, давясь от хохота, пробулькала:
– Учись, Бешеная Морковка! Когда тебя впервые бросит мужик, вспоминай сегодняшнюю репетицию!..
Пейзаж, перечёркнутый оконной рамой, радости не добавлял.
Осенью окна в девичьей раздевалке смотрелись лысыми, и балетная администрация выделила в качестве штор потрёпанную, закапанную свечным воском скатерть из реквизита. Её распороли на четыре части, подшили вручную и повесили на халтурно вбитые над рамами гвозди.
Снаружи шторы были в красную клетку, а изнутри – тёмно-серыми. По бокам колыхалась синтетическая бахрома, прошитая золотой нитью. На мир шторы глядели праздничной стороной, на девочек – мрачной изнанкой.
За окном ветер гладил редкие деревья против шерсти.
Инка заваривала чай с заменителем сахара. Ольга, сидя в наполовину спущенном купальнике, лениво жевала яблоко.
Соня, облитая перекисью, сушила спину у подоконника, бессмысленно накручивая бахрому на палец. Когда она разделась, выяснилось, что ободрана не только верхняя часть лопаток, но и ягодицы, и даже бёдра. Инка помогла ей отделить трико от царапин.
– Катька красится на ночь помадой, чтобы не есть, – брякнула Ольга, промазав огрызком мимо урны. – А потом дрыхнет лицом в подушку. Вы знали?
– Она сама тебе рассказала? – поинтересовалась Инка, размешивая чай.
– Я ночевала у неё в воскресенье и видела, как она встаёт посреди ночи. Постоит у холодильника, потопчется, потом идёт в ванную рыться в косметичке. Накрасится – и обратно под одеяло. Гейша, блин!..
Ольга попробовала подтолкнуть огрызок к урне носком балетки, не дотянулась до него и сдалась.
– Подняла живо! – возмутилась Инка, выжимая чайный пакетик.
– Я пыталась, – притворно захныкала Ольга. – Но он так далеко, а у меня нет сил… К тебе он ближе!
– Обнаглела?! Сидела всю репетицию, музыку включала-выключала, и нет сил?
– Это тяжёлая и ответственная работа, я испытываю колоссальные моральные и физические перегрузки!
– Ща получишь чайным пакетиком в лоб!
– Ну тогда пусть Сонька…
– Меня, вообще-то, спиной уронили, – кашлянула Соня.
– Вот-вот, – поддержала Инка. – А Оленьку нашу – головой, в детстве.
– Как ты разговариваешь с Матерью! – Ольга лягнула воздух рядом с Инкой. – Надо было сплавить тебя к бабке с самого начала, а самой затусить с Волком, отличный бы получился балет!..
…Смутная мысль, ежом перекатывавшаяся в голове у Сони, кольнула её.
На днях тётя заглядывала к ней в комнату перед отбытием на фуршет – фальшивый ужин с фальшивыми людьми. Вертикальная ямочка у неё на подбородке подрагивала от предвкушения; Мона улыбалась.
Соня поднялась на цыпочки, чтобы застегнуть ей молнию на платье. Позвоночник Моны, похожий на нить крупного жемчуга, вшитую под кожу, искривился, когда она взглянула на племянницу через плечо и промурлыкала:
– Говард интересуется, как тебе новый балет.
Ну конечно. Тогда она не обратила внимания – обожатели Моны давно утратили имена и черты, вылиняв до условных картонных фигур, вроде мишеней в тире.
– Парад психопатов, – ляпнула Соня в сердцах.
Трактовка хореографа неприятно поражала своей прямотой.
Холодная, равнодушная мать с расстройством психики, желая избавиться от дочери, отсылает её жить к бабушке на другой конец города. По пути Красная Шапочка, сама того не подозревая, сталкивается с маньяком, перекупившим дом.
Волк-маньяк не говорит ей, что бабушка уехала, и дом принадлежит ему. Он показывает девочке окольную дорогу, а сам спешит домой, чтобы подготовиться к осуществлению садистских замыслов. Прибывшую позже к порогу гостью он уговорами заманивает внутрь, нападает на неё и, после непродолжительного, но бурного сопротивления, волочит её вниз, в подвал, чтобы истязать.
Во втором акте Красная Шапочка заперта в подвале. Связи с внешним миром у неё нет, только Волк, раз в несколько дней приносящий еду и измывающийся над ней. Постепенно она теряет надежду на спасение и становится безвольной игрушкой маньяка.
Тем временем её разыскивает Лесник – будущий муж её матери и отчим. Лесник – тайный педофил, и к матери Красной Шапочки сватался не случайно, очарованный девочкой. Исчезновение прелестной падчерицы заставило его броситься на поиски.
Волк впускает его в дом, и Лесник замечает внутри следы пребывания девочки. Силой заставив Волка отпереть подвал, Лесник спускается вниз и видит Красную Шапочку, полубезумную и истерзанную. Он уговаривает её уйти с ним, но она отталкивает его и забивается в угол.
Поверженный было Волк, придя в сознание, набрасывается на Лесника, и начинается битва двух маньяков. Девочка с ужасом наблюдает за ней из угла, слишком обессиленная, чтобы бежать.
Под конец появляется Бабушка Красной Шапочки, бодрая и вооружённая до зубов. Пристрелив обоих чудовищ, она приводит внучку в чувство. Одежда девочки вся пропитана кровью монстров; из подвала она выходит нагая, с окровавленными волосами, держа Бабушку за руку.
Балетные критики, заранее ознакомившись с либретто, трактовали финал постановки как победу феминизма над ужасами патриархата, а Бабушку провозглашали её символом. Ирония заключалась в том, что партию Бабушки исполнял парень, а главных женских ролей было всего две – Мать и Красная Шапочка: одна – безжалостная нарцисска, лишенная материнских чувств, а вторая – несчастная жертва.
…Мона, надевая серьги, с удовольствием примеряла слова племянницы так и эдак, внимательно всматриваясь в её лицо.
Соня умела прятать свои чувства, как мусор под ковёр, но с тётей это не срабатывало. Усталость, вечно подавляемое негодование от тётиных поздних выходов в свет и свиданий, чувство собственной ненужности – целый букет отразился на её физиономии. Она отвернулась; глаза заволокло слезами.
– Я обязательно ему передам, – пообещала Мона, чмокнув племянницу на прощание в висок.
Её уход был столь стремителен, что в воздухе мелькнула линия света от блеска её серёг.
Соня ощутила тревогу – слабую, неясную, но вполне реальную, и не силилась разгадать её, а напрасно.
Хореографа звали Говард.
***
Гладкие, отполированные бока автомобилей проезжали мимо.
Небо над набережной собиралось всплакнуть, а у Сони не было с собой зонта.
«Говард – упырь. Говард – палач. Подходящее имя для маньяка», – думала она, заворачивая мёрзнущие кулачки в рукава и переминаясь на месте.
Рядом на дереве вороны раскаркались, соревнуясь, кто займёт ветку повыше. Вдоль проезжей части по тротуару бабушка вела за руку внука, выговаривая ему за какие-то проделки. Два мира, разделённые козырьком остановки, предстали перед Соней: живой и пёстрый мир загорающихся вдали окон и деревьев, что с высоты полёта кажутся не больше катышков на свитере, – и прямоугольник холодного асфальта с ней по центру, такой опустошённой, что даже небесные тела утратили над ней власть.
Похоронные кучки листвы, собранные покряхтывающим дворником, сырели тут и там, издали походя на пласты гниющего мяса.
Размокший лист, придавленный ботинком, напомнил Соне спину Амелии – лоснящуюся после занятий, с резко очерченным хребтом. Когда никто из педагогов не видел, эта спина становилась безнадёжно сутулой, обречённой, как у кариатиды, и Соне хотелось бы знать, что ещё, кроме очевидного бремени таланта, могли нести на себе её плечи.
Перед уходом Инка заявила, что отныне в сторону Влада и не посмотрит: нечего было ронять Соню с поддержки, мол, это последняя капля; но стоило ей столкнуться с ним на улице, как она тут же прильнула к нему, и ведь не просто обняла – поднырнула к нему под куртку, шепча утешительные слова.
Ольгу перекосило от возмущения.
– Ты гляди, – зудела она, выходя вместе с Соней за пределы школьного двора. – В следующий раз он уронит её, а она, загипсованная, будет сопельки ему подтирать! Вот придурки!
– Пойдём, – позвала Соня. – Давай купим кофе в дорогу.
Порывшись в карманах, обе наскребли денег на один стаканчик кофе в придорожном ларьке на колёсах.
– А, голодные балерины, – узнал их продавец. – Может, возьмёте пирожок с сыром? Свежие, только привезли. Я вам подогрею в микроволновке!
– Спасибо, как-нибудь в другой раз, – отказалась Ольга, принимая пластиковый стаканчик с салфеткой, протянутый из окошка.
– Денег нет? Да я вам так отдам. Попробуете и скажете, стоит ли их продавать, а то вдруг невкусные.
Ольга, для которой признаться в недостатке средств было крайне унизительно, высунула нос из-под модного мехового капюшона и отчеканила:
– У нас ди-е-та!..
До метро шли, останавливаясь и по очереди отпивая кофе. Продавец не пожалел молочной пенки, и у обеих после пары глотков образовались сладкие усы над верхней губой.
– Полегчало, – вздохнула Ольга, стирая усы салфеткой. – Домой приеду, а мама там снова салат с капустой настрогала. Помешалась с этим балетом. У меня скоро капуста из ушей полезет!
– Она за тебя переживает.
– Она хочет меня голодом уморить! Карманные деньги не даёт и папе запретила, с собой кладёт салат и яблоки. Я на чёртовой капусте ноги протяну! – выкрикнула она, спугнув голубей и чуть не расплескав ароматный напиток.
– Дай сюда, – Соня забрала стаканчик и отхлебнула. – У меня на завтрак яйца всмятку, а с собой – вообще ничего, так что спасибо твоей маме за салат.
Крохотный листок упал в кофе, поднятый ветром с асфальта вместе с уличной пылью. Соня расстроилась, но Ольга выловила листок пальцами и заявила:
– Пофиг, я допью.
На месте листка образовалась дыра. Ободок пенки с горячей гладью кофе стал похож на изъеденную сомнением душу.
Ольга залпом допила остатки, смяла стаканчик и пульнула в ближайщую урну. Попала.
На красный свет громко пронеслась скорая.
Раннее вечернее солнце прошило тучу, климтовским мазком позолотило проезжую часть и погасло. Сверкающая кольчуга дождя обрушилась вниз.
Со звенящей головой Соня вошла в трамвай, села сзади, у окна, подняла по-шпионски ворот тёмно-синего пальто.
Будь с ней Амелия, та бы распихала пассажиров локтями, рявкнула во всё горло: «Занимай!» и, рухнув на сиденье, с наслаждением бы расставила ноги выворотно.
Смеялась Амелия, как конь римского легионера, и ела столько же. Подпихнув Соне свой пластмассовый контейнер с домашним винегретом, она налегала на пирожные со сгущёнкой, и её мальчишеское ухо – оттопыренное, словно бирка на одежде, – двигалось в такт с челюстями.
– И что мне теперь делать? – спросила Соня в последний день после репетиции, когда они, потные и злые, еле плелись в раздевалку.
Обеим досталось: Соне за то, что уезжает в другой город, Амелии – за вялость.
«Не вздумай кому-нибудь сказать, что ты у меня училась! – кричала Соне педагог, заглушая музыку. – Я со стыда умру!» Раз за разом ей приходилось повторять партию, хотя все знали, что ей уже не станцевать в родном театре.
Амелия, как всегда, была безупречна, но выражение её лица приводило репетитора в ярость: «Забелина, в чём дело?! Твоя сильфида объелась тухлыми шпротами?!»
У Амелии на шее висела связка пуантов, похожая на банановую гроздь. Она ткнула Соню в бок стоптанным пятачком и шепнула:
– Как – что? Найти себе парня и закадрить!..
В тот день, прощаясь на улице, Амелия поймала Соню за шиворот, уничтожающе прошипела: «Застегнись, женщина!» и, уже повернувшись спиной, показала ей средний палец. Её старые, разношенные пуанты, вложенные один в другой и обмотанные лентами, лежали у Сони в рюкзаке.
Ногти на ногах у Амелии, отрастая, загибались вверх. Она мучилась, состригая их до мяса, и носила силиконовые вкладыши. Два-три дня кровавые ранки заживали, неделю она вставала на пальцы без помех, а потом всё начиналось снова. Ногти росли аномально быстро; Амелия в шутку называла их гоблинскими. Полукружья ранок, словно издевательские улыбочки, алели на пальцах в ряд по пять.
Амелия считала своим долгом явиться к дверям приёмной комиссии училища, разуться и сунуть ступню под нос какой-нибудь поступающей малявке. Она хватала девчонку за плечо, трясла и злобно приговаривала: «Скажи-ка, детка, ты любишь боль? Надеюсь, что любишь, потому что вот что тебя здесь ждёт!»
Соня оттаскивала её под возмущённые крики родителей; дети цепенели от страха, некоторые плакали. Из зала, где заседала комиссия педагогов, выглядывала заведующая балетной канцелярией и срывающимся голосом требовала соблюдать тишину.
Доведя малявку до икоты, Амелия светлела лицом, веселела, и на обратном пути до дома уминала сырные крекеры, стряхивая крошки Соне за воротник.
Утром в понедельник, после единственного выходного, они, разогреваясь, сидели на поперечных шпагатах, обнявшись, как сиамские близнецы, сросшиеся в плечах.
– Ну что, жопик, готова вкалывать? – ехидничала Амелия, разминая подъём. – Ида сегодня тебя сожрёт за адажио. Опять будешь пахать одна на середине!..
– Ты зато в это время будешь бездельничать, – огрызалась Соня.
– Ага, – радостно ржала Амелия, принимаясь за другую ногу. – Буду! Так что лажай подольше, чтобы я могла отдышаться.
Содранная кожа, окровавленное трико.
Перед прогонами и спектаклями на Соню находит неконтролируемая нервная зевота. Пять минут до выхода; она топчется в кулисах, разогретая и накрашенная, в пачке – собственности театральной костюмерной. Пачка пахнет стиральным порошком, крахмалом, и еле слышно – чужими потом и духами. Лиф колется изнутри. Резинки бретелек костюмерша, прокуренная тётка Саша, замазала жирным тональным кремом.
Лиф велик, бретельки растянуты; костюмерша подогнала пачку кое-как, где на живую нить, где на булавки. «Грудь тоже замажешь тональником, – велела тётка Саша, выпустив табачного змея Соне в макушку. – Если и свалится, никто ничего не поймёт».
Фамилия Сони выведена крупными чёрными буквами на подкладке – поверх других, уже стёршихся. Теми же буквами она пропечатана в программке, которую сомнут и выбросят после спектакля.
После поклонов она, будто омытая мёртвой водой, пойдёт в гримёрку и ляжет плашмя на истёртый ковёр, и будет лежать с гудящими ногами и переключающимися тумблерами в ушах, пока не прискачет Амелия и не запустит в неё канифольной крупинкой, и не проорёт прямо в ухо:
– Поднимайся, дубина! Ида идёт, нам трындец!..
Пачка, выстиранная и высушенная, повидавшая балетных тел больше, чем престарелый меценат-потаскун, вернётся на насест в костюмерной. Кто поручится, что она не хихикает в темноте, среди потрёпанных товарок, подвешенных на крючок за причинное место?
Дома было темно и пусто. Соня расшнуровала ботинки, сняла пальто с ледяными пуговицами и, не зажигая свет, прислонилась к стене.
Из коридора просматривалась гостиная с большим окном. В доме напротив двумя этажами ниже мигала разноцветными огнями парикмахерская. Ножницы на вывеске раскрылись лезвиями вниз – ни дать ни взять тощенькая девочка в ученической балетной стойке.
Мона стриглась там регулярно, Соне же запрещалось переступать порог парикмахерской, как и вообще что-либо делать с волосами, кроме пучка.
Раз в полгода тётя сама ровняла ей кончики маникюрными ножничками. Внутренне съёжившись, Соня отбывала повинность на табуретке, реагируя на перемещающиеся пощёлкивания движением глаз. Мона зажимала сухие пряди пальцами, как сигарету. Розовыми ногтями она прочёсывала затылок племянницы снизу вверх, ища не попавшие под лезвия волоски. Озноб сороконожкой пробегал по Сониной спине.
Отстриженные волосы сметались на совок, но без следа исчезали, так и не попав в мусорное ведро. «Мастерит куклу вуду», – думала Соня устало, закрывая дверцу под раковиной.
На самом деле Моне не нравилось, что у племянницы волосы тоже рыжие. Распустив дома пучок, Соня могла ходить только с хвостом или полотенцем на голове, в противном случае ей вслед неслось: «Растрёпа! Как не стыдно быть такой неряхой! Софья!.. Я кому говорю!»
В холодильнике нашлось полтора десятка яиц, две бутылки шампанского, упаковка сыра и детский йогурт. На средней полке лежала записка: «Закажи себе что-нибудь» – и несколько купюр.
– Пошла ты, тётя, – выругалась Соня в холодильник и хлопнула дверцей.
И впрямь, зачем женщине, красившей ногти на ногах даже под пуанты, держать дома еду?..
В тётиной комнате огромное, до полу, окно выходило на проспект. Ради него всё и затевалось – прежнюю квартиру в тихом, но не престижном районе, тётя выставила на продажу, а новую, почти в центре города, с высокими потолками и просторной кухней, ей выхлопотал Азиз – единственный из спутников Моны, о котором Соня грустила.
Прежде, каждую осень, он заезжал за ними в конце сентября, налегке загонял в машину, и они отправлялись к нему на дачу – дышать морозным воздухом и собирать тыквы.
Втроём они неслись по уводящему из города шоссе в болотного цвета пикапе, управляемом его мощной рукой. Азиз разрешал Соне высунуть ноги в окно, а Моне – положить их на приборную панель. «Проветрите мозоли, девчули!» – смеялся он, и они в такт радио шевелили ступнями, обе – в белых шерстяных носочках.
Пока Соня разглядывала череду холмов и полей вдали, словно вывязанных на свитере, Азиз убеждал тётю забрать её из балета:
– Пусть сначала поживёт, как все, а потом танцует!
– В нашей профессии всё происходит наоборот.
– Неправильно это. Потом вы уже так отравлены сценой, что нормально жить не можете.
Дым его сигареты вкусно пах и сочетался с ванильным лосьоном Моны. Азиз знал, как ей нравится запах, и курил при ней только этот сорт, чтобы доставить ей удовольствие.
Соня втягивала ноги внутрь, поднимала стекло и дремала на заднем сидении, укрывшись курточкой в тон пикапа.
Луна обозначалась в вечереющем небе большим шаманским бубном. Туман собирался над лугами, обволакивая стога и блеклые осенние цветочки. Тётя сушила свеженакрашенные ногти, вывесив руку наружу.
«Ещё успеет испортить себе жизнь батмантами», – доносилось до Сони сквозь дрёму. В машине Азиза её не тошнило.
Дачный дом Азиза конопатили ведьмы, а может, снежный человек тёрся о его цельные брёвна блохастой шкурой; он стоял у самой кромки убранного поля, с торчащими из стен бурыми космами, в окружении горьких травок и бочек для сбора дождевой воды.
Хозяин выносил из дома ковёр, расстилал его на траве и расставлял мебель, разводил костер. На столе появлялось вино, дымящийся кофейник, сок в стеклянном кувшине. Тётя нарезала зелень, подавала Азизу унизанные маринованным мясом шампуры, в доме на плитке готовила горячие бутерброды и грела вынутую из холодильника кастрюльку с супом.
Перевёрнутый ящик из-под картошки, на котором Азиз сидел у костра, вдавливался под ним в землю. Оставив угли догорать, хозяин дома вилкой снимал шашлык с шампуров в тарелки.
Соне разрешалось выпить чашку кофе наравне со взрослыми: ей заваривали послабее, щедро наливали сливки и сдабривали корицей.
Вместе они ужинали под открытым небом, отгоняя звереющих комаров; свободные, будто первые люди – уже изгнанные из рая, но ещё не разошедшиеся по миру; и единственным человеческим островком на планете был их восточный ковёр с накрытым столом.
Грозовой ночью, когда любое скучное кино казалось замечательным в кругу семьи, а тлеющая спираль для отпугивания комаров роднилась с курениями, возжигаемыми брахманами, Соня ложилась спать на водяной матрас, и впервые за долгое время у неё ничего не болело. Толстые, серые, грубо прибитые доски чердака были у неё над головой, такие занозистые, что походили на шерсть. На пол Азиз постелил старую шубу, и выдал Соне тапки, подбитые овчиной.
Во мраке и тепле она ждала лесных чудовищ, передвигающихся на ходулях и стучащих ветками в окна. Единственное чердачное окошко закрывалось ставнем, висящим на одном косяке. Засыпающей девочке верилось: хлипкий ставень в чужом дачном доме защитит её от чудищ, даже тех, что приходят из мира взрослых.
На рассвете тётя будила её и заставляла умыться из жестяного ведра. От холодной воды у Сони перехватывало дыхание. Онемев от обиды, со слипшимися ресницами, она убегала обратно в дом, где Азиз растапливал печь. Ей нравилось греться у печной трубы, наполнявшей комнату уютом; сам Азиз был как печь – на нём всё держалось.
Они сгребали опавшие листья в саду в мокрые кучки, гуляли по лесу. Мох на деревьях навевал мысль о лешьей бабушке, обвязывающей стволы кружевами так, что те стояли в чехлах.
На обед Азиз варил суп с домашней лапшой в котелке, а Мона расслаблялась с маской на лице, полулёжа на его любимом старом диване. Ноги в уличных ботинках она задирала на подлокотник, и хозяин дачи лишь умилялся её непосредственности, поднося ей предварительно остуженную ложечку бульона на пробу.
Рассыпался, как головешка, угас их роман.
«Азиз прислал письмо», – сообщала поначалу тётя, разбирая почту; потом письмо превратилось в «письмецо», «писульку». Тётя говорила презрительно, унывая всё больше и больше.
Как-то Соня решила написать вместо тёти ответ и сломала карандаш, силясь вживить в бумагу свои тревоги, но выходило сплошное нытьё, и она спалила тетрадный лист в пепельнице.
Остались крупинки: пробка от вина, подсвечник из разрисованной тыквенной корки. У Моны в прикроватной тумбочке стыдливо хранилась фотография Азиза, сидящего на собственных грядках с тыквами, под нимбом рассветного солнца. Земля вокруг него источала холодный, пустынный марсианский свет, а тыквы смахивали на кладку яиц враждебных пришельцев.
Соня вспоминала, как плюхнулась прямо в грязь, спеша подать Азизу румянобокую тыковку; как грузили они с тётей овощи в кузов; как ехали обратно среди башенок из поздних тыкв, распевая глупые песенки. Азиз сам делал заготовки и угощал друзей, а для них готовил праздничный обед, и все блюда, включая сладкий пирог, были тыквенными.
Порой под утро Соне снились обрывки того периода – дерущиеся в кустах под умывальником птички; поленница, где каждая деревяшка выглядела одиноко; прибаутки Азиза и то, как пахли его старые куртки в дачном шкафу.
Уже тогда у неё в груди тяжелела ледышка, но плавала она в подтаявшем верхнем слое льда и, по крайней мере, не кололась так, как после его ухода. В последнюю встречу Азиз, обнимая её, сказал: «Не обозлись, детка. Что бы твоя тётя ни сделала, она это делает ради тебя. Не обозлись и не отчайся, потому что иначе внутри умирает бог».
…Нужно было принять душ, кое-как заклеить спину, кряхтя в неудобной позе перед зеркалом. Вместо этого Соня зашла в комнату тёти и бездумно бродила по паркету, перемещаясь от стены к стене. Мысли её упорно возвращались ко времени, когда у неё почти была семья.
Азиз обращался с ней, как с равной, а тёте твердил: «Ты моя маленькая!» Одним движением брови он выражал укор, и тётя прекращала нападать на Соню в его присутствии: мужчина, сошедший с картинок из детской Библии, где цари тетешкают и носят на руках ягнят.
В стеклянном шкафу у Моны стояли кассеты с записями спектаклей, фрагменты передач с её участием, эпизоды с интервью. Некоторые записи удалось оцифровать, но большинство осталось на плёнке. Соне с детства вменялось просматривать их еженедельно, осваивать технику и набираться опыта. Многие партии она выучила наизусть, но приблизиться к качеству исполнения не представлялось возможным; из всех знакомых единственной, кто смог бы потягаться с Моной, была Амелия, и то через годы упорной работы в театре.
Запись с балетом «Дон Кихот», где Мона танцевала Китри, сильно пострадала от постоянных перемоток. Её Соня доставала из шкафа чаще других.
В конце, на поклонах, нанятый оператор поймал в объектив Азиза в начале их с Моной романа – он поднимался из партера на сцену, чтобы вручить разгорячённой приме роскошный букет и поцеловать во влажную, измазанную гримом щёку. На стоп-кадре крупным планом были выхвачены их лица, и соседство, от которого щемило сердце: тёмные вихры дарителя, густые и непокорные, и колечко волос у виска примы, свитое и залаченное так прочно, что казалось вырезанным из дерева.
Соня часами сидела на полу перед телевизором, обхватив коленки и глядя в экран. Избранное мгновение рябило и подпрыгивало, насильно удерживаемое магнитофоном, как вызванный дух – колдуном.
Кадр тянул за собой воспоминания: они втроём у костра, он – жрец огня, а они прислужницы; три пары ног, его мокасины, их с тётей одинаковые полутапки-полуваленки. У тёти высокий подъём и родинка на левой щиколотке, вязь голубоватых вен, огибающих косточку. Тетя обкусала губы до крови и что-то бормотала, опасно наклонив кофейную чашку, но не пила.
Утром она щупала простыни, висящие на верёвке в саду, и Соня наблюдала за ней с чердака сквозь стекло в заиндевелых бакенбардах.
Ветер, как кабацкий задира, цепляющий девиц за юбки, сдул тонкое покрывало ей на лицо, и на кружеве проступила помада. Азиз сказал – похоже на фату, и тётя взбесилась. До конца выходных она третировала племянницу, даже на лесной прогулке умудрилась брюзжать.
Набредя на берёзу с раздвоенным стволом, она постучала по коре костяшкой пальца:
– У тебя слабый подъём. Тебе нужны твёрдые стельки, чтобы вырабатывать стопу, но ты скачешь в этих трухлявых туфлях, которыми забиты сейчас все магазины, и думаешь, что долго протянешь…
– Ничего я не думаю, – перебила Соня, отгоняя комара.
Азиз ушел вперёд, собирая редкие грибы, и ей хотелось присоединиться к нему, а не выслушивать очередную нотацию в воскресный день.
– Напрасно. Я заказала жёсткие туфли, и ты в понедельник будешь заниматься в них. Готовая пара твоего размера ждёт тебя дома.
– Я буду заниматься в своих прежних пуантах, потому что дубовые негнущиеся лапти стирают мне ноги в фарш.
– Софья, не спорь. Я сказала – будешь заниматься в жёстких туфлях!
– Прекрасно! Почему бы тебе просто не забить меня ими до смерти?! – выкрикнула Соня, стараясь потеснить подступающие к горлу рыдания.
Азиз обернулся на вопль и поспешил к ним через крапивные заросли, напрямик. Обхватив Соню за плечи, он утешал её, уводя от Моны в грибное место, отвлекал рассказами, и она благодарно слушала, вытирая слёзы, но к вечеру на неё накатило бессилие. Всё уже продумано богом, вплоть до того, какой чайный пакетик размокнет у неё в чашке, и лишь во власти тёти вымарать первоначальный вариант Сониной судьбы и написать поверх божественного своей рукой…
Она мечтала лишиться ног. Одной было бы достаточно, чтобы покончить с балетом навсегда.
Воскресный вечер на даче Азиза она помнила плохо; он стал последним.
Отравленным оказалось всё. Малиновое пирожное при пережёвывании отдавало кислятиной; печная побелка походила на пупырчатую жабью кожу. Губы Моны и Азиза превратились в слизняков. Пока они ворковали на диване, обмениваясь улиточными поцелуями, Соня выбралась из дома и, ещё не осознавая, что делает, в сумерках побрела к шоссе.
Визг тормозов и неожиданно жёсткий асфальт дороги, и то, как Мона трясла её за руку, подгоняя Азиза, подсказало Соне, что её сбила машина. Она обрадовалась, ожидая, что из неё выйдет дух вон, и так оно, возможно, и было; что-то ослепительное мелькнуло перед глазами – то ли нимб, то ли докторский фонарик…
На тумбе в медкабинете лежал разрезанный поперёк апельсин. Тонкая круглая долька, похожая на витраж католического собора, венчала дымящуюся чашку – доктор пил чай с апельсином на посту в процедурной.
Ссадины обработали, наложили швы. Соню проверили на сотрясение мозга – обошлось. Целую неделю она не ходила в училище: просыпалась, когда хотела, смотрела мультики. Днём, прихрамывая, спускалась во двор и художественно выдыхала пар, кутаясь в шарф на лавочке и интригуя прохожих.
– Чего не в школе, балерина? Прогуливаешь, небось? – подшучивал дворник, присаживаясь рядом и стаскивая грязные перчатки с рук. Он тоже закалывал свои серые волосы в подобие пучка, пока таскал мусор мешками до помойки и обметал сквер.
– Да ну её, эту школу, – в тон ему отвечала Соня. – Никуда не денется. Хоть недельку да отдохну!
– И правда, – соглашался дворник. – Каторжные вы там, что ли? Моя вон внучка на бальные танцы ходит, три раза в неделю после уроков. Позеленела аж вся. Сын с невесткой довольны, а она уже жизни не рада, всё какой-то конкурс хочет выиграть. Дома тренируется, на ночь воды не пьёт – в платье, говорит, иначе не влезу, в блестючее.
Он уходил с метлой, а возвращался с термосом и свежими булочками, наливал Соне крепкий чёрный кофе в отвинченную крышку и угощал сдобой:
– Булочку-то тебе можно, с глазурью?
– Можно, спасибо.
– Когда теперь в школу?
– В понедельник, но я бы и дольше не ходила.
– Понятное дело. Тётя не сидит с тобой?
– Нет, – дрогнувшим голосом признавалась Соня и добавляла уже громче: – Унеё сейчас много дел.
– Ну-ну. Случилось-то что? – спрашивал дворник серьёзно, пристально глядя ей в глаза. – Балетная травма? Связки потянула?
Он подливал ей кофе и продолжал смотреть, и чем участливей он наклонялся к ней, тем сильнее было искушение раскиснуть и уткнуться забитой зверушкой ему в плечо. За несколько минут общения этот простодушный человек дарил ей любви больше, чем Мона за годы их совместной жизни.
Он провожал её до подъезда, придерживал дверь и вызывал лифт, приговаривая: «Езжай, езжай. Нечего. Видел, как ты хромаешь».
Их разделяло лифтовой решёткой, дверью, и Соня взмывала ввысь, унося с собой невыплаканные слёзы и стыд – огромный, удушающий – за то, что она слабая и обидчивая маленькая дрянь.
Всю неделю Мона избегала находиться дома, появляясь исключительно чтобы позавтракать и сменить одежду; Соня была ей за это почти благодарна.
Вечерами она висела на телефоне с Амелией и набалтывалась всласть, не понижая голос и не оглядываясь. Амелия слёту выдавала ей сводку училищных новостей, после принимаясь трещать обо всякой ерунде, и у Сони болели щёки от хохота.
На ночь она мастерила на кровати вигвам из одеял, залезала внутрь и включала идущий по телевизору ужастик; и до четырёх утра не могла заснуть, вздрагивая от соседских шорохов в квартире наверху.
Во вторник и пятницу приезжал доктор – обработать швы и проверить, как двигается её левая нога, затянутая в голеностопный бандаж. Она разрешала ему осматривать пострадавшую конечность с безучастным видом, словно предметом изучения был не фрагмент её тела, а совершенно посторонний, неодушевлённый механизм.
– А я ожидал застать тебя с друзьями, в разгар веселья, – подмигивал доктор, склоняясь над раковиной и намыливая руки до локтей. «Чтобы сразу доложить тёте», – хмыкала про себя Соня, а вслух парировала:
– А я ожидала, что вы будете проводить осмотр в перчатках.
Улыбка линяла на его лице. Он подхватывал врачебную сумку, откашливался и ждал, пока ему откроют дверь. В комнате, ванной и коридоре после него расползались грязные слякотные следы.
В ночь на субботу ей приснился кошмар: она навещает тётю в театре, в антракте, в вечер премьеры.
Спектакль протекает вяло; зрительный зал заполнен на четверть, изредка раздаются жидкие, издевательские хлопки. Оркестр будто выкосило чумой. На сцене танцовщики еле передвигают прилипающие к полу ноги. С пируэтов валятся, после неудавшихся прыжков с грохотом приземляются вниз.
Соня поднимается по растрескавшейся лестнице в гримёрки.
Свет тусклый, некоторые лампочки в старообразных люстрах под потолком вспыхивают и гаснут. На женской половине нет ни кордебалета, ни солисток – одни костюмерши, молча волочащиеся из гримёрной в гримёрную так медленно, что у неё во сне начинает невыносимо тянуть под коленом.
Дверь в гримуборную Моны приоткрыта. Из приёмника доносится невнятное бормотание – трансляция ведётся из зрительного зала, где недовольная публика делится друг с другом скверными впечатлениями.
Соня спотыкается, опускает глаза: пропахший разогревающими мазями ковёр смят и лежит на полу буграми. Чуть дальше, наполовину высунутое из-под трюмо, коченеет тело Моны с отрубленной головой. Её искривлённые, скрюченные на паркете ноги похожи на набитое ватой трико. Головы нигде нет, но на гримёрном столике, между коробочкой с тальком и хаотично набросанными шпильками, буреет кровавая лужа.
Соня хочет кричать, истошно вопить; выбежать в коридор и просить о помощи, но порог артистической уборной парализует её.
Она подходит ближе. Надо бы нагнуться к телу тёти и придать ему более достойный вид, но вместо этого она вдруг зло, с размаху, пинает его носком ботинка – и просыпается от ужаса и боли. Левая нога, на ночь освобождённая от повязки, полыхает огнём: она только что лягнула стену, к которой придвинута кровать.
К субботнему завтраку Мона приехала не одна, а с лучшей подругой, Ирмой. Встретившись с девочкой впервые, та протянула ей руку, как для поцелуя, и представилась: «Госпожа Ирма!» Соня проигнорировала её жест и тут же прослыла «невоспитанной дикаркой».
После визитов Ирмы у тёти пропадали украшения и косметика. Влетало Соне. В её спальне устраивался показательный обыск; за ним следовал многочасовой скандал. Соня слабела и съезжала по стенке, а спустя какое-то время пропажа обнаруживалась либо у Ирмы в косметичке, либо на ней.
Заметив на подруге подозрительно знакомую вещицу, Мона спрашивала, улыбаясь:
– А у тебя обновка? Почему не хвастаешься?
– Да так, – судорожно хваталась та за украденное, прикрывая игру камней ладонью. – Прикупила по случаю…
Ирма маниакально копировала её стиль, даже волосы пыталась выкрасить в тёмно-рыжий, но после неудачных попыток купила вульгарный синтетический парик.
Пока Мона лениво нарезала овощи у плиты, Ирма курила, стряхивая пепел мимо пепельницы, и жадно, будто впервые, разглядывала их кухонную мебель.
Соня, прихрамывая, спросонья брела в ванную. Услышав голос Ирмы, она развернулась и, затаив дыхание, направилась к себе в комнату.
– Софья, ты проснулась? – крикнула тётя в коридор. – Иди сюда, сейчас будем завтракать.
Пришлось, стиснув зубы, возвращаться и приветствовать гостью. Ирма расселась на угловом диванчике и с жеманным хихиканьем комментировала поварские навыки Моны. Стоило хозяйке дома отвернуться к плите, хихиканье смолкало, и ей в спину устремлялся отчаянно ненавидящий взгляд.
Соня отказалась есть. Она налила в кружку чаю и ретировалась с кухни, отметив про себя абсурдность ситуации: прима собственноручно готовит завтрак для более чем посредственной танцовщицы кордебалета.
– Ой, да тут скорлупка, – фыркнула Ирма, пальцами вытаскивая из пышного омлета песчинку. – О моих старых костях заботишься? Решила обогатить их кальцием?
– Тебе не помешает, – заявила Мона. – Софье, кстати, тоже. Надо будет подобрать ей курс витаминов, а то совсем квёлая.
– Удивительно, насколько вы похожи внешне, – подхватила Ирма, вынимая из пачки новую сигарету. – Она твоя копия!
– Копия, – согласилась Мона, щёлкая зажигалкой. – Только бездарная.
Гостья со вкусом затянулась, выпустила дым в потолок, и они вдвоём громко, неприлично заржали.
…От пальцев Моны на Сонином предплечье надолго остались синяки.
Включив кассету, Соня очнулась и увидела белый шум. «Должно быть, отмотала лишнего. Вернёмся на пару минут назад».
Финальные аккорды, аплодисменты, всеобщее ликование. Занавес опускается. У артистов несколько секунд на передышку, затем занавес поднимут, и кордебалет, однократно откланявшись, скромно выстроится сзади, у декораций. На сцену выбегут корифеи, быстро пококетничают; кто-то получит цветок, пошлёт воздушный поцелуй и отбежит в сторону.
Очередь премьеров. Базиль почтительно выводит за руку Китри; поклон, ещё поклон; долгожданное появление Дон Кихота и Санчо Пансы. Обмен любезностями между исполнителями главных партий. Работницы зрительного зала выносят артистам цветы; в Мону летит чайная роза с передних рядов, она поднимает её… рябь.
Запись оборвалась. Соня, не поверив своим глазам, перемотала кассету ещё раз.
Поклоны, полёт розы, рябь.
Мона стёрла Азиза на видео, как будто стереть его из их с племянницей жизни было недостаточно.
Кассета закончилась. Соня, съёжившись, сидела на полу, вглядываясь в пустоту сухими глазами. Заставив себя, наконец, подняться, она выключила магнитофон, задёрнула на тётином окне шторы и только тогда позволила себе заплакать.
Распаренная в душе, кожа отделялась от ранок по кусочкам. Соня, чертыхаясь, промокнула глубокие ссадины полотенцем; спину тут же защипало.
«Чёртов Влад, чёртова поддержка, чёртов грёбаный балет!»
Амелия бы на её месте посмеялась над казусом, заверила партнёра, что всё в порядке, а на следующей репетиции заехала бы ему коленом в пах.
Пока Соня яростно желала развязаться с балетом, Амелия упорно стремилась стать лучшей, устраняя преграды на своём пути. Все поля её школьных тетрадей были изрисованы подъёмами, икрами, пуантами и пачками. Амелия служила; Соня сдавала себя в аренду. Танец Амелии вырастал из любви; Сонин танец был замешан на злости. Злость питала каждое па, множась и мутируя, как лернейская гидра, и стала единственным жизненным ресурсом на пепелище её «я».
Именно тётя отдала Соню в балет.
Родители впервые привели её в театр. Мона находилась на пике своей карьеры; театр был её дворцом, от подвальных технических помещений до закреплённых под потолком сцены прожекторов, ловивших плывущие в воздухе пылинки в световое лассо. Она царила среди мифических созданий, вблизи не менее загадочных, чем казалось из ложи. Девочка с трепетом наводила на них бинокль и обомлела от восторга, когда в антракте родители повели её за сцену.
Ступив на красный истоптанный палас артистического крыла, Соня крепко сжала мамину руку. Она испугалась.
Пахло пудрой, старым деревом; дорогими, требующими бережной чистки тканями и раритетным сукном, справиться с которым мог лишь диковинный, неповоротливый чугунный утюг.
Из гримёрных доносились смех и ругань, сочные шлепки; у кого-то упала и закатилась за тумбу помада с золотым вензелем, индульгирующим обладательнице все земные несовершенства лица. То тут, то там салютом выстреливал лак для волос, и неопытная гримерша ойкала, прихватив себе палец завивочными щипцами.
Мимо пронёсся табунок фей в напудренных париках, взмокших и разрумяненных. Их атласные корсажи вспыхивали, усыпанные разноцветными блёстками, а длинные невесомые юбки развевались, как хвосты тропических рыбок под водой. Шлейф одной из них задел Соню по щеке.
Гримёрка примы-балерины располагалась в конце коридора.
На белой, идеально выкрашенной двери висела табличка с фамилией, но Соня бы догадалась, кто за ней, безо всяких подсказок, не умея даже читать, распознала бы её и на ощупь. Это была единственная запертая дверь во всём крыле; если другие балерины свободно бегали из комнатки в комнатку и переодевались, ничуть не смущаясь, при настежь распахнутых дверях, то вход в покои примы был священен, и пересечь порог дозволялось немногим.
Идя вдоль стены, чтобы никому не мешать, они добрались до заветной гримёрки, и мама постучалась.
– Да-да! – раздалось за дверью.
В замочной скважине повернулся ключ, и какая-то немолодая женщина в очках, обвешанная катушками ниток, будто пулемётной лентой, впустила их внутрь.
Принцесса Аврора, поранившаяся роковым веретеном и уснувшая на целую сотню лет, сидела, вальяжно откинувшись, на бархатном стуле и, не отрываясь от зеркала, мазала шею кремом. Так же, не поворачивая головы, она поманила их жестом:
– Привет! Проходите скорей, – и, завинтив на баночке крышку, принялась промакивать излишки крема бумажной салфеткой.
Вместо богато расшитого, подобающего королевской особе наряда на ней была простая майка, завязанная спереди узлом, и разогревочные штаны с отвисшими коленками. Костюмерша, заперев за гостями дверь, ловко чинила оборки сказочного костюма прямо на манекене, несущем одноногий пост в углу.
Мама подтолкнула оробевшую Соню вперёд. Неуверенными ручонками девочка сжимала букет, не в силах сказать ни слова. Шуршание целлофановой обёртки и её взволнованное сопение рассмешило взрослых.
– Соня, ты, наверное, хочешь поздравить тётю с премьерой, – подсказала мама. – И вручить ей цветы.
– У Софьи тоже сегодня премьера, – поднялась принцесса со стула. – Она на балете впервые.
Глаза в пол-лица, обведённые чёрным, нависли над Соней. Нечеловеческие ресницы, похожие на мохнатых гусениц, создавали тень; зрачки под ними казались матовыми, поглощающими свет, сердца воздыхателей и маленьких девочек – целиком.
Заворожённая, она протянула красавице букет и смущённо спросила:
– А вы правда моя тётя?
«Десять минут до начала», – донеслось из ожившего динамика. Приглушённые звуки инструментов, вплетавшиеся в трансляцию, означали, что волхвы со смычками вернулись в оркестровую яму и держат высокий совет. «Посторонись!» – весело крикнули за дверью: по паласу, скрипя колесиками, ехала тяжёлая стойка с платьями.
– Тамара Львовна, – поторопила Аврора, подкрашивая губы точными мазками.
– Уже, уже.
Костюмерша уронила очки на цепочке, откусила нитку зубами и по-беличьи шустро спрятала концы в тюль.
– Пойдём, Соня, – позвала мама, обнявшись напоследок с сестрой. – Тёте пора переодеваться. Мы увидимся снова после спектакля и вместе поужинаем.
Соне тоже хотелось обнять принцессу, но было слишком страшно коснуться её; макушкой она пришлась бы ей по пояс разгоревочных штанов, подвернутых вниз, на бёдра.
Красавица, угадав её желание, нагнулась и поцеловала племянницу в щёку, щекотнув накладными ресницами.
– Мама, а я когда-нибудь стану принцессой? – с надеждой шепнула Соня, выходя в коридор.
Мама на секунду замешкалась с ответом.
Девочка обернулась, чтобы ещё раз увидеть Аврору вблизи: та разминалась, проверяя носки туфелек на устойчивость, и пристально вглядывалась в её тоненькие ножки в мультяшных колготках, пока закрывающаяся дверь не отсекла их друг от друга.
В простенке между гримёрными висели платья придворных дам. Рукава, обшитые золотой тесьмой, соседствовали с накрахмаленными нижними юбками. К стойке подбегали девушки в старинных головных уборах и нервно, наспех выискивали на вешалках каждая свой костюм, толкаясь локтями.
Папа ждал на лестнице, держась за перила и мечтая покурить. В царстве закулисья он чувствовал себя неловко. От расхаживавших в проёмах танцовщиков, облачённых в трико и полотенца, обёрнутые вокруг шеи, он тактично отводил глаза, лишь изредка неодобрительно покашливая.
– Ну что, нанесли визит спящей красавице? Как она там, громко храпит? – пошутил он, беря дочку за руку. – Пошли скорее, сейчас начнется. Сонька, а что это у тебя на щеке?
– Мона поцеловала, – ответила мама. – Я сотру, когда вернёмся в ложу.
– Напомадили ребёнка, – заворчал папа, спускаясь вниз по каменным ступенькам. – Стоило отпустить вас вдвоём, и вот уже испачкали мне кроху косметикой. Они-то ладно, что с них взять… Богема! Но ты почему не вмешалась?
Он ворчал до самого фойе, и когда они вошли в ложу, и когда пробирались к сиденьям. Их места были заняты самозванцами. В полумраке, под гаснущими люстрами, чужие затылки возвышались над спинками их кресел. Девочка возмутилась до глубины души.
– Извините, – склонилась мама к сидящим. – Это наши места. Будьте добры уступить.
Мамин спокойный тон отчего-то задел Соню. Провожая взглядом захватчиков, с позором покидавших ложу под шиканье театралов, она сжимала подлокотник кресла, напрочь забыв о торжестве справедливости.
Весь второй акт ей не удавалось сосредоточиться на спектакле, даже арендованный родителями бинокль не помог. Фокус её внимания сместился дальше, минуя сюжет, артистов и разворачивавшееся на сцене великолепие. Соню охватила тоска. Отвоёванное место утратило ценность. Она хлопала так, что отбила себе ладони, и навязчивая, пульсирующая в такт с аплодисментами идея пускала в её мозгу ядовитые корни: её законное место не в ложе, и вообще не в зрительном зале.
Об отпечатке помады у неё на щеке никто не вспомнил. Она стёрла его сама, нечаянно – часто дотрагивалась до лица в темноте.
Тётя то и дело наведывалась к её родителям в гости и приглашала их семью в театр.
Сонино любопытство невозможно было унять. Она повсюду совала нос: от цеха по изготовлению пуантов до репетиционного зала, где танцовщики занимались и разучивали новые партии.
Она наблюдала, как пожилой мастер с помощью резца и наждачной бумаги корректирует колодки примы с учётом того, как изменились её стопы за последние несколько лет. В зале, проветриваемом после экзерсиса, искала выемку от тётиной ладони на деревянном станке. Она подавала костюмерше Тамаре Львовне булавки и подмечала, как тётя разрешает гримёрше себе прислуживать.
– Мона, душа моя, лебедь моя колченогая! – врывался в уборную разъярённый премьер в облачении Ротбарта. – Шевели мослами, наш выход!
Полы его мантии развевались, открывая обтянутые чёрной лайкрой ноги – рельефные, поджарые – ноги языческого жреца в сезон беспощадных ритуальных бдений.
Он щурился на Соню, близоруко прижав накрашенное веко пальцем, и выдавал:
– И ты здесь, клоп?
Она, усвоив этикет артистов, почтительно делала реверанс, сгибая острые коленки. Ротбарт сгребал её в охапку, накрывал мантией и, лягнув дверь пяткой, утаскивал добычу по коридору, рыча на весь этаж:
– Ты разогрелась, косиножка?! Настал твой час блистать на сцене!
Мона семенила следом, поправляя корону чёрных перьев на голове.
Доставив Соню, как и грозился, к сцене, Ротбарт опускал её наземь возле осветительных приборов. К ним подскакивал помощник режиссёра с трясущимся подбородком и хрипел:
– С ума сошли! Где вас носит, полминуты до выхода!..
– Это она прокопалась, – закладывал премьер Мону, и они ругались шёпотом, обмениваясь щипками.
Соня, изнемогая от волнения, прислонялась к занавесу. Всё обрывалось у неё внутри, когда тётя и её партнёр с разбегу бросались под софиты, к беззвёздному пространству авансцены, поправ слабость, боль и земное притяжение. Крича им «Браво!» из первой кулисы, она ликовала, охваченная жаром. Безначальное солнце славы раскалённым прожектором восходило у неё за спиной.
Однажды тётя явилась без приглашения: отперла квартиру ключами, выпрошенными у консьержа, разулась в прихожей и заглянула в гостиную – боязливо, по-воровски, словно надеясь никого не обнаружить.
Соня в отсутствие родителей играла в куклы; обрадовавшись гостье, она осмелела и повисла у той на шее.
Мона ступила на ковёр босиком. Её холёные, отливающие розовым пятки и ногти без обуви и чулок казались вырезанными из воздушного суфле – ноги настоящей принцессы. Выпирающие косточки портили картину, но это из-за того, что тётя часто танцевала отрицательных героинь. У злодеек, пусть и прекрасных, непременно должен быть изъян.
– Хочешь поехать ко мне домой? – спросила тётя, одёргивая смявшуюся от Сониных объятий блузку.
– Да! – выпалила девочка. – Когда?
– Сейчас, – ответила тётя, выманивая её в прихожую.
Разбросанные на ковре игрушки она отодвинула в сторону ногой.
– Одевайся, – велела она, притормозив у настенного зеркала. У неё слегка покраснели веки и осыпалась тушь.
Вынув из косметички ватную палочку, Мона ликвидировала огрехи макияжа и помогла Соне зашнуровать ботинки. Она продела её застревающие ручонки в рукава курточки, натянула ей шапку на брови и, щёлкнув выключателем, вывела племянницу за порог.
– А что скажут родители? – опомнилась Соня, тщетно пытаясь допрыгнуть до кнопки вызова лифта. – Они разрешили?
Она с тревогой взглянула на тётю, вынимавшую ключ из скважины.
Связка звякнула у Моны в руке; подкинув ключи на ладони, она поймала их и сжала так, что побелели пальцы.
– Разрешили, – выговорила она. – Они отпустили тебя с ночёвкой.
…Повзрослев, Соня тысячу раз воскрешала в уме детали того визита; осмысляла увиденное; перекраивала полотно событий снова и снова, заменяя фрагменты, дорисовывая штрихи, но её детская память вылиняла, побелела, будто ветошь на солнце, и Соня билась над ней, как некромант-неудачник над трупом, так и не сумевшим породить ни вздохов, ни слёз.
Босые ступни Моны, их поражающая интимность – так дерзко, без стеснения, обнажить не просто часть тела, но драгоценный рабочий инструмент! А куклы, которых Соня не успела собрать: изящно отодвинув их с дороги, тётя заодно отодвинула Сонино детство.
Вдвоем на такси они ехали в её владения. Девочка прикорнула у тёти на плече, вдыхая изглаженный дневными заботами аромат её духов. Тени и свет встречных фар соскальзывали с лица Моны, сдуваемые сквозняком из окна пассажирского сиденья.
У себя Мона переоделась. Подол её летящей ночной сорочки был не плотнее дыма. Она накромсала племяннице фруктовый салат, ссыпала ингредиенты в фарфоровую супницу, включила смешное кино и разрешила не умываться на ночь.
Соня ждала, что тётя побудет с ней, но та прижалась ухом к радиотелефону и беспокойно ходила у себя по комнате, прикрывая рот ладонью и всхлипывая. Девочке она объяснила, что у неё ломит виски от тугого пучка, распустила волосы и стала похожа на исступлённую ведьму с поминутно искажающимся лицом.
Соня скисла. Словно бесполезную декоративную зверушку, её увезли из родной среды обитания и сунули в вольер, чтобы не обращать на неё внимания.
Она досмотрела кино, потихоньку разделась и устроилась спать на диван. Льняного пледа в мадрасскую клетку хватило спрятать её разочарование с головой.
Утром тётя принесла ей стакан апельсинового сока, погладила по свалявшимся за ночь косичкам и сказала:
– Соня, мне очень жаль. Родители за тобой не приедут. Они разбились вчера в аварии, возвращаясь с работы домой.
Моне пришлось вызвать доктора, чтобы тот сделал девочке успокоительный укол. Вертикальная ямочка у неё на подбородке дрожала, а в уголках губ залегла усталость – вполне земная, небалетная.
До шести вечера она находилась подле племянницы, то присаживаясь рядом на диван, то крутясь поблизости с какими-нибудь делами, как недавно окотившаяся кошка у коробки с котёнком. В шесть пятнадцать она решительно забрала у Сони тарелку с едва надкушенным в обед тостом и скомандовала:
– Софья, поднимайся! Мы идём в театр. Сегодня даём «Дочь фараона»: в роли Аспиччии ты меня ещё не видела.
На похоронах она, покорясь традиции, была вся в чёрном, но одежду подобрала дизайнерскую, со вкусом; не вздыхала, не плакала, не произносила речей. На незваных доброхотов шипела, отгоняя их от Сони. На поминках, в дамской комнате, нашарила в сумочке винтажный флакон и подушилась, остатками эссенции мазнув Соню за ухом.
Её привычка высоко держать голову возмущала собравшихся: они чаяли застать скорбящую сестру, но нарвались на Одиллию, заявившую на маленького гадкого утёнка свои права.
Участь Сони была решена задолго до катастрофы, в их первую встречу, когда тётя, испачкав помадой, миропомазала её.
Мона осматривала конечности племянницы сосредоточенно, с вивисекторским любопытством, словно препарируя лягушонка. Соне предстояло влиться в легион пажей, солдатиков, амуров и, вырастая, пополнить ряды ног – обезличенные ряды, на фоне которых порхает истинная звезда. Посвящённая в таинства театра, она заняла в нём скромное место авансом – где-то между бесхозной шайбой с вазелином и тряпичным цветком, пылящимся на подоконнике.
Балетный худрук, наткнувшись в кулисах на тихую девочку, созерцающую прогон, хохотнул:
– Так вот он, наш бессменный тайный зритель! Наслышан, наслышан, – он приосанился и, заговорщически подмигнув, понизил голос: – Признавайся, детка, чья ты?
– Я дочь труппы, – отозвалась Соня грустно. – Подвиньтесь, пожалуйста, вы мне загородили Жизель.
Дознавшись в итоге, чей подкидыш обитает в театре, он подкараулил приму после класса, вытирающую лоб и шею полотенцем.
– Голубка моя, нам надо кое-что обсудить, – начал он вкрадчиво, но она перебила:
– Я устала, и от меня уже не очень хорошо пахнет, так что давайте быстрее.
– Легко ли это для малышки – дни напролёт проводить в театре? Не лучше ли будет нанять няню? Чтобы присматривала за ней, пока ты занята. Гуляла бы на свежем воздухе, питалась вовремя, общалась со сверстниками, играла… ну, какие ей здесь развлечения? Одни взрослые, ругаются, курят…
– Софья – смышлёная девочка, за ней не нужен постоянный надзор. Она прекрасно воспитана и знает, что взрослым мешать нельзя. Когда я в работе, она в поле зрения Тамары Львовны, выполняет мелкие поручения и вместе с ней обедает. Мне ни разу на неё не жаловались!
– Я понимаю. Я в курсе твоей ситуации. Поверь, если дело в деньгах…
– Это здесь ни при чём! – вспылила Мона, комкая полотенце.
Она шмякнула бесформенный ком в рабочую сумку с пуантами, сняла гетры и собралась в душевую.
– Но ребёнок не может всё детство дышать сценической пылью! – догнал её впопыхах худрук.
Мона не сбавляла шаг; казалось, она на ходу обдумывает сказанное. Перед душевой она развернулась и холодно, чеканя каждое слово, ответила:
– Софья – не ребёнок. Она будущая артистка балета.
…И Соня послушно выбирала из контейнера одинаковый по длине стеклярус, похожий на жемчужные рисинки, сидя в швейной мастерской.
Иногда через рассохшиеся, шершавые от сора половицы шмыгал чёрный таракан.
«Видишь, детка, в театре даже тараканы носят фрак», – комментировала Тамара Львовна, бликуя очками. Она выполняла сложную вышивку на оперном камзоле тонкой гибкой иглой; точь-в-точь такую же загнал Моне в бедро дежурный врач в антракте, прямо через трико. Она выдержала укол молча, не мигая, а после спектакля закрылась в гримёрной и швырнула пуанты о стену.
Вскоре фамилия Моны исчезла из расписания очерёдности исполнения ролей.
Соня топталась у раздевалки, поджидая тётю. Она не понимала, как можно взять и вымарать человека из списка, оставив на его месте белую, воняющую канцелярской замазкой строку.
Коллеги преувеличенно бодро желали приме скорее вернуться к работе. Молодые солистки суеверно отводили глаза, кордебалет равнодушно возился у шкафчиков.
Высокий стройный мужчина нежно расцеловал Мону на улице и донес её сумку до такси; без грима он выглядел старше, и девочка не сразу узнала в нём премьера. Он галантно усадил их в машину и передал Моне отрывной листок с телефоном, шепнув: «Это один из лучших артрологов в стране. Сходи, не затягивай».
На Соню премьер привычно скосил глаз.
– Ещё увидимся, клоп, – предрёк он, легонько щёлкнув ее по носу на прощание.
Специалист в голубом халате рассматривал рентгеновские снимки Моны на свет, как кортадор, оценивающий качество мясной нарезки.
Она неторопливо листала журнал, ожидая вердикта.
Соня задрала ноги над кафельным полом, шурша бахилами. Едва уловимо пахло хлоркой. Больничного пола не хотелось касаться; девочка застыла, вцепившись в стул, с вытянутыми ногами.
– Софья, ты косолапишь, – заметила тётя, перелистывая страницу. – Будь добра, или выверни пятки вперёд, или опусти ноги.
Она выслушала приговор со спокойным лицом, поблагодарила за приём и окликнула племянницу.
– Я советую решаться в ближайшее время, – убеждал доктор, заполняя бумажки.
Ему явно жаль было заканчивать консультацию. Он принялся расписывать этапы лечения, но Мона встала, накинула ремешок от сумки на плечо и повторила:
– Спасибо, я поняла.
– Да что вы поняли, барышня, – вздохнул он ей вслед. – Показались для галочки, а поступите всё равно по-своему. Будете выступать на уколах до последнего, а потом инвалидная коляска…
Самая красивая женщина из тех, кто бывал у него в клинике, ускользнула. Соня думала, как ему обидно и странно, что напоминанием о Моне послужат лишь призрачные очертания рентгенограммы.
Достав их домашний телефон, доктор звонил неделями, то приглашая её на свидание, то уговаривая начать лечение; его звонки порядком надоели обеим. Соне вменялось в обязанность брать трубку и невинным голоском отшивать абонента, а тетя биржевыми жестами показывала, до которого часу она занята.
Азиз жалел невезучего соперника.
– Бедный доктор, извёлся весь… Может, послать ему билеты на твой спектакль?
– Человеку, грозившему мне инвалидной коляской?! Ни за что, – оскорбилась Мона.
– Что же ты собираешься делать дальше?
– Как – что? Дотанцую сезон.
Она смогла.
Тело слушалось её, следуя курсу, проложенному её волей. Мона выполняла лечебный класс вместо обычного, на репетициях проходила партию вполноги, посещала массажиста. Стоя в пачке над оркестровой ямой, она договаривалась с дирижёром о темпе вариаций, и тот, очарованный, черкал себе отметки в партитуре и целовал ей руку.
Ей по-прежнему требовались уколы: штатный медик за кулисами нёс караул с заранее набранным шприцем.
Солистка из второго состава, костюмированная и причёсанная так же, как Мона, с плохо скрываемой надеждой канифолила подошвы пуантов. Уязвлённая бушующими овациями, она вытягивала вперёд шею, словно выпь из камышей. Соня злорадно «пасла» её у задника сцены, в праздничном шерстяном платьице сливаясь с кирпичной стеной.
– Вечер впустую, – плюхалась дублёрша на обшитую тюлем гузку и развязывала тесёмки. – Хоть бы доплачивали за простой, ёлы-палы! Готовишься, готовишься…
– Уймись, лапуля, – осаживал её премьер. – Они пришли на Мону. Увидев тебя, они сбегут и потребуют деньги обратно.
Мона не ведала страха. Танцуя под дамокловым мечом, она срывала аплодисменты за каждый выход. Другие артисты на сцене переглядывались, вынужденные хранить неподижность, пока овации не стихнут. Она завершала карьеру на пике, вписанная в историю мирового балета золотыми буквами.
Она парила в прыжке, озаряемая вспышками из зрительного зала, и её божественное тело – тело-плётка, тело-жмых – разошлось на десятки тысяч отпечатанных копий, обретя бессмертие за вечер до списания в утиль.
В гримуборной Мона не спеша приняла душ, оделась, расчесала мокрые волосы. На ней была кожаная юбка до колен цвета запёкшейся крови и туфли с носами, как у цапли. Сценический макияж она стёрла лосьоном, заново подкрасила ресницы и напудрилась.
– Простите! – постучалась в дверь гримёрша. – Вы просили фен, я принесла!
– Спасибо, – откликнулась Мона, перекидывая влажные рыжие пряди за спину. На кремовой блузке темнели пятна от стекавших с волос капель. – Я передумала.
Труппа устроила в её честь прощальный приём. В дверь без конца царапались, барабанили, ломились. Резная металлическая ручка дергалась и подпрыгивала, снаружи отполированная прикосновениями, как чудотворная статуя святого.
Тётя впустила двоих: костюмершу Тамару Львовну и партнёра, с которым они, деля годами пот, кровь и травмы, сроднились, словно престарелые супруги.
– Твой спутник здесь, так что дай-ка обниму тебя, пока он не видит, – расчувствовался премьер, зарываясь носом в её остро пахнущий травяным шампунем пробор. – Достойно, девочка моя!
Он поздравлял её с триумфом, не отрываясь от её макушки, и обнимал одной рукой, другой безотчётно, до боли сжимая стебли бордовых роз.
У Тамары Львовны блестели глаза под очками. Она сердечно, по-матерински поцеловала Мону в лоб и подарила ей крохотную брошку-колибри из красного золота; Мона сразу приколола её на блузку.
– Наши уже чокаются шампанским, – хмыкнул премьер. – Лицемеры. Потирают ладошки, ждут тебя – убедиться, что ты и в самом деле уходишь. Прилипала из корды сейчас давала интервью журналистке: ныла, как труппе будет тебя не хватать. Прикинь, она осветлила волосы!
– Я не пойду, – отмахнулась Мона, напоследок наводя порядок на гримёрном столе.
Она протёрла поверхность влажной салфеткой, поправила флаконы и баночки у зеркала. Соне казалось, они отравлены, и тётя расставляет приманки для той, кто дерзнёт воспользоваться запасами соперницы. Смертельные притирания. Коллекция ядов.
В урну отправились невидимки и сеточка для пучка с запутавшимся медным волосом; на дне лежал смятый хитон и отклеенный с большого пальца пластырь. Держа в руках молочно-белые, подписанные на подкладке её именем пуанты, тётя помедлила, затем так же бросила их в урну. То была совсем новая пара, не изношенная.
С мокрой головой и охапкой цветов, в компании кавалера и племянницы, Мона гордо прошла через театральные коридоры, миновала служебный выход и села в машину Азиза, ни с кем не прощаясь. Репортёры, преследовавшие её с микрофонами и камерами до пассажирского сиденья, схлынули, как отлив, не добившись ни слова. Кто-то из труппы выскочил на мороз с бокалами, и за обнажёнными вечерними спинами мелькнула девушка в шоколадной юбке, слегка коротконогая, с неудачно осветлёнными, с крапом пёстрого цыплёнка волосами.
Азиз повёз их ужинать.
Зная, как не хочется его возлюбленной пристального внимания незнакомцев, он выбрал уютный ресторан домашней кухни за шестнадцать кварталов от театра, в малолюдном месте, с отдельными кабинками и мягкими диванами.
Настроение у Моны менялось с лихорадочного азарта на отрешённую, тягостную задумчивость – и обратно. Азиз ухаживал за ней: выкладывал ей на тарелку лакомые кусочки, читал восточные газели; для Сони аккуратно нарезал мясо и заказал разные сорта мороженого на десерт.
Он катал их по ночному городу и, припарковавшись у набережной, кормил апельсинами. Соне попался королёк, и ей свело челюсть. Азиз и тётя целовались, сидя на крыше машины, до четырёх утра. С плавучих яхт-ресторанов до них доносилась музыка и электрические всполохи разноцветных гирлянд.
Девочку разморило. Она уснула на заднем сиденьи, не дождавшись возвращения домой. Бордовые розы, связанные накрепко лентой, были погружены в плотный пластиковый пакет, наполненный водой и заклеенный скотчем. Лента впивалась в стебли, как гаррота; бутоны закрылись, и букет походил на принесённые в жертву сердца. Его поставили вертикально и пристегнули ремнём безопасности. Соня во сне касалась его плечом.
Под новый год до них дозвонился артролог.
Моне наскучило делать предпраздничную уборку; она бросила пыльную тряпку на подоконник и сняла трубку, не сверившись с определителем номера.
Соня раскладывала нарезанный Азизом сладкий перец на блюде кружочками, Азиз же, нацепив кружевной фартучек, обжаривал шипучий лук на сковородке; оба делали вид, что не прислушиваются к разговору. Голос по ту сторону провода умолял.
Тётя, закрыв нижнюю часть трубки, дала себе отсмеяться и сказала:
– Спасибо, теперь мне это не понадобится. Отныне меня будут носить на руках! – и они с Азизом счастливо переглянулись.
Цветы, подаренные Моне премьером, дневали и ночевали на полке в Сониной комнате. Девочка исправно меняла воду в вазе. Они простояли две недели и осыпались разом, будто отчаялись быть замеченными той, кому предназначались.
Поначалу Мона играючи окунулась в пену дней.
Хроническое театральное напряжение ушло вместе с изматывающей болью в бедре. Отпали сами собой ближайшие завистники, паразитирующие на чужом таланте, как рыбы-присоски на ките. Прогоны, примерки и подгонка костюмов; обмётка пятачков и пришивание лент к туфлям, и туфли, конвейером летящие на выброс; застарелые мозоли и лейкопластырь, срезать с пальцев который удавалось лишь японскими маникюрными ножницами с алмазной заточкой – всё таяло, обретя статус пережитого, и значимость пройденных испытаний уменьшалась с каждым новым спокойным днём.
Мона с удовольствием совершала покупки, баловала племянницу, принимала дорогие подарки и наотрез отказывалась давать интервью. О танцовщиках, перекочевавших из искусства на телевидение, она отзывалась с презрением. «Балерина, разевающая рот на ток-шоу – это позор», – говорила она.
Она неизменно выполняла по утрам облегчённый экзерсис у домашнего станка, дополняя его пилатесом и занятиями йогой три раза в неделю, подолгу гуляла с Соней в городских парках и у Азиза на даче, осваивала с ней начальную школьную программу.
Она увлечённо читала книги и смотрела кино, ранее недоступное из-за нехватки времени; посещала музейные выставки и светские мероприятия.
Страх возник позже, когда она поняла, что, отступив в тень, не застолбила после себя место. Отныне она не балерина – бывшая балерина, и её будущее на долгие годы вперёд определяют четыре буквы: тётя.
Весной у Сони выпал верхний молочный зуб, и она стала похожа на уличную шпану.
Из-за проблем с координацией она ходила в синяках и ссадинах, натыкаясь на все существующие в доме углы. По ночам её одолевали судороги икроножных мышц. Она просыпалась, крича от боли; тётя, вставая к ней порой по нескольку раз за ночь, решила разобраться с этим по-своему.
– Софья, с завтрашнего дня мы начинаем заниматься у станка. Осенью ты пойдёшь в первый класс и будешь посещать подготовительные занятия в училище.
Соня застыла с ложкой овсянки. Оказалось, у неё нет и не предполагалось права выбора. Жребий свершился без её ведома – ей трудно было поверить в такую несправедливость!..
Обойдя её, завтракающую, тётя взвесила на руке её волосы, скрутила их в гульку и прижала к голове. «Превосходно, – сказала она. – Твоя головка будто создана для пучка».
Соня пропустила фразу мимо ушей. Осознать, что тётя не шутит, ей пришлось, когда нанятые Моной рабочие приехали к ним устанавливать нижнюю перекладину для станка.
Сколько ненависти вместила в себя проклятая палка! Соня висла на ней всем туловищем, била по ней многотомными сборниками русской поэзии – напрасно: рабочие выполнили свою задачу на совесть.
Мона муштровала племянницу фанатично, шпигуя её балетными правилами, словно вживляя песчинки в нежное тельце моллюска – песчинки острые, как алмазная крошка. Сонины слёзы незаметно разъедали защитное покрытие станка.
В первый год работы в пуантах у Сони почернел и отвалился ноготь мизинца на правой ноге. Она заматывала ногтевое ложе стерильным бинтом и обклеивала сверху скотчем для скольжения.
Пальцы внутри тесной туфли складывались гармошкой. Хрупкие училищные невольницы страдали и пускали в раздевалке по кругу различные снадобья, призваные облегчить боль и быстро затянуть ранки.
– Засунуть бы Иде Павловне эти пуанты кое-куда, – ругалась девчонка с буйными «петухами» над самостоятельно собранным пучком – Амелия. – А завязки поджечь, как бикфордов шнур! Всё равно самые интересные роли достаются мужчинам, нафига нам так мучиться!
– А ты бы кого станцевала? – поинтересовалась Соня.
– Злодея! Злодеи классные. Мышиный король, Макбет, Ротбарт. Но нет, нам придется ишачить до седьмого пота, соревнуясь, кто больше скрутит фуэте, чтобы в итоге побыть третьесортной Жизелью или Джульеттой, о которых никто не вспомнит.
«Ты бы точно не стала третьесортной танцовщицей», – подумала Соня, и оказалась права.
Амелия первая стала выходить на сцену в массовке, первая получила эпизодические детские роли во взрослых спектаклях и исполнила сольную партию Мари в первом акте «Щелкунчика». Другие девочки и мальчики их класса танцевали детей на ёлке, а в сражении с мышиными полчищами – игрушечных солдатиков. Они выбегали и убегали со сцены, мельтеша перед зрителями, и, споткнись кто из них или напутай движения, никто и не заметил бы. Но к Амелии были прикованы взгляды.
В день премьеры только ленивый не подколол её.
Гримёрку для девочек выделили одну на девятерых; Амелия переодевалась и готовилась к выходу наравне с одноклассницами, у всех на виду красилась и прилаживала шиньон. Её глаза не выражали беспокойства – небольшие, широко посаженные, с густыми колючими ресницами, похожими на шипы крыжовника. Они вообще ничего не выражали, пока девчонки наперебой упражнялись в остроумии.
Минуты до поднятия занавеса истекали, насмешки усиливались. Амелия, комкая складку пышной юбки, прислушивалась к последним несвязным пассажам оркестра. Соня, которую сценические родители выводили из той же кулисы, украдкой взяла дебютантку за руку. Кисть Амелии, обтянутая невидимой перчаткой загара, с коротко обрезанными, овальной формы ногтями, дрожала. Она на секунду сжала руку Сони.
Ладошка Амелии была влажной.
Отыграла увертюра, начался балет. Праздник у бутафорской рождественской ёлки шел гладко: родители чинно разговаривали, крёстный чудил, дети хвастались друг перед другом игрушками из папье-маше.
Амелия уверенно держалась на пальцах. Танцуя безукоризненно, она попутно наделяла свою Мари такой нежностью и состраданием к нескладному деревянному человечку с перевязанной челюстью, что зрительный зал едва дышал, стараясь не упустить ни единого жеста. Трижды через сцену проносился её гадкий братец с саблей, сломавший Щелкунчика – верхом на лошадке на палочке, в окружении задир и хулиганов; трижды Амелия пряталась за ёлку, чтобы после возобновить вариацию. Она чисто скрутила двойной пируэт, вышла из него в арабеск на пальцах, опустилась… и упала. Рухнула на ровном месте.
Зал замер. Вариация кончилась. Амелия вскочила, прижимая к себе Щелкунчика.
Дирижёр, спасая положение, погнал действие дальше. Сцена вновь заполнилась танцовщиками, и балет продолжился. Зрители запоздало захлопали, стараясь поддержать солистку, но аплодисменты потонули в грянувшей музыке.
– Вот тебе и дебют, – хихикали девчонки, возвращаясь в гримёрку, на ходу расстёгивая мундиры и высвобождая вспотевшие головы из-под киверов на резинке.
– Сегодня взошла звезда Забелиной – знатно звезданулась!
– Пожелаем ей лажать в том же духе!
– Ха-ха-ха!..
Соня отстала – её унёс в разгар битвы взрослый артист-мышь, унёс за противоположную кулису. Чтобы присоединиться к своим, она обежала задник сцены с декорациями, а после второго выхода восстанавливала дыхание, морщась от колотья в боку.
Она сдала дежурившей костюмерше деревяшку с ремнём, выкрашенную под ружьё, отстегнула заколотый невидимками кивер, сняла мундир. Ей не хотелось идти в гримёрную и быть свидетельницей того, как из дружных, одарённых, приветливых в обычной жизни девочек прёт, клокоча, жгучая, чёрная зависть.
В антракте в артистических зашумели, женская половина уборных превратилась в муравейник.
Амелия не появилась. Её рюкзак и одежда висели на спинке стула, а ботинки виновато выглядывали из-под батареи, принимая, словно два самурая, обрушившийся на их госпожу позор.
Одноклассницы поспешно собирались: кого-то из них забирали родители, уже привыкшие смотреть по полспектакля за вечер, кто-то кучкой добирался в поздний час домой на метро. За Амелией обещала приехать старшая сестра со смены: работая в ночном клубе барменом, она бы едва успела к концу второго акта, когда Мари просыпалась у ёлки под занавес.
Шелестели пакеты с бутербродами, застёгивались молнии на ранцах. Девчонки злословили даже с набитыми едой ртами.
– Небось, худрук её задержал. Отчитывает.
– Завтра ещё от Иды Павловны влетит перед классом…
– Думаете, заменят?
– Ага, мечтай! Амелия у неё в любимчиках. Поорёт для вида, погоняет на репетициях, и снова в строй.
Юные балерины отчаливали. Соня сделала вид, что у неё зачесался глаз, и старательно заводила ватным диском по лицу.
Ей не нравился сценический макияж, не нравилось красить губы и рисовать стрелки на веках. Иногда одноклассницы помогали ей, но чаще она вынуждена была сама, ругаясь, чернить карандашом ресничную линию. Стрелки получались кривые. Соня ломала мягкий грифель карандаша, тёрла художества влажной салфеткой. Окружающие смеялись.
Девчонки разъезжались по домам в гриме, стремясь сохранить магию сцены вплоть до ежевечернего душа. Соне тётя презентовала бутылёк французского молочка для эффективного демакияжа, но она так неистово драила кожу, что казалось, будто её возили лицом об стиральную доску.
У неё всегда выпадала одна-две реснички при смывании туши. Попав в глаз вместе с молочком, ресница раздражала слизистую. Соня, шипя, выковыривала её платочком, придвинувшись к зеркалу.
Поглощённая неприятным занятием, она вздрогнула, услышав позади:
– Что, никак? – и стукнулась о зеркало лбом.
Амелия с припухшим, блестящим от слёз носом изучала её отражение, выглядывая из-за плеча.
– Развернись-ка, – скомандовала она Соне, выхватывая из косметички ватную палочку и занося её над лицом подруги. Большим пальцем она оттянула ей веко вниз и осторожно подула внутрь.
– Глазное яблоко мне не высади, – буркнула Соня, жалея, что поддалась.
– Не дёргайся.
Амелия смачно послюнила инструмент. Поддев и вытянув наружу ресницу, она смахнула её со щеки подопытной слюнявым концом ватки:
– Не хочешь загадать желание?
– Амелия, фу!..
– Как хочешь, – дебютантка подцепила ресничку подушечкой указательного пальца, наклонилась, что-то задумала и сдула её прочь.
Соня выбросила в мусорку испачканные тональным кремом салфетки, мельком глянула на себя в трюмо и накрепко завинтила крышку у флакона. Краснота спала. Её лицо выглядело бледнее, чем утром.
– Несправедливо это, – Амелия со вздохом облокотилась на стол. – Рыжая ты, а веснушки у меня.
– Нормальные веснушки.
– Ты про россыпь мушиных какашек у меня на переносице?
Амелия высморкалась, скатала бумажный платочек в комок и запустила снарядом в подругу.
– У, гадость!..
Соня увернулась. Летящий ком задел её по касательной и упал на ковёр.
– Я это поднимать не буду.
– Я и не просила, – огрызнулась Амелия, доставая из упаковки новый. Она помусолила уголок, разделила его на два слоя и шепнула: – Ужасно, да? Я специально ждала, когда девчонки уйдут. Я знаю, они радовались – слышала их болтовню в коридоре.
– Где же ты была?
– В туалете, в ближней кабинке. Оттуда всё прекрасно слышно.
Соня молчала. Нужно было идти, чтобы не злить тётю, а Амелии предстояло коротать время до финала в опустевшей гримёрке, один на один со своим падением.
«И еда у неё ещё днём закончилась. Будет сидеть голодная», – подумала Соня, вынимая из рюкзака остатки салата в контейнере и полтора хлебца с сыром, а вслух сказала:
– Держи, твоя сестра не скоро придёт.
– Чего-о? – надулась дебютантка, потыкав в угощение ватной палочкой. – Что это ты мне подсовываешь? Где мои пирожные, женщина?!
– Офигеть ты наглая! – вспыхнула Соня, продевая руки в лямки. – Контейнер вернёшь завтра!
Она вылетела из гримёрки пулей и понеслась по коридору к выходу. На подступе к лестнице её настиг негодующий вопль: «Где пирожные, со сгущёнкой?!»
Наутро перед экзерсисом, ровно в девять часов Ида Павловна вошла в зал.
Девочки притихли. Амелия, предчувствуя выволочку, мужественно расправила плечи. Выражение лица Иды Павловны было нечитаемо.
Педагог обвела учениц глазами.
– Упала? Поднялась и танцуешь дальше. Всех касается.
Она дала концертмейстеру знак играть.
– Встали! Поклон.
В восьмом классе у Амелии появился модный прозрачный зонт, горчичный свитер тонкой ручной вязки и неоновая помада, которой она изводила школьных учителей. Кончики волос она выкрасила оттеночным бальзамом в бирюзовый цвет. Убрав пряди в пучок, она избавлялась от улик, но стоило Амелии распустить волосы, и она превращалась в русалку.
Балетные ребята посматривали на неё украдкой со смесью затаённого восхищения и страха. Она не скупилась на острое словцо и тумаки, если ей что-то не нравилось, и охотно вступалась за одноклассниц, когда мальчишки обступали их с улюлюканьем, сами не понимая, хотят ли они поддразнить их или пофлиртовать.
Подрастающие девчонки чаще застревали у зеркала, замазывая прыщики столь же тщательно, сколь благородные средневековые дамы – оспины. Соня тоже попала под раздачу: целую неделю у неё на лбу красовался бубон размером с промышленный вентилятор.
Амелию поветрие обошло стороной. Она кидалась с кулаками на парней, называвших Соню индуской, но давилась от хохота, по утрам приветствуя подругу словами: «А во лбу звезда горит!»
Они готовили вместе домашние задания, играли на полу в раздевалке в припрятанные от балетного завхоза картишки; теснясь в кулисах, трактовали позы разогревающихся балерин и угрожающие разговоры тел. Ступня, развёрнутая в сторону конкурентки и поставленная на носок – «Я тебя раздавлю». Нарочито вывернутая пяткой наружу – «Тебе со мной не сравниться». Рука, упёртая в бок – «Меня не запугать». Демонстративное подтягивание гетр – «Я возьму своё по праву».
Амелия не признавала соперничества. Она была выше этого. Подшивая к балеткам ленточки вместо клевания носом на уроке химии, она рассуждала:
– В каждом изначально заложен некий потенциал дерьма. Кто-то выходит в ноль, проживая жизнь честно, кто-то приумножает.
– А мы?
– Мы прячемся за кулисами.
Она отрезала нитку, втыкала иглу в катушку и, посасывая уколотый палец, досадовала:
– Жаль, канифоли, чтобы притереться к жизни, не существует.
Прощаясь после занятий, Амелия густо мазала губы цветным бальзамом и оставляла след на щеке подруги. Как Мона. Соне становилось не по себе. Впрыгнув в вагон метро, она вынимала складное зеркальце и смазывала непрошенную печать отличия, покуда суровые боги танца не отняли силы у Амелии и не прибавили их ей.
Идя по стопам тёти, Соня знала: она – фигляр; хамелеон, способный лишь повторять и притворяться. Мона готовила племянницу под себя, как готовят мумию для загробной жизни; как избранное тело для реинкарнации, а для этого сперва полагается изгнать душу носителя. Соня – её глиняный голем, её аватар. Смоляное чучелко, которое оживёт, став частью балетной труппы.
Под гнетом возложенной миссии она училась, переходила в старшие классы; работала до изнеможения у станка, выходила на сцену; скучала по Азизу, дружила с Амелией, а в груди у неё разрастался айсберг.
– Подожди, вот когда влюбишься, мир заиграет новыми красками, – подбадривала её Амелия, выжимая трико над раковиной.
Она стирала форму между занятиями, завернувшись в пыльный гимнастический коврик. На внутренней поверхности бёдер ее кожи не касался загар – как у оленя.
– Ошибаешься, – отвечала Соня. – Со мной подобного не случится. Мне не из чего генерировать любовь.
К десятому классу в шкафу раздевалки висело пять репетиционных шопенок из девяти, разной степени застиранности. Места стало больше, смеха и разговоров меньше. У Сони трижды за год наступали женские дни, но так неудачно, что выпадали на репетиции. Приходилось заниматься в чёрных шортиках поверх купальника; все видели и понимали, почему, и от стыда она мечтала самовозгореться посреди зала, и чтобы никто не смог её потушить.
Ложась спать, она приподнимала голову и смотрела на свой живот. Ей чудилось стадо коров, горестно бредущих через его впалые очертания. Голодные стада, голодные годы.
Соне снились танцовщицы, пойманные в канифольные крупинки, как жуки в янтарь.
***
Субботним утром лимонные джинсы Моны прошествовали в комнату Сони и плавно опустились к ней на кровать.
– Тётя?..
Девочка высунулась из-под одеяла, силясь придать лицу осмысленное выражение. От неудобной ночной позы (спать пришлось на животе, носом в подушку) ломило тело, а в шее болезненно стрельнуло при повороте головы.
– Почему не в училище? – каблук левой ноги требовательно застучал по паркету.
Соня, кряхтя, повернулась на бок.
Вечернее лиловое платье, побывавшее на четверговом приёме и притворявшееся второй кожей Моны, зацепилось вешалкой за дверной косяк, просвечивая сквозь фирменный, пахнущий дорогой химчисткой чехол. На тёте была голубая мужская сорочка навыпуск с закатанными по локоть рукавами, а лимонные джинсы опоясывал крокодиловый ремень. Уголки губ сигнализировали о кислом настроении их обладательницы, словно прошлой ночью ей довелось отведать ломтик месяца на десерт на золотой тарелке – и она не впечатлилась.
– Я упала с поддержки, и Галина Викторовна разрешила пропустить сегодня класс.
– И ты не пошла? – тёмно-рыжие брови Моны, удлинённые и оттенённые карандашом, приняли хищную стойку над переносицей. Под её глазами залёг едва уловимый намёк на синеву.
Орда мурашек бросилась врассыпную по Сониной спине. Она откинула волосы с лица – подсушенные после вечернего душа полотенцем и распущенные, к неудовольствию тёти, и, принуждая пересохший язык подчиниться, ответила:
– Не пошла.
– Несмотря на прогон? – повысила голос Мона.
– Ты видела мою спину?.. – начала Соня, но тётя перешла на крик:
– Ты не пошла в училище, несмотря на прогон с артистами балета?!
– Да я во втором составе, господи! – взорвалась Соня. – Во втором составе!.. Моё отсутствие ничего не меняет! Я – страховочное тело для солистки! Может, я вообще не выйду на сцену в этой роли, и что? По-твоему, я могу прыгнуть выше головы?! – она смела с письменного стола рабочую тетрадь по биологии и, хлюпая носом, босиком отправилась в ванную. Тетрадь взлетела, расправив страницы, и шлёпнулась на паркет дохлой курицей.
Поссорившись с тётей, Соня закрывалась в ванной и чистила зубы до кровавых дёсен. Мятная паста приносила облегчение, будто бы, пенясь во рту, она заодно остужала голову, но ненадолго. Измочалив щётку, девочка садилась на край ванны и водила пальцем по стыкам между малахитовой плиткой на стене. Зелёная прохлада стен проецировалась внутрь души. Соня вспоминала какую-нибудь ерунду, вроде татушки, сделанной Амелией летом и торчащей у неё из-под лифчика сбоку, на рёбрах, и остывала. Покончив с ритуалом, она закрывала кран и выходила наружу спокойная, с восстановленным к сосуществованию с тётей иммунитетом.
Она расстегнула пижаму, чтобы рассмотреть спину, но ткань частично присохла к ссадинам. Через хлопковую рубашку кое-где просочилась сукровица. Выглядело хуже, чем накануне: добавились наливающиеся синяки и крапинки полопавшихся сосудов.
– Софья, открой дверь, – постучалась тётя.
– Уйди, пожалуйста! – простонала Соня в раковину. – Позже поговорим, я занята!
– Открой, я помогу тебе обработать ушиб.
В интонации тёти послышалась тревога. Соня, скрепя сердце, повернула ручку.
– У меня есть отличный заживляющий крем, – сообщила Мона, ворвавшись в ванную и распахивая зеркальный шкафчик. Она перебрала выставленные на полках тюбики, перетряхнула полупустые пузырьки с витаминными капсулами и вытащила с верхней полки невзрачную тубу с плохо различимыми, поблекшими от частого использования надписями.
– Контрафакт, – пояснила она, захлопывая шкафчик. Из Сониных вещей в нём была лишь зубная щётка в стакане да упаковка пасты.
Тётя перекинула волосы племянницы вперёд, на грудь, и выдавила из тубы плотную оранжевую субстанцию с резким запахом чеснока.
– Рубашку долой, – скомандовала она.
Соня избегала встречаться с ней глазами в зеркале. Она стыдилась прикосновений, стыдилась стоять перед тётей по пояс обнажённой, прикрываясь руками и пижамной кофтой. Мона втирала мазь с нажимом, сдирая мелкие корочки, но Соня не смела и пикнуть. Ей казалось, тётя изучает её, сверлит взглядом, оценивая её не как танцовщицу в оптимальной физической форме, а как настоящая женщина оценивает женщину будущую, ещё не до конца сформировавшуюся, просчитывая потенциальные риски и потери. Мона хотела контролировать всё, включая её месячный цикл.
– Пижамную рубашку в стирку, надень дома какую-нибудь ветошь, – распорядилась она, намыливая жирные от мази руки. – И поставь чайник, будем завтракать.
«Ветошь, – думала Соня, придерживая рукой спадающие пижамные штаны. – Как будто она позволит мне заносить что-то до дыр, и тем более, что-то, что может мне нравиться!»
Проходя мимо тётиной комнаты, она услышала, как на тахте, выпавший из сумочки, звонит без перерыва мобильный телефон.
Она завернула к себе, выдвинула из шкафа ящик с нижним бельём и покопалась на дне. Под сложенными стопкой майками лежал полароидный снимок. На нём Амелия в белом платьице, с выбивающимися из кос волосками роняла Соне на ногу подтаявшее эскимо. Обе на фото получились с закрытыми глазами и одинаково сердитыми лицами. Надпись, сделанная на обороте фломастером, расплылась, как мороженое по новенькой сандалии. «Не кисни, Сонька! Чмок».
Звонок всё не смолкал. Соне стало неуютно. Звонящий словно догадывался, что его игнорируют намеренно.
– Тётя, мобильный! – выкрикнула девочка в коридор.
– Пусть звонит, я отвечу позже.
Спрятав снимок поглубже в ящик, Соня натянула первую попавшуюся футболку.
– Ты, конечно, ничего не купила себе поесть, – донеслось из кухни. Дверца холодильника захлопнулась. Каблуки процокали в прихожую и затихли; тётя переобулась в удобные замшевые ботинки, сняла с вешалки пальто и, выходя за порог, бросила:
– Скоро вернусь.
Как только сомкнулись створки лифта, уносящего тётю вниз, Соня отпрянула от дверного глазка. Дурное предчувствие подсказывало ей взять телефон и проверить, кто терроризирует его владелицу звонками.
Дождавшись, когда мелодия оборвётся, она подкралась к тахте. «8 пропущенных звонков. Говард», – высветилось на экране. Телефон погас, и Соня собралась положить его обратно, но дурацкая трубка вдруг снова ожила и квакнула.
Одно новое сообщение от Говарда. Оно начиналось словами: «Как там Со…»
Амелия бы сказала, присвистнув: «Обложили тебя, детка, со всех сторон».
Тётя принесла из магазина свежий хлеб, упаковку масла, оливки, пучок зелени и маленькую баночку земляничного джема. Соня налила себе пустой кофе и устроилась за столом спиной к окну.
– И как же ты упала? – нарушила тишину Мона, загружая квадратные хлебные ломтики в тостер.
– Ты ведь уже знаешь подробности, – подала голос Соня.
Она постаралась сказать это нейтральным тоном, как можно более равнодушно, но зарождающаяся внутри ярость предательски полыхнула на подступе к горлу. Электрические искры пронзили кухонный воздух; Мона не могла не почувствовать их затылком.
Она развернулась, держа нож в руке. В другой руке у неё была вскрытая пачка сливочного масла.
Нечто в её глазах посеяло в Соне панику. Она крепче сжала ручку кофейной чашки, допуская, что ей, возможно, придется выплеснуть кипяток тетё в лицо, если понадобится. Сама мысль об экстремальной самозащите казалась столь дикой, что Соня отбросила всякий анализ. Она смотрела тёте в глаза. Тело, готовое обороняться, гудело в ожидании импульса.
Воцарилось молчание.
Движение тётиных пальцев на рукоятке ножа напоминало крыло летучей мыши. Что-то блеснуло под лезвием из нержавеющей стали; Сонино внимание привлёк крупный изумруд на безымянном пальце тёти. Прежде она его никогда не видела.
Дзынькнул тостер, взметнув вверх два зеркально подрумяненных пшеничных ломтика. Мона неторопливо переложила их на тарелку, намазала один тост маслом и подала племяннице:
– Ешь, Софья. Витамины A и E. Полезно для кожи.
«Красивые женщины покупают красивые вещи, чтобы их с них красиво снимали», – думала Соня, уныло взирая на манекены.
Долготерпеливый консультант с густой эспаньолкой и бирюзовой серьгой в ушном хряще выныривал то с одного края кронштейна, то с другого, как сова из дупла.
Если бы не джинсы, ковбойка и ботинки с наплевательски волочащимися по полу шнурками, он был бы похож на индейского колдуна, промышлявшего врачеванием тел и душ в джунглях Юкатана задолго до вторжения Кортеса. Его демоническая проворность заставляла девочку чувствовать себя куском проржавевшей арматуры, торчащим посреди торгового зала.
Улыбался он только пробегающим мимо детям и Соне.
Пока его напарник, погребённый под ворохом одежды, перемещался, пыхтя, по пронумерованным примерочным кабинкам, консультант, беспечно насвистывая, виртуозно создавал видимость рабочего процесса. Он складывал маечки стопками, сворачивал рукава и штанины, потом оглядывался, ерошил волосы и с лёгкостью вошедшего в моду художника переделывал заново.
Когда Мона удалилась за шторку, поручив племяннице выбрать что-нибудь самостоятельно, он не встал у Сони над душой, а любопытной птичкой порхал поблизости. Иногда он прикладывал к себе ту или иную модель из женской коллекции и одними губами спрашивал: «Может, маечку с улыбающейся какашкой? Или кактус, показывающий средний палец? Нет? Ну, нет так нет, guapa!»
– Хорош выделываться, – плюхнул на свежесложенные футболки кипу перемерянных одёжек его напарник. – Помочь мне не хочешь?
– Неа, – жизнерадостно отозвался консультант, с опаской поглядывая в сторону кабинок. – Боюсь я женщин. Злые они!..
Будто в подтверждение его слов, Мона вышла из примерочной, решительным жестом пресекла попытку консультанта угодить ей и обратилась к Соне:
– Швы лезут. Нитки гнилые! Идём.
Она миновала противокражные рамки и огляделась вокруг, намечая следующий объект для рейда.
Поход с ней по магазинам ради обновления гардероба был для Сони пыткой. Тётя наказывала ее за пропуск занятий в училище – вполне законный пропуск.
Попав несколько лет назад под машину, она уже неделю спустя выполняла экзерсис – прихрамывая, с тугим голеностопным бандажом поверх трико. Параллельно с болью её пронзали короткие вспышки жалости к самой себе: если она умрёт, тётя будет сожалеть о потере выпестованной ею преемницы – и только.
Соня виновато прошмыгнула мимо консультантов и поплелась за тётей измученным пажом.
Когда исчезнут красные флажки, которыми её обложили, и исчезнут ли?
Свались на неё негаданная свобода, как она поступит с ней?
Она представила, как возвращается после работы одна в съёмную комнатушку, садится на раскладной диван и сидит, не двигаясь, с выключенным светом, пока не наступает время идти в душ и спать. Нет аппетита, нет желания что-либо делать, даже дышать она не стала бы, если бы не жизненная необходимость.
Визуальная утрата признаков витальности. Отмирание чувств. Остановка мысли, безнадобность речи. Загробное измерение; Сидпа Бардо; пространство, где нет надежды для тех, кто был при жизни ходячим мертвецом.
Мона уверенно прокладывала дорогу через толпу, помахивая бумажными пакетами, нанизанными на руку. В сумочке, почти разрядившись, хрипел мобильный телефон. Соня цеплялась, как за маяк, глазами за её нежный затылок с подколотыми вверх волосами, заканчивающимися на шее тонким пушком.
Посещали ли Мону подобные мысли на финальном витке карьеры, при постановке диагноза, или раньше? И если да, то не стала ли она для тёти, в некотором роде, спасением?..
– У тебя совсем нет приличного белья, – заявила Мона, толкая вращающуюся дверь.
Соня вклинилась в ускользающую створку и взбунтовалась.
По крайней мере, ей разрешалось носить удобные вещи – неброские, однотонные – рекомендованные придворной камеристке для облачения в присутствии королевы. Бельё она любила под стать – телесное, без девчоночьих финтифлюшек, даже бантики, пришиваемые производителями повсеместно, отпарывала; невзрачное бельё, достойное послушницы, на которое не посмотрят, а взглянув, не заострят внимания.
– Пора научиться одеваться изящно, – наставляла тётя, беря племянницу под локоток и ведя её вдоль разномастного модельного ряда. – Нужно уметь производить приятное впечатление на окружающих.
– Я думала, что должна произвести впечатление на руководство театра, а им без разницы, как я одета вне репетиционного зала.
Трудно было определить, расстроил или обрадовал Мону её ответ.
Она сняла с крутящейся стойки пластмассовую вешалку и приложила к Соне.
– Неужели?
Соня поёжилась. Тётино «неужели», словно нож, приставленный к рёбрам, лишал её путей к отступлению. Сколько таких ножей торчало в ней с детства, роднящих её с дикобразом – одному богу ведомо, она уже потеряла им счёт; поэтому, когда кто-то был добр к ней, у неё внутри выбивало пробки.
– Вот неплохой комплект, – Мона надела вешалку ей на шею. – Италия. Прошлый сезон, со скидкой, но качество отменное. Иди примерь.
Кружево. Винное, на бледно-лиловом фоне, похожее на сеть кровеносных сосудов, сплетенных хирургическими канюлями в фантастический узор.
– Терпеть не могу кружево, – запротестовала Соня.
– Напрасно. Кружево подчёркивает хрупкость и женственность, но лишь на юных девушках, как ты. Не каждая может себе его позволить.
– Это точно шилось для подростков? – упиралась Соня. – Если да, то дизайнеров нужно посадить в тюрьму.
– Софья…
– Извращение какое-то.
– Софья…
– Фу.
– Софья, не испытывай моё терпение!
Раздражённый тон Моны заставил работников магазина, находящихся поблизости, с интересом прислушаться.
– Живо в примерочную. У тебя пять минут!
«Гнусные тряпки, – ругалась про себя девочка, задёргивая пыльную, в пол, штору в каморке для переодеваний. – Маркиза де Помпадур – и та бы смутилась, увидев такое!»
Она с отвращением подвесила комплект на настенный крюк, присела на кожаный пуф и взялась за ботинок. Заляпанное чужими пальцами зеркало отражало её скепсис.
Вдруг штора колыхнулась, и почти над ухом прозвучал мужской голос:
– Девушка, вам помочь?
– Нет! – крикнула Соня испуганно, готовясь запустить в невидимого интересанта ботинком.
Хорошо, что она не успела раздеться. Штора снова шевельнулась; внутрь, ощупывая воздух, залезла рука.
Соня отпрянула к задней стене, и тут раздался звук пинка, сдавленное оханье, и голос тёти рявкнул на весь магазин:
– Это чёрт знает что! Охрана!
– Дамочка, что вы себе позволяете?! Я работник зала. Ой!..
Ещё пинок.
С разных концов павильона к примерочным поспешили ноги в обуви на плоском ходу – персоналу не нужен скандал в разгар рабочего дня.
Соня выглянула наружу.
Мона, удерживая поганца за воротник униформы, гневно объясняла сбежавшимся суть претензий. У пойманного слезились глаза, хаотично метаясь туда-сюда под мясистыми, бесформенно обросшими надбровными дугами. Нос был мелковат, скошен, будто подрублен снизу, подбородок повторял линию низкого лба. Шея, в противовес голове, тощая, вся в красных пупырышках и сизых точках от бритья. Имя на бейдже Соня не разглядела.
Сотрудник магазина женского белья усиленно потел и отбивался от обвинений, то пряча руки за спиной, то пытаясь вырваться из цепкой хватки Моны. Та, туго скрутив ворот его рубашки, ударяла его ребром стопы по щиколотке.
Зная, какая сила заложена в её ногах, Соня представила, насколько болезненным выходил пинок, даже смягченный её замшевым ботинком и джинсами негодяя.
Немногочисленные посетители, отложив сравнение фасонов и расцветок, тянулись к месту разборок. Элегантно одетая дама с уложенными ракушкой волосами узнала Мону, и это придало делу ускоренный ход.
– Девушка, он лез к вам в примерочную? – уточнил у Сони управляющий, разминая узловатой щепотью покрасневшую от очков переносицу.
– Да, – подтвердила она. – Я очень испугалась.
– Всё ясно, – подытожил управляющий. – Мы приносим свои извинения за этот позорный инцидент. Любое понравившееся изделие вы получите в подарок.
Мерзавца увели в служебное помещение с охраной. Покупатели, удовлетворив любопытство, снова разбрелись по периметру, прицениваясь и негромко обсуждая произошедшее.
Мона достала из сумочки дезинфицирующий гель и тщательно, с достоинством обработала руки.
– Ты в порядке? – спросила она племянницу и, получив утвердительный ответ, посуровела:
– Отлично. Случившееся не освобождает тебя от примерки. Вперёд!
«Тоска», – вздохнула Соня, по-новой отгораживаясь шторой от мира.
Кружевные чашечки с поролоном, висящие на стене, напоминали вырезанную и раскрашенную на тотемном столбе устрашающую рожу: бюстье – глаза, трусы – ухмыляющийся рот.
Девочка отчаянно зевнула, потягиваясь, и запрокинула голову вверх.
Под потолком, маскируясь под осиный улей, притаилось недремлющее око видеокамеры. «Видеонаблюдение в примерочных ведется для вашей безопасности», – сообщал отпечатанный на принтере листок формата А5, криво насаженный на двусторонний скотч.
– Да вы издеваетесь! – прошипела Соня, сверля глазами камеру. – Ни. За. Что.
Она села на пуф, скрестив ноги, и приготовилась выждать положенное время в каморке, чтобы потом убедительно выпорхнуть наружу вместе с вешалкой и сказать, что ей не подошло.
Блуждая взглядом по лабиринту кружева, она вспоминала другое, сокровенное, оттенка пуха фламинго, лепестков незабудки, подшляпных пластинок несъедобных грибов, притворяющихся безобидными.
Десятый класс.
Первое сентября пришлось на пятницу; первое после каникул балетное занятие должно было состояться в субботу.
Отвыкшие рано вставать, они слушали классную руководительницу, развалившись на партах.
С торжественной частью разделались быстро. Цветы собрали в общую вазу на учительском столе. Часть конфет открыли, часть перекочевала в ящик к мелкам и линейкам, чтобы в конце дня подсластить застолье в учительской.
Классная руководительница включила электрический чайник в розетку и вынула из тумбы со свёрнутыми мировыми картами пластиковые стаканы. «Попьём чаю с конфетками», – предложила она и сразу, не меняя тона, стала описывать школьную программу и экзамены, предстоящие им в новом учебном году. От слова «учебный» Соню совсем разморило.
Одноклассники обменивались ленивыми подколами. Парни вытянулись, посмуглели; девчонки подкрасились, кое-кто накрутил локоны. Оделись все по-летнему легко, и трудно было поверить, что началась осень, когда солнце так пекло, вливаясь в распахнутое окно.
Амелия побывала летом на море со старшей сестрой. Её кожа отливала бронзой, а волосы местами выгорели добела и стали жёсткими.
Они с Соней сидели за одной партой, и её окрепшее предплечье, вобравшее соль прибрежного морского воздуха, прожигало Соню насквозь.
Столько всего хотелось рассказать ей: что большую половину лета она проторчала в городе, глотая с балкона пыль и тополиные ошмётки, пока тётя заново открывала для себя Европу, звоня раз в неделю сообщить, что перевела деньги; что по ночам ей было страшно одной в квартире, и она передвигалась по дому по-пластунски, при наглухо занавешенных окнах, заколотых для надёжности на прищепку; что когда она ходила в соседний квартал выбирать арбуз, за ней увязались придурки, назвавшиеся репортёрами, и она, отказавшись сплетничать о тёте, подверглась угрозам и оскорблениям, и убегала от них дворами, бросив расколотый об асфальт арбуз гнить на солнце, будто боевого товарища с пробитой в разгар вражеской атаки головой, зная, что ему уже ничем нельзя помочь; и как, нежась в ванне, вдруг заметила в воде кровавые разводы и закричала от неожиданности, выскочив в облаке пены на вязаный коврик; как униженно рылась на тётиных полках, зажав случайную тряпицу между ног; как тётя, выслушав по телефону её истерику, метнула в неё из знойной Италии «поздравляю» ядовитым дротиком и чокнулась с кем-то бокалом над трубкой; и что она самой себе отвратительна и никогда, никогда в жизни больше не будет принимать ванну.
Амелия щёлкнула пузырьком жвачки возле её уха и шепнула: «Песок из головы я, наверное, ещё неделю буду вытряхивать!»
В субботу они, не сговариваясь, приехали раньше всех.
Амелии доверили ключ от раздевалки, который она должна была сдавать в балетную канцелярию в конце недели и получать утром понедельника.
«5 этаж, женск.» – нацарапали на картонке карандашом. Амелия обвела надпись синей ручкой и вставила картонку в грошовую пластиковую бирку, но разница поражала: тусклый ключ, покрытый ржавчиной, из казённого стал домашним, и даже потеплел в ладони.
– Мы проводим здесь больше времени, чем дома, – пояснила Амелия. – Это и есть наш дом.
Начали переодеваться, запершись, по обыкновению, на два оборота. Разговор не клеился: обе не выспались, полночи проворочавшись и переживая. К обеим пришло понимание необратимости времени, а значит, и подстерегающая вдали угроза расставания с лучшей подругой. У Сони, засыпавшей на боку, слёзы текли через переносицу вниз и затекали в другой глаз, прежде чем впитаться в наволочку.
– По ночам у меня зудят губы, – пожаловалась Амелия.
– К поцелуям, – истолковала Соня, и Амелия засмеялась слишком громко. Потом она встряхнулась и воскликнула:
– Эй, жопик, зацени! – и задрала маечку.
Верхнюю часть её торса облегал кружевной лифчик – розовый, девчоночий, не похожий на спортивные топы и хлопковые треугольнички на резинках, одеваемые ею с восьмого класса.