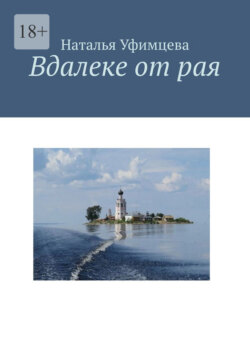Читать книгу Вдалеке от рая - Наталья Уфимцева - Страница 5
Глава 3
Оглавление«Она воздвигла этот монумент для своего отца Амона, повелителя Фив, правителя Карнака. Получилось достойно фараона, великолепно, грандиозно. Она сделала эти два больших обелиска из гранита на юге. Вершины их были покрыты лучшими на земле материалами из смеси золота и серебра и видны с двух берегов великой вечной реки». Да, именно так будет написано на том, что задумала божественная Хатшепсут. Это был грандиозный замысел, один из многочисленных, воплощенных ею в реальность Египта. В течение семи месяцев царица решила воздвигнуть два обелиска неведомой ранее красоты и высоты. Они воспарят в небо на тридцать метров, пронзая его своей грациозностью и величием. Обелиски будут похожи на неё, женщину-фараона, целеустремленную, сильную и прекрасную. По приказу Хатшепсут их высекут из цельного куска гранита. Пожалуй, на одном из них она напишет: «Моё сердце волнуется о том, что народ скажет про оставленные мной творения через много лет».
Подходящий для её замысла гранит был только на расстоянии двухсот пятидесяти километров от Фив. Значит обелиски, весом сто двадцать тонн каждый, будут переправлять на салазках вдоль берега Нила, затем поместят на баржу один за другим. Для неё не существовало ничего невозможного. Первый обелиск так и останется лежать на долгие тысячи лет, поражая воображение потомков. Но расчеты Хатшепсут были безупречными, не выдержал сам гранит и рассекся бегущей изнутри трещиной. Работа продолжится. Она сделает, то, что задумала. Без всяких креплений с абсолютно гениальной точностью гранитные великаны будут установлены в обычные углубления на свои постаментные основы. Если бы она только знала, что её дорогой пасынок перепишет историю своей решительной рукой, уничтожив всё с нею связанное и даже память о ней.
Он будет подобен ей, своей выдающейся мачехе, совершив за тридцать три года своего правления Египтом много славных дел. В результате проведенных им семнадцати военных кампаний, будут покорены Сирия и Палестина. Он продвинется, далеко на север, к водам Евфрата. Государство, которое останется ему в наследство на добрую память от Хатшепсут, было процветающим и прекрасно организованным. Но участь женщины фараона, отправившейся в загробный мир, так пекущийся при жизни о светлой памяти потомков, будет трагически предрешена.
Её наследник Тутмос III не мог допустить нарушения божественного порядка и попирания традиций. Пока она правила, он не смел, ей возражать, но придя к власти, фараон Тутмос III сотрет её имя с лица земли, как – будто божественной и великой Хатшепсут никогда и не существовало.
«Интересно, поступил бы он так со своей родной матерью? И поступила бы родная мать так со своим сыном, будущим фараоном Египта?» – подумал сыщик, в очередной раз, читая египетскую новеллу.
Степан Кузьмич, вошел в кабинет полковника Рындина. Приближался к своему завершению первый, отведенный ему для поисков день. Задачка из обычной логической превратилась в задание со звездочкой, похоже, что и не с одной.
Сегодня во второй половине дня единственный свидетель по этому делу с диагнозом инфаркт был экстренно помещен в реанимацию. О допросе не могло быть и речи. В таких случаях врачи не дают никаких гарантий даже на жизнь. Кошкин представлял, что ему сейчас задаст Дмитрий Сергеевич. Можно же было этого старика как-то разговорить, допросить более тщательно, не откладывая на потом? Только сыщик ничего и не откладывал. Он собирался с ним встретиться, если бы не труп в сундуке. А теперь что? Ну, видел этот дедуля, как вдалеке дома маячила, с его слов какая-то мужская фигура. Не придумывать же за деда, удобные всем небылицы.
Дмитрий Сергеевич молчал. Пройдясь бодрым шагом по кабинету, вернулся за стол.
– Что там реально человек, не бутафория?
– Почивший в бозе.
– Ну, и кто это?
Степан Кузьмич потихоньку продвигался к выходу.
– Не представился, но видимо не из бедных, в браслете и с перстнями.
– Ну, и шуточки у тебя, Кузьмич.
Кошкин с грустью понял, что полковник намерен продолжать обсуждение розыскного дела.
– Да какие тут шутки, Дмитрий Сергеевич, чем дальше в лес…
– Ага, тем злее волки, знаем. Что думаешь делать?
– Есть некоторые соображения. Надо как следует покумекать.
Тихо, но уверенно произнес Кошкин, оптимистично не собираясь задерживаться в кабинете начальника.
– А знаете, что я думаю, Степан Кузьмич, может ему помогли?
– Не понял, кому, скелету? Тут, Дмитрий Сергеевич, без вариантов, сам он до этого ящика вряд ли бы додумался.
– Тьфу, на вас, деду нашему – свидетелю.
– Что значит, помогли?
– Припугнули, например, угрожали, не молодой чай дедуля, вот сердце и подкачало.
– Может оно так. А может и не так. От увиденного на балконе, тоже могло старику не поздоровиться.
– Не нравится мне ваше настроение, Степан Кузьмич. Может эдак, может так. Следствие, какое событийное вырисовывается. Кто бы мог предположить? Что у нас по пропажам?
– У нас процесс, Дмитрий Сергеевич. Работаем, разрешите идти, дел много.
– Ну, если так, если процесс и дел много, тогда, конечно, не смею больше задерживать.
Кошкин медленно, точно нехотя повернулся к двери. Собрался было что-то сказать, передумал.
– Степан Кузьмич!
Следователь остановился, вернулся к столу своего начальника и внимательно на него посмотрел.
– Не мне вас учить. Но знаете что, мне кажется, здесь всё намного проще, банальнее что ли. Не надо так глубоко копать.
Кошкин прикрыл глаза, мысленно вступил в диалог: «Дмитрий Сергеевич, ну, какой там копать? Взрыхлить не знаешь где. Всё предельно просто и не за что ухватиться. Всё предельно ясно и одновременно ничего не понятно. Какое тут глубоко?» Рындин понял, что его «старый лис» включил и перешел в режим внутреннего с ним, ведомого только сыщику, диалога.
– Ну, кому это выгодно? Номвиль была богатой женщиной.
– Она всё завещала своему молодому мужу, который в данный момент проживает во Франции.
– Вот. Всё же очевидно.
«Может, в чьи-то очи это и видно» – тихо пробормотала чуечка следователя Кошкина и загрустила.
– Что-то? Я не расслышал.
– Как версия, говорю, возможно.
– Дарю, не жалко. Обращайтесь.
– Если мы принимаем тот факт, что в бабусином сундуке прикопан некто другой, а не молодой супружник.
– Как то я об этом…
Зазвонил телефон и Степан Кузьмич, воспользовавшись, случаем, ретировался из кабинета полковника.
Он как-будто плыл, временами ныряя с головой в неведомое бытие. Где был тот мир, в котором осталась его прежняя жизнь, полная ужаса приближающейся смерти? Где был он сам? Расплывчатость сознания пугала и успокаивала одновременно. Бесформенный и нечувственный, он казался себе невесомым и несуществующим, без горечи потери и ужаса произошедшего. Но как только в сознание вторгалась боль, осязая себя частично, он захлебывался таким потоком беды, что снова и снова поднимался на мост и шел навстречу ослепляющему всё поезду.
Откуда взялся этот старик? Зачем, кто его просил, кто ему позволил, вмешиваться? Это было только его право. Его жизнь! Он так решил. Что теперь будет? Иван попробовал сквозь боль пошевелиться. С этой мукой невозможно жить, с этим адом внутри невозможно дышать. Как объяснить, что всё напрасно, всё бессмысленно. Никто его не слышит. Как рассказать, что всё для него закончилось там, когда она… эта женщина не поверила ему, презирала, называя безродным проходимцем. Кого, его? Зачем, она… эта женщина, на встречу с которой он решался несколько месяцев и никак не мог отважиться, оттолкнула, отдернула руку, как от прокаженного? Почему не выслушала? Ну, что ей стоило, он же ничего не хотел, ничего не просил взамен?
Она должна, должна была… Разум снова начинал путаться, перед глазами мгновенной вспышкой возникало и исчезало её лицо. Она должна была его хотя бы выслушать. Злые, черные помыслы, обступающие сознание шептали, убаюкивая гнев: «Всё правильно. Она это заслужила. Так ей и надо. Пусть получит по заслугам». А где-то внутри маленьким мальчиком плакало сердце: «Почему так? Почему? Я не хотел. Я ведь так не хотел! Я хотел по-другому!»
Он лежал один в неизвестной комнате, не понимая, что происходит. Иван тихо позвал на помощь. Черные помыслы одолели его. Никто не откликнулся. Он попробовал встать, ничего не получилось. Сползти с кровати тоже не удалось. Подтянувшись на руках, рывком с криком приподнял непослушное тело, и практически выпал на деревянный пол, сотрясаясь от боли.
Лицом вниз, упираясь лбом в прохладный пол, Иван кричал внутрь Ему одними губами: «За что, Господи?! За что?!» Перевернувшись на спину, распластавшись всем телом, зажмурился от прилива скопившихся слез. Закрыв рот ладонями, тихо застонал, запрокинув голову назад: «Видишь меня? Видишь?! Зачем мне такая жизнь?!» Приподнявшись на локтях, стуча кулаками в пол, закричал, что было мочи: «Ну, ответь! Где ты? Зачем она мне?!»
За окном со снежным хрустом приближались шаги. Затем всё смолкло, и Иван испугался, что никто не придет. Он хотел закричать: «Эй, кто-нибудь!», открыл рот и увидел в углу полумрака комнаты Его. Он смотрел на Ивана так, как смотрит отец на неразумного ребенка. В этом взгляде не было ни капли упрека. В нём было всё, что способна вместить любовь родителя: покой, радость, тепло, сострадание. Лампада, горящая перед ликом Спасителя, озаряла Его живым светом. Иван сложил три пальца правой руки вместе и как смог попытался перекреститься. Ничего не получилось. Шаги за окном снова продолжили своё движение. Они приближалась и стали слышны уже за дверью.
Иван снова лег на пол, на спину. В отблесках лампадки на стене ему привиделись маленькие светлячки с крошечными крыльями. Они беззаботно кружились, взявшись за руки. И было в этом какое-то волшебство и тихое умиление для его измученной души.
В пропажах, после смерти Эмилии Францевны, значилась и её любимая кошка. Не в смысле живая, мяукающая, а древняя черная, покрытая золотом и драгоценными камнями, богиня Баст. Степану Кузьмичу для полноты ощущений только этой самой кошачьей богини и не хватало. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Совершенно вне графика дел на день, Кошкин отправился к брату погибшей Номвиль, бесцеремонно нарушая планы окружающих. Сыщик не предупредил Генриха Францевича о своем визите. Со Степаном Кузьмичом такое случалось, когда он совершал поступки, руководствуясь глубоким знанием сыскного дела. Интуиция, или «чуечка», как по-свойски называл её Кошкин, и на этот раз не подвела.
Хозяин встретил следователя настороженно и дальше прихожей не приглашал. Надушенный дорогим, хорошим парфюмом, в халате на голое тело, Генрих Францевич, явно чего-то опасался. Усыпив бдительность негостеприимного хозяина, Степан Кузьмич стал доставать исписанные мелким подчерком листки следственного дела. Неуклюже и благополучно их рассыпал по всей прихожей. Искренне извиняясь, собрал, что разбросал и отправился в гостиную.
– Нет ваших подписей в протоколе допроса, Генрих Францевич. Как так могло произойти? Это же не порядок.
– Позвольте!
Номвиль, от возмущения перешел на фальцет. Он отправился в собственную гостиную за настырным следователем, кипя от негодования.
– Да, я что? Позволить, или нет – это не мне решать? Есть же порядок, надо соблюдать.
– Я везде расписался. Я прекрасно помню.
– Вот, видите, не везде.
– Да, что вы тут разложились, давайте скорее, я подпишу.
– Скорее никак нельзя. Следствие, это вам не гонки на скорость. Тут спешка не к чему. Она, знаете что, даже опасна. Один раз уже поспешили. А вы что чем-то заняты? Я вас отвлекаю? Может вы не один?
– Занят, конечно. Почему не один, один. Я проживаю один.
Громко и внятно, точно для слабоумного объяснил Номвиль, подталкивая при этом следователя к столу.
– Давайте свои бумаги.
Степан Кузьмич наклонился вперед и до слез натужно закашлялся. Номвиль уставился на него и попятился назад.
– Вы больны? Зачем вы ходите по улице?
Кошкин покачал головой, продолжая свой эксперимент, и жалостливо попросил: «Воды. Дайте, пожалуйста, воды». Генрих Францевич, не ощущая подвоха, бормоча, отправился на кухню.
Сыщик тем временим, бодро выпрямившись, проник в спальню. То, что он там увидел, порадовало Степана Кузьмича: «Ай, да Генрих! Ай, да молодец!» Как ни в чем не бывало Кошкин, уселся в кресло гостиной. Генрих Номвиль, сопя от недовольства, принес ему стакан вода.
– Что же вы, голубчик, вретё?
От такого вопроса Генрих Францевич, замер как вкопанный и заморгал.
– Ну-с? Ничего не хотите мне рассказать?
– Вы это про что?
– Как про что? Про богиню конечно.
Генрих выпил, принесенную сыщику воду. Сел в кресло напротив Кошкина и с чувством собственного достоинства произнес.
– А что собственно происходит? Имею право!
– Да ничего вы не имеете!
– Не надо завидовать! Могу себе позволить. Да, она молода, юна и прекрасна. Но, она любит меня, понятно!
– Генрих Францевич, вы сейчас о чём? О той молодой особе, которая покоится в вашей кровати?
Номвиль пересек комнату и практически навис над сыщиком.
– А вы о ком?
– А я, любезный, о той богине, на голове которой разместилось бельё вашей юной подруги.
Кошкин стремительно вырос перед стариком. Взяв его за плечи, легонько встряхнул, и тоже понизил голос.
– Не вздумайте отпираться? Что вы ещё позаимствовали из коллекции своей сестрицы?
Номвиль, отмахнувшись от сыщика, опустился опять в кресло.
– Больше ничего, практически ничего, так пустяки.
– Пустяки?! Генрих Францевич, сколько стоит эта кошка? Я имею в виду, не историческую, а её финансовую стоимость.
Номвиль пробормотал что-то невнятное. Поднялся на ноги и нервно заходил по комнате. Вернувшись к Кошкину, посмотрел на него с мольбой.
– Ну, зачем? Зачем ему такие редкие вещи? Он что их оценит по достоинству? Это же XVIII – я династия фараонов, 1400 год до н. эры.
Номвиль отлучился на несколько секунд. Он вернулся в гостиную с другими кошками. Эти древние амулеты были изготовлены из золотисто-фиолетового аметиста и в свете, исходящем из удаленного окна, магически поблескивали.
– Вы только посмотрите, какая красота! Это же эпоха Птолемеев, трехсотый век до н. эры. В то далекое время кошки были храмовыми жителями. Им даже разводили специальную рыбу с отсутствием чешуи. Горящие в темноте глаза этих существ, олицетворяли для египтян застывший дневной свет. Вы посмотрите, какая грация! Какая чистота линий! Тогда по состоянию кошачьих зрачков и по движению и повадкам, жрецы предсказывали погодные условия. Когда любимый питомец уходил в мир иной, хозяин в знак траура обривал голову и сбривал себе брови. А тело умершей кошки мумифицировали и помещали в саркофаг. Кошка для них была символом вечной жизни.
Рассказывая всё это, Генрих Францевич необыкновенно преобразился. Глаза его заблестели. Он как-то воспрянул духом и помолодел.
– Скажите, пожалуйста, а плеточка не у вас?
На лице Номвиля отразилась сложное сочетание чувств, ключевым в этой туче было огорчение.
– Нет, к сожалению, не нашел.
– А для чего, любезнейший, вы всё верх дном перевернули.
– Кто я?
Степан Кузьмич строго кивнул и снова приблизился к Номвилю.
– Нет?
– Зачем мне переворачивать, я что варвар?
– Понятно. Генрих Францевич крайний вопрос.
Номвиль с облегчением вздохнул, выпроваживая следователя в коридор.
– Слушаю.
– Чей труп находился в доме вашей сестры?
– Когда? То есть, я хотел сказать, что я никого не видел… труп, у Эмки, как, как это?
– Как, как… прикопан в сундуке со всеми египетскими почестями.
Неподдельный ужас, перекосивший физиономию старика, вывел его из списка подозреваемых лиц.
Борщ удался на славу. Евдокия Ивановна Кошкина любила хлопотать по хозяйству. Ей нравилось, когда её Степушка был сыт и доволен. Готовила она вдохновенно и очень вкусно. Если бы Степан Кузьмич не уважал физкультуру и не тратит столько сил на работе, он давно бы превратился в круглого толстячка с лоснящимся от жирка лицом. Каждый раз супруги давали себе клятвенное обещание кушать после шести чисто символически. Расстановка и калорийность вечерних блюд не противоречили таким намерениям. Но приготовленная пища была такой вкусной и разнообразной, что со временем Степан Кузьмич, махнул рукой на килограммы и добавил к своему утреннему моциону парочку упражнений на укрепление мышц брюшного пресса и приседания.
К первому блюду прилагался румяный курник. Хотя в принципе, он был вполне самодостаточным и сытным блюдом, объединяющий золотистой пышечкой переложенные внутри жареными грибками и куриной грудкой масленые блины. Если ещё в эту благородную компанию припустить домашнюю сметанку, гурман не устоит. Аромат обеда распространился по всей квартире Кошкиных.
Евдокия Ивановна, подошла к секретеру мужа и достала уже знакомую её, египетскую книжицу. Уж очень было интересно, что там будет дальше с этой женщиной, объявившей себя царем – фараоном. Вот ведь были времена. Как только она на такое решилась, носить накладную бороду, мужскую одежду, оставаясь при этом очень красивой и привлекательной женщиной? А то, что она была такой, не оставалось сомнений. Рядом с нею находился мужчина, который её любил и готов был для неё на всё.
Это Сенмут, простолюдин, дошедший благодаря своим талантам до самых верхов власти и знати. Как такое было возможно? Безродный сын провинциального бедного писца становится жрецом? В своей гробнице Сенмут напишет: «Я был величайшим из великих по всей стране. Я был хранителям тайн царя во всех его дворцах, советником по правую руку владыки. Я был полезен царю, верен богам и беспорочен перед народом».
Он начал своё стремительное восхождение ещё при правлении отца Хатшепсут Тутмосе I. Этот мужчина любил её так, что придумал грандиозный мифический спектакль, во время которого ожившая вдруг статуя бога Амона поклонилась Хатшепсут, признав тем самым её дочерью бога. А это означало, что она должна заботиться о благополучии Египта, о его процветании. Вопрос о том, может ли женщина управлять Египтом, в тот момент был решен положительно. Чем впоследствии она отблагодарит, ответив взаимностью своему фавориту? Годы любви, заботы и нежности перечеркнут подозрительность и недоверие. Своей рукой она отправит его на казнь без права быть погребенным в гробнице, без права на последнее объяснение перед вечной разлукой.
Что стало с её сердцем? Оно сделалось каменным после смерти дочери, которую с такой родительской заботой воспитывал, любящий её Сенмут? Никакие заслуги не отменили её решение покарать его. Близость к божественным чревата для смертных. Всё забывается и превращается в прах за считанные секунды. Ослепление, вспышка ярости, подогреваемая тлеющими угольками страха быть преданным, однажды поглотит самое важное и дорогое, при этом уничтожив себя самого.
Сенмут хотел быть погребенным рядом с нею, в тайной гробнице без часовни сверху, потолок которой представлял собой первую в истории человечества астрономическую карту звездного неба. На ней были запечатлены небесные светила, планеты, звезды. Они делили своим присутствием египетский год на двенадцать секторов – месяцев. Каждый, из которых в свою очередь подразделялся на дни, а последние состояли из двадцати четырех часов. Для современного человека в этой карте не постижимым для понимания было расположение двух созвездий, Сириуса и Ориона. На погребальном потолке эти два созвездия находились в противоположных направлениях. Что наталкивало на мысль, в случае астрономической точности карты, о случившейся земной катастрофе, в результате которой произошли такие невероятные звездные перестановки, юг и север поменялись друг с другом своими небесными местами.
Царственный супруг Хатшепсут не годился ни в какое сравнение с мужчиной, который сделал сам себя достойным и великим. Царь был болезненным, хилым, безвольным. За всю свою жизнь Тутмос II не совершил ничего выдающегося. Если не считать одного, после себя он оставит сына от наложницы, продолжателя царской династии, Тутмоса III. Однако, для того, чтобы править Египтом, быть сыном царя оказывалось не достаточно.
Первое условие выполнено, необходимо соблюсти второе, жениться на девушке царского рода. На престол Египта мог взойти только мужчина, наследник по женской линии. Для этого Тутмосу II – сыну наложницы, потребовалось жениться на Хатшепсут – дочери царя и царицы Египта. Дворец правителя Египта, как тысяча и одна ночь сказочницы. Десятки комнат, много женщин и очень много интриг. Если бы только Хатшепсут родилась мальчиком. Ей не пришлось бы ничего придумывать, она бы стала следующим правителем Египта после своего отца. Он умер, когда ей исполнилось двенадцать лет. Только в ней текла чистая царская кровь, но она вышла замуж за сына наложницы, став обычной женой безвольного правителя.
Чтобы было с нею, без разумного и влюбленного Сенмута? С его гениальной способностью договориться с кем угодно: с армией, которая недолюбливала Хатшепсут, со жрецами, которые так никогда и не простят ей казнь Сенмута, и даже с неприступными номархами, которые обладали при фараоне действительной властью. Этот достойный муж так и не женится и не оставит потомство. Что считалось редкостью для египтянина. Так мог поступить только больной или проклятый богами человек.
Евдокии Ивановне стало жалко этих египтян. Всё как обычно, как во все времена. Безвольный правитель, амбициозная красавица – жена.
Готовясь к путешествию в загробную жизнь, Хатшепсут позаботится о нем, отдавая самое лучшее. Для погребения Сенмута приготовят царский саркофаг. Это непозволительная роскошь с её стороны, но такова была воля женщины фараона.
Его спустя тысячелетия археологи обнаружат пустым. Она лишит Сенмута жизни и этого своего царского дара.
Возможно, была ещё одна причина, благодаря которой решилась участь несчастного Сенмута. Божественная Хатшепсут влюбилась. Имя этого мужчины не сохранилось для потомков, но она назовет его так: «Ближайший и бесценный друг царицы, тот, кому доверяют самое сокровенное. Тот, кто близок очам и сердцу царицы».
– Ты, Ванюша, больше так не делай! Старый я уже стал. В следующий раз и не подниму. Сам должен понимать, пади не маленький, ноги поломанные. А как срастутся не так? Что делать будем? Ломать?
Иван ничего не отвечал. Он снова лежал на кровати с закрытыми глазами. Ему было стыдно.
– Ванюшка, никак спишь? Ты уж пожалей меня старика. Что молчишь? В горле пересохло? Накричался тут один. Может водички?
Иван утвердительно кивнул головой. Вода показалась ему такой вкусной и приятной, как-будто ничего лучше и не существовало на белом свете. Она струилась вовнутрь больного тела прохладой и благодатью. Вот так бы пил и пил бесконечно, но стакан опустел. И Ваня, отдавая его незнакомому мужчине, впервые внимательно рассмотрел его.
– Спасибо. Как вас зовут?
– Иоанн.
– Это значит Иван? Значит мы с вами тёзки?
– Выходит, что так.
Старичок поправил подушку, усадив больного повыше.
– Ты теперь, Ванюша, мой крестник.
– Я не крещеный.
Ивану на мгновение показалось, что теплая приветливая улыбка старца исчезла, а небесно-голубые глаза сделались серьезными.
– Не крестил меня никто.
– Может, ты не помнишь? Многих маленькими родители крестят, после рождения.
– Моим родителям было не до этого.
Он закрыл глаза и снова представил лицо матери светлое и родное, а потом наваждением возникла она… эта женщина.
– Повезло, когда маленький. Не надо выбирать. Родился и уже с Богом.
Старчик Иоанн поставил стакан на стол, и, глядя в окно, что-то тихо запричитал, понятное только ему одному. Потом подошел к иконе Спасителя, перекрестился.
– Не всегда, Ванюша, не всегда. Ведь оно как бывает: родился, крестился, женился, может, на что и сгодился, помер и потом Бога узнал.
Он сказал это так сочувственно и проникновенно, как если бы скорбел об этом человеке.
– Разве он один такой?
– Кто?
– Кто помер и Бога узнал. Разве мы не так?
– Не так, совсем не так.
Старичок перекрестился, и в глазах его снова засветились теплые маячки.
– Вот, Ванюш, послушай, Сама Богородица тебя своим покровом укрыла. Ты в какой день надумал мысли свои черные, знаешь? Вижу, что нет. Собор Пресвятой Богородицы. Царица наша Небесная, углядела тебя, Матушка наша!
Он перекрестил Ивана, поправил одеяло и погладил его по голове.
– Вся нынешняя твоя жизнь – это Её промысел и заступничество. Вот как, скажи мне, ты за этот выступ мог зацепиться? А потом на основание бывшего фонаря, как тебя на несколько метров занесло? Как ты там задержался, если без чувств был? Молчишь? На рельсы кулем свалился уже тогда, когда поезд прошел. Я стою, смотрю, глазам своим не верю. Молюсь Ей, Царице Небесной… молюсь Преблагословенной… молюсь Пресвятой Пречистой… а ты весишь, не шелохнешься. Да, вот такие дела, Ванюшка. А что я мог сделать? Ты прыгать собрался, я тебе кричу, да какой там. Вижу, летишь уже камнем вниз. Я к мосту бегом, как мог. Бухнулся на колени, не успел, думаю, глаза закрыл, и зову Её, заступницу нашу. Так пока поезд ехал, глаз не открывал. А потом смотрю, лежишь ты. Аккуратненько так головой на насыпь. Побежал к тебе, сердечко послушал, Ванюша, а ты живой.
– Откуда вы взялись на мою голову?
– Ты, Ванюшка, знаешь что, не дури! И глазищами меня своими не буравь, без толку затея. Смысла нет, за жизнь цепляться? Это ты, парень, брось! Слышал, что я тебе сказал, брось! Его искать надо?
– Кого искать? Кого?
Иван вспомнил свой черный день другой жизни, как она пятилась назад и смеялась ему в лицо. Он вспомнил, что случилось потом. Как он бежал на этот мост, спотыкался, падал, вставал и снова шёл из последних сил. Его тело, как и тогда, начала сотрясать дрожь.
– Кого искать? Я спрашиваю, кого? Бога?
– Я про смысл, Ванюша, про смысл. Ты верно не там за ним ходил. Не по тем дорожкам.
– Чепуха всё это, слова одни!
– Конечно, слова. А как без слова? С него всё началось. А Бог, сынок, Он сам нас найдёт, ты только сердце приготовь, чтобы оно для милосердия билось.
– Где, оно – это ваше милосердие? Где это ваше хваленое милосердие?!
Он одержимый бедой, бил святыми словами наотмашь, разуверившись во всём. Иван уставился в потолок. На губах застыл третий вопрос, самый острый и страшный.
– Где этот ваш…
Старчик закрыл ему рот маленькой, сухой ладошкой. И тихонько запел:
«Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
И как-будто бы кто-то невидимый взял его злобу, взял Иванову черную беду двумя руками, сжал покрепче и приподнял легонько так, над головой. И она, беда эта Иванова, вдруг стала чем-то инородным, существующим островком вне его самого и этого странного старика. Да, кто он вообще есть, что обладает такой силой? Мысли его постепенно стали путаться, глаза закрылись и он задышал легко и ровно, забывая обо всём.
– Вот и поспи, Ванюша, поспи. Слаб ты ещё, мил человек, со своим злом тягаться. Всему своё время. Довольно каждому дню своей заботы.