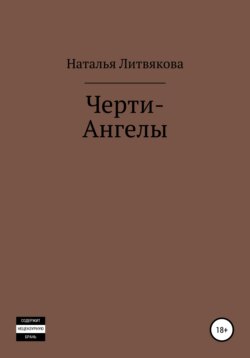Читать книгу Черти-Ангелы - Наталья Викторовна Литвякова - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава шестая.
ОглавлениеТы не приехал в понедельник, а я надеялась. Сидела под дверью, словно верная собачка в ожидании хозяина, прислушиваясь к чужим шагам в подъезде. Открывала дверь, выбегала на лестничную площадку и смотрела вниз до тёмных мушек в глазах – не ты ли это поднимаешься по лестнице? И разочарованно уходила – не ты. Предъявляла в мыслях тебе что обвинений и тут же – двести оправданий. Ты не приехал. А ведь это был – шанс, шепнула жизнь, но мы не услышали. Глухие!
«19 марта.
23-00.
Я сама себе накаркала беду, Дневник! Помнишь, дурацкое:
Страхи – пауки, сомненья – паутина,
Опутали меня, плетут, плетут, плетут:
Что вдруг предательство и ложь, как гильотина,
Ножом в судьбу мою войдут!
Заказывали? Получите-распишитесь. Вот зачем?
Уеду завтра с Алинкой к её бабушке, в Мальчевскую. Будь что будет! И, если Он приедет всё-таки, а меня нет – так ему и надо! Ещё погода эта, забодали дожди. Плачет небо, плачет. Вместе со мной. Уеду…».
Уехала. Мальчевская запомнилась борщом Алинкиной бабушки и родами. Борщ – такой вкусный, что я даже записала рецепт на листочке для папы, он любил готовить это первое блюдо. Роды – Муркины. Залезла кошка к нам с Алинкой ночью на кровать, и давай рожать в пододеяльнике. Мы храпим – она котят выплёвывает. Проснулись от мяуканья. Последнего все вместе принимали. «Мурка, ты вообще, что ли, офонарела», – возмущались притворно, устраивая новорожденных в коробку. Кошка мурчала и благодарно щурилась.
Вернулись в Ростов. Март и дожди закончились. Наступил апрель. Лицемер, сказала ему: порадовал, вытащил, как заправский фокусник из цилиндра, майское тепло, и огорчил – опять школа, учёба. И ты не приезжал. Не искал меня. В пору завыть. А вокруг весна. Алле-ап! – земля накинула на плечи изумрудную шаль, украсила причёску цветущими вишнями, алыми тюльпанами – Кармен, вылитая. Принарядилась к празднику, к Пасхе.
Пасха – что-то далёкое, невесомое, из раннего детства. Крашенные луковой шелухой яйца, паски в белых шапках из глазури, сверху присыпка – цветной сахар, пшено. То ли было вправду, то ли прекрасный сон, в котором мама суетится с бабушкой Шурой на летней кухне. Месят тесто, бабуля просит: «Запевай, Лиля!», и льётся песня в прозрачном воздухе, улетает мамин голос к облакам:
– Дурманом сладким веяло,
Когда цвели сады,
Когда однажды вечером
В любви признался ты.
Дурманом сладким веяло
От слова твоего,
Поверила, поверила
И больше ничего.
Один раз в год сады цветут,
Весну любви один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады в душе у нас,
Один лишь раз, один лишь раз.
Папа ходит вокруг, будто кот около крынки со сметаной, дразнит:
– А бога нет, Александра Ахметовна. Это я, как ответственный партийный работник, вам заявляю! – сам же сдобы отщипнёт и – в рот.
– Вот я тебе дам – нет, Витька! Ишь, коммуняка какой выискался! Изыди, сатана! Сейчас, поди, всё съест и печь будет нечего, – сердится, машет бабушка на отца передником, а во взгляде – смешинки. И в том сне, или яви, на душе у меня ощущение света, защиты. Чувства чистые, ничем не замутнённые, растут, заполняют грудь, теснятся, выплёскиваются тёплыми слезами, они тут же сохнут и оставляют дорожки на щеках. И, если это был сон, то он растаял, как первый снег, а, если правда – то навсегда осталось в прошлом, потому что нет теперь у меня этих чувств, ожидания чуда – нет.
«13 апреля.
Я обещала больше никогда, никогда не приезжать в Донской. Никогда – слово резкое, тяжёлое, а сказать – легко. Особенно в сердцах. Словно камень в воду бросить. Но – Пасха. Лена позвала. Папа пристал – едь, едь. Если не согласилась бы, начались бы распросы, подозрения, а я – не хочу. И потом: вдруг я всё-таки Его увижу? Что он сделает, что скажет? В общем, съездим на Пасху – и больше никогда!».
С порога Лена нагрузила поручениями по дому и новостями: она рассталась с Вадиком, он женится, а на той неделе чуть не погиб. Мы с Алинкой ахали, не знали на что и как реагировать. Сестра рассмеялась: уж не думали ли мы, что у них всё серьёзно? Так, для здоровья, если понимаем о чём речь. Переглянулись – понимаем. Вздохнули с Алинкой одновременно.
– А почему чуть не погиб? – всё же спросила я.
– Возвращался из командировки, его колхоз послал за зерном, на грузовике, несколько тонн вёз. При повороте на мост, машину повело из-за тяжести. Начал скакать по дороге как лягушка, зерно то туда, то сюда, руль не слушается, на встречку вынесло, уже на самом мосту. А там – автобус рейсовый, из Петровки, на Ростов, битком набитый людьми. И Вадим тогда, чтобы избежать столкновения лоб в лоб, крутанул баранку в сторону, грузовик врезался в ограждение, выбил его и упал в реку, – тараторила Лена.
– То есть он знал, что может погибнуть, и всё равно выбрал этот вариант? – поразились мы с подругой.
– Да. И другого-то в принципе не было. Потом Вадик рассказывал, что несколько секунд кабина раскачивалась над водой, он тогда ещё успел подумать – п…ц, и машина рухнула. Очнулся на пассажирском сидении, а руль вошёл от удара в спинку водительского сидения. Если бы он пристегнулся, или кто-нибудь с ним ехал рядом, Вадик не выжил бы. А так вылез: кабина на бетонных блоках, что на берегу лежали, кузов в воде. Автобус остановился, люди помогли Вадиму залезть на мост. А донские наши уже с вёдрами бежали – зерно из воды вычёрпывать.
– Ничего себе! Ну, он – герой! – восхитилась я.
– Так уж и герой, – буркнула Алинка, и пихнула меня в бок, – ты забыла, он Лену бросил, на другой женится. И вообще, не нравится он мне. И ты, давай, поменьше восторгов! А то знаю, что после них получается.
– Да не нужен он мне, – взбрыкнула я, – что ты ищешь чёрную кошку в тёмной комнате? Особенно, когда её там нет. Мне никто не нужен!
«15 апреля. 14-00.
Ох, и праздник был вчера, Дневник! Ох, и Пасха! Соседи нас позвали разговляться. С домашним вином, конечно. А оно такое коварное! Пьётся, как компот! И не откажешь ведь: «Христос воскрес, Христос воскрес»! Нахристосовалась до умопомрачнения Наталья Викторовна, собственной персоной. В дрова. Рогами упёрлась с пьяных очей – домой не поеду. Мне на танцы надо. Мне Его найти надо и разобраться. Алинка то ржала, то сердилась. Из-за меня осталась тоже. На дискач мы пошли. Плохо помню, кроме того, что скакала и орала «Глупый мальчишка, что ты наделал!» и «Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука». Рвалась на дом, значит, к этому есаулу, чтоб пристрелил таки меня-коня, еле удержали. Куражу захотелось, видите ли, пьяной роже с горя и устроить «маленькое бардельеро», как тому дядьке из кино. Из «Калины красной». Устроила, что и говорить. Стыдоба и позорище! А всё потому…».
Потому что я тебя нигде не нашла. Ни на улице, ни у чёртовой Алёны (разлушницы, ик!), ни в клубе, и в твоём дворе мотоцикл отсутствовал. Даже племяшка сказала, что в школе тебя не встречала давно. Ты как сквозь землю провалился. «А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?» – вопрошала я всех трагическим голосом, не в первый раз цитируя Горького, и висла на Вадике. Он же герой, он – взрослый, должен знать. Он вообще людей спас, значит, и меня спасёт.
«Ужас, короче, Дневник. Так укушаться, хоть стой, хоть падай. И в школу я сегодня не пошла. Хорошо, папки дома нет, а то увидел бы доченьку с утра во всей красе: я упала с самосвала, тормозила чем попало. И, главное, напрасно – мы не увиделись, не разобрались.
Позвольте, обожгусь! Позвольте, ошибусь!
Позвольте мне упасть, или пропасть – не знаю!
Но я приду в себя, приду и поднимусь,
И, может, оценю всё то, что потеряю.
То будет – мой ожог, то будет – моя боль.
Татуировкой шрам на сердце почернеет.
Но я узнаю, что в мире есть любовь,
Прекрасная как жизнь, и надо быть смелее:
Взлетая в небо, не бояться смерти.
И, чувствуя, как крылья за спиной
Вдруг выросли. Позвольте мне, поверьте!
Я не боюсь за выбор свой…
И что, взлетела? Есть она там, любовь? А теперь: кто кого разлюбил, кто кого бросил – непонятно! Как дальше жить неизвестно…».
Почему зима тянется всегда бесконечно, словно тающий кусочек сыра в пальцах, если окунуть его в кружку с горячим чаем, а весна – наоборот? Её дни движутся быстро, как секундная стрелка в часах. Её дни летят мимо нас машинами на автостраде со свистом – числа в номере-дате не разглядеть. Весной 90-го мне иногда чудилось, что я легла спать 16 апреля, а проснулась…
«19 мая.
Сегодня день пионеров. Надо же! И кто вспомнил об этом? В классе – никто. А когда-то, давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, это был отличный праздник для детей. В школах сокращалась уроки, а после них прилетал волшебник в голубом вертолёте, отвозил учеников в парк им.Собино. Раздавал бесплатно мороженое и билеты на аттракционы. «Но куда ушло всё это, не было нет ответа…», как поёт Ротару. Перестройка, сэры и сэрухи, демократия. Гласность. Не то, чтобы я против, но где счастливое детство для младшего поколения, для будущих детей? Из крайности в крайность. Ну чё за страна такая! Как там у Толстого, Пётр Первый говорил: «Угораздило же в такой стране царём родиться!». А тут угораздило не то, что царём – просто родиться, да ещё в эпоху перемен. Ладно, расписалась чё-то, разумничалась. Ностальгия, блин. По бесплатному мороженому. Или по беззаботному детству?
24 мая.
Завтра последний звонок. Решили с Алинкой не только в белом фартуке пойти (как полагается), но ещё и по два хвостика сделать, с бантами. Как в первом классе. Вот пена будет. Вчера ходили в галантерею, купили ленты, собрали их в розы, резинки пришпандорили, кайфово вышло. А после линейки мы поедем в Донской. Ну как? Не в сам, а только на станции выйдем. Там встретит Алинкин Лёшка. Обещал нас отвезти в одно место, показать какой-то карьер. Говорит, закачаешься!Да, Дневничок, да. Теперь мы тасуемся в компании друзей Лёши. И вообще, много чего произошло. Видишь, как давно я не писала. Про пионеров – не считается. Самое главное, что я поняла за это время – я никогда не смогу убить себя. Как поняла? Очень просто, Дневник, очень просто. Я попробовала. Когда закончились майские праздники попробовала. Мне стыдно об этом вспоминать! И писать. Но напишу. Чтоб неповадно было!
Тогда я скверно себя повела, прям ни в какие ворота. Разозлилась, офигеть как. Алинка узнала, что я опять одна, и взялась за старое – устраивать мою личную жизнь. Типа клин клином вышибают. Подсунула мне брата Лёши – Олега. Пацан, мол, ничейный пропадает. Без меня – меня женили, называется. Ну, я и вдарилась в разнос. Назло всё им сделала. Напилась, с каким-то хмырём в Донской уехала. Ну, понятно – зачем. Справедливости искать. И кое-кого. Не нашла. Зато папу и Лену – нашла. Ой какой же был скандал, ну какой же был скандал, но впрочем песня не о том, а о любви. Да, о любви. Господи, как же хочется любить и быть любимой, разве это так сложно? В общем, вернулась я к Алинке. Потом в город. И со всеми разосралась в пух и в прах. Утром с папой. После обеда с подругой. Они свалили, а я осталась наедине с собой. Зря.
Когда смотришь с пятого этажа вниз, осознаёшь свою никчёмность, пустоту внутри и никакого просвета, кажется, что просто – взять и перекинуться через перила. Кончатся все мучения. Боль прекратится. И больше никому не будет проблем. Ну, погорюют. Пожалеют. Так им и надо! Всем! Но вот висишь вниз головой. Она кружится от страха, прилива крови, а руки ещё крепче сжимают эти чёртовы балконные железяки и понимаешь, что никакая сила не заставит их разжать, хоть они мокрые, и дрожат; думаешь, что сердце остановится и так, от одной только мысли, что сейчас можно соскользнуть…
Я не смогла, Дневник! Я слишком трус, чтобы жить, но ещё больший трус, чтобы умереть. Даже не помню, как завалилась назад, на балкон. И не упала. Ангелы спасли? Или черти, себе на потеху? И удивительно то, что потеряла сознание потом. Или заснула, не знаю. Очнулась ночью – замёрзла, прикинь? В комнату заползла буквально на четвереньках, без сил. Теперь мне с этим жить. Я и в смерти никчёмна.
Алинка позвонила через сутки. Мы помирились. И с папой тоже. Жизнь налаживается. Но иногда думаю, что внутри меня выжженная степь, и ни один аленький цветочек больше не расцветёт в ней!».
25 мая, перед линейкой, нашему классу огласили список учеников, поступивших в новую школу при РИИЖТе. Моя фамилия тоже прозвучала. Я вздрогнула. А нужно ли мне оно?
– Ты чё? Конечно нужно! – удивилась Лерка. Оказалось, я спросила вслух. И добавила. – Радостно с одной стороны – прощай, Макарыч с теоремами и Валечка со своим кружком Чехова…
– Чехова не трожь, – улыбнулась я.
– Ну, конечно, не трожь, у некоторых с ним же – вась-вась!
– У некоторых – тоже, – парировала я, намекая на Леркины пятёрки по сочинениям и её участие в литературном кружке, пусть и добровольно-принудительное, как вся общественная жизнь в школе.
– Ладно, ладно. Мысль потеряла из-за тебя. А! С одной стороны радостно, а с другой – грустно. Детству-то – амба! Состав прибыл на конечную станцию, вылезай.
– Нет, Лер, нет – пересадка. Мы просто сядем в другой. Но я боюсь, что слишком спешу и могу сесть не в тот поезд.
Последний звонок прозвенел, прозвучали стихи, песни, напутственные речи. Мы с Алинкой с трудом сбежали со школьного двора: ребята звали с собой в парк, в кино, Лерка – гулять на набережную. Еле отвертелись и едва успели на электричку. Так и поехали, в форме. Наш вид вызывал улыбки у пассажиров, а мы буквально задрали носы – да, да, смотрите, какие нарядные и хорошенькие в отутюженных коричневых платьицах, накрахмаленных фартуках, с нелепыми нейлоновыми бантами, с чувством свободы – впереди лето, а экзамены – ой, ну их, кто помнит об экзаменах в конце мая?
Лёша встречал нас не один. Я насупилась. Алинка замотала головой – мол, она здесь не причём, её хата с краю: завязала вмешиваться в мои дела. Оказалось, не очередной «жених», а – Вадик. Из приветствия и объяснений на скорую руку узнали, что у Лёшки при подъезде к вокзалу заглох мотоцикл, а Вадик мимо проезжал. Остановился, помог. Знакомы парни давно, по районному ДОСААФу. Учились на шофёров вместе. В благодарность Лёха Вадима пригласил рвануть с нами, за компанию. Я глаза закатила, а новую истерику – не стала. Хватило прошлой. Да и Алинке испортить очередное свидание – уже форменное свинство. Молча села, стараясь не касаться Вадика.
Парень, конечно, «хорош», подумала. Свадьба на носу, а он с малолеткой рассекает по полям, по весям. По карьерам. Но прежде заехали в магазин за хлебом, Лёша забыл из дома взять. Зашли все вместе. Лёха покупал, расплачивался, трындел с продавщицей и с нами одновременно: расписывал место как мистическое, обросшее легендами и загадками. Во, Цицерон! Раньше добывали в карьере песок, потом бросили. Почему – неизвестно. Купаться в нём опасно. Глубина – неимоверная, прям Марианская впадина местного масштаба, можно нырнуть и не вынырнуть: вода ледяная, пески засасывают и прочие страсти. А сколько там утопленников, машин в него сброшенных – никто не считал. Того и гляди, из тёмных волн выйдет Лох-Несское чудовище!
– Но водичка прозрачная, как самогон двойной перегонки, – рассмеялся Вадик.
– И песочек мягкий, чистый, вы такого не найдёте у себя в Ростовах, – нахваливал Лёшка, – тенёчек даже есть, клянусь своей треуголкой!
– Ну, если тенёчек, – хмыкнула Алинка, – тогда другое дело. Помчали давай. Тоже мне барон Мюнхаузен нашёлся!
И мы помчали. Никогда, мне казалось, я ещё не видела неба, такого ясного, яркого, как поле васильков; таких листьев нежных, сочных, ещё не опалённых южным зноем и оттого сияющих юной зеленью, дрожащих от шёпота ветра; не ощущала такого солнца, ослепительно белого, но с ласковыми лучами. Банты улетели. Причёски растрепались, юбки помялись. Но ни я, ни Алинка не расстроились: ведь, когда мотоциклы остановились на пригорке, и Лёха гордо произнёс: «Смотрите! Ну, что я говорил?», широким жестом обвёл кругом, восхищённо ахнули. Перед нами карьер – вода, что твой сапфир в золотой оправе, из песка.
Я стояла на крутом обрыве, счастливая, словно исследователь вулканов, который добрался до заветного кратера. И одинокая, будто пылинка, что медленно кружила и падала, падала в пропасть огромного, безжалостного мира.
«25 мая 23-00.
Еле успели на последнюю элекртичку. Лёшка не врал, Дневник. Изумительно! Когда мы спустились к карьеру, дух захватило. Можешь себе представить, синеву над собой и под ногами? Только над головой она дышит покоем, а внизу темнеет холодной угрозой. Когда чувствуешь ласковую ладонь на волосах и озноб одновременно, аж зубы сводит, потому что коснулся воды ступнями, как будто в горный родник вошёл. Это он, карьер. И на Земле можно найти космос!
А ещё с нами ездил Вадик. Спросил, почему я не приезжала на майские в Донской, не отмечала праздники там? Намекал, что кое-кто присутствовал. Пофигу. Хочу забыть навсегда, хочу…».
Вычеркнуть! Вычеркнуть тебя из жизни. И, если встречу когда-нибудь случайно, то пройду мимо, не волнуйся:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Июнь встретил ласково, словно отец дочку: сел на корточки и распахнул объятия. И бежишь к нему на встречу – сердчишко, что зайчонок тарабанит лапками по барабану; помнишь, что строг – экзамены, нелюбовь, но бежишь – душа пищит от радости. Вот, он какой июнь!
«4 июня.
Сдала, ура! Даже эту дурацкую информатику. Пацаны ржут – на счётах чего б не сдать. На отсталые ЭВМ намекают. Но, между прочим, в других школах и таких нет. А перед экзаменами мы писали сами на себя характеристики, в новую школу. Макарыч наш решил применить новаторский подход в педагогике, посмотреть, такие ли мы честные и принципиальные, дети перестройки, как ставим себя на классном часе. Да пожалуйста! Взяла и написала правду. Что не дисциплинированная, что учусь ниже своих способностей, что в общественной жизни ни класса, ни школы, участие не принимаю и всё в таком духе. Сдала Макарычу, ругала себя на все корки, душа набитая – ну кто с такой характеристикой в РИИЖТ возьмёт? Но вчера отдали аттестат, табель за 10-й класс, и писанину, думала, мою – нет, учителя. Там – всё с точностью до наоборот. Можно не волноваться – теперь возьмут. Осенью я буду учиться в школе при РИИЖТе. А как-то стыдно стало. Почему? Не пойму.
Приехал брат с женой из Первомайска на днях. Она, Машка, всё никак не могла мне простить то, что я не послушалась их, не пошла в технарь. Узнала о новости – успокоилась наконец-то. Они притаранили с Украины вещичек, я довольная, как стадо слонов! Мне перепало две кофточки велюровых, джинсы вельветовые и колготок пару штук. Одни обычные, а одни – вот, уматы – красные! А куда я в них пойду? Правильно, на концерт «Кино». К нам Цой приезжает, сам Цой!!! Лёшка достал билеты на нашу гоп-компанию, и с нас с Алинкой денег не взял. А ведь заплатил по червонцу у перекупов. Но я так рада, так рада! Услышу, увижу Виктора вживую! Я даже махнула рукой на то, что Олег, брат Лёхи, с которым меня стасануть Алинка хотела идёт, а мне жуть как перед ним стрёмно появляться после пьяных выходок на 9 мая. Олегов таких много, а Цой – один».
В общем, концерт. Событие грандиозное не только для нас, но и для наших родителей. Виктор Григорьевич, он же папа, один раз в жизни был «в концерте». На Эдиту Пьеху ходил в Москве, когда ездил в командировку. Костюм, бабочка, женщины в бархате, розы. Культурное, словом, мероприятие. И потому спокойно отпустил меня. Для папы, что опера в театре, что рок на стадионе – две птицы одного полёта. Так что от вечернего бархата еле отвертелась!
«8 июня.
Ой, чё было, чё было, Дневник! У меня от избытка чуйств не то, что язык, буквы заплетаются! Чертовски, считаю, повезло! Ведь мы даже на фильмы «Асса» и «Игла» ради Цоя ходили, а тут – вот он! На-сто-я-щий! Живой! Высокий, весь в чёрном. Его голос разносился над стадионом, словно мистическое эхо! Но и мы не подкачали: орали на всю Ивановскую, скандировали – горло осипло. Да, а ещё – нет худа без добра: один из наших, Лёхин друг Сашка, слишком раскричался, руками размахался. И его задержали, увели менты. После концерта мы пошли искать-выручать этого засранца. И чё? Сашку отпустили – раз, два – увидели Виктора с группой возле автобуса, очень близко, они грузили аппаратуру. Прикинь, Дневник! Сашка зазнался и требовал благодарностей. Получил по шее. В шутку, конечно!
Домой возвращались пешком через полгорода. Взахлёб рассказывали друг друг свои чувства, заново переживали этот миг. Усталость? – ни капли! Что – расстояние для тела, когда в душе и сердце – эйфория?! И мне теперь, как отцу, останутся кайфовые воспоминания!
14 июня.
Тут новость за новостью, скажу я тебе, Дневничок. Первая. Мы с Алинкой устроились на работу. Санитарками. На станцию переливания крови. Полы моем, в процедурках – всё, пробирки с колбами. Это – фу, самое противное! Кровь, плазма – беее, нашатырь кругом. Мне больше нравится в гардеробе – тапки, халат выдал, талончики в столовку. А доноры от них часто отказываются, и мы уже два раза побежали на халяву. Месяц отработаем – практика трудовая в кармане, и зарплата – 80 рубликов. Богатые будем, как Буратинки.
Вторая весть. Вадик же тоже ходил с нами «вконцерт», на Цоя. Я смотрю, он удачно вписался в нашу компашу и покидать её не собирается. Зачем ему это? Я догадываюсь вроде. Но в то же время верится с трудом. И думать не хочется, гоню мысли прочь, а они возвращаются, словно неваляшка – трынь-трынь – и на месте. Мне неловко, вдруг я вообразила себе чёрте чё, и приятно одновременно, льстит. Такой взрослый парень, а на тебе!
Ой, не надо, не надо, Дневник. Я помню. Помню. Он и с Леной, сестрой гулял – так расстались без обид. Женится вроде – уж сколько времени прошло, и где свадьба? А тот, «кто сидит в пруду» давно не страшен Крошке Еноту, то есть мне. Сам понимаешь, о ком я сейчас и о чём.
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор…*».
Ростов расцвёл платьями, яркими тентами уличных кафе, рассыпал бисер жёлтых бочек с квасом. Манил качелями на Левбердоне и прогулками на теплоходах. Автоматы с газировкой призывно урчали. По три копейки с сиропом, по одной – без. И тётя Рая с выпечкой у гостиницы «Московская» перешла с синих теней на веках – на зелёные перламутровые.
Лето! Гуляли каждый вечер почти, и всё с приключениями. Задавал им вектор тот же самый неугомонный Сашка. То ему скучно просто так в кино сидеть. Там, на экране, Зита и Гита страдает, или Митхун Чакробарти танцует, страдая, весь из себя в полосатых гетрах, блестящий от люрекса и слёз, а у нас пацан зевает. А после, отзевавши как завопит, передразнивая Раису: «Беляши, беляши горячие, налетай, не скупись, будет самой лучшей жизь!». Зал шикал. Зал возмущался. Сашка продолжал, давая ценные советы «ну хто ж так бьёт, тетеря!» и нам казалось, что индийский хулиган вздрагивал и недоумённо озирался – где ему кричат? Нас выгоняли с сеанса, а мы закатывались от смеха. То у Сашки беда: поругался со своей девчонкой. Поехали, помирите, а, ребзя? Куда? Да тут рядом. Три дня лесом, два дня полем, в новостройки. Время одиннадцать, транспорт уже не ходит, в такси все не поместимся, значит – пешком. По дороге нас догнал одинокий троллейбус с табличкой «до депо».
Вадим на светофоре постучал в дверь:
– Эй, друг, подвези!
И ведь поехали, не веря своему счастью. В пустом троллейбусе, с ветерком, с песнями. Выгрузились на остановке, индейцами прокрались под кусты заветной пятиэтажки и ну орать: «Зо-я! Зо-я! Выходи!» – пьяные от веселья, юности. Пьяные без вина. Лёшка запел. Вадим засвистел. Мы с Алинкой уши закрыли, а сами глазами по улице шарили, пути отхода искали. Боялись, что как вызовут сейчас люди наряд, будет нам и Зоя, и серенады. Сашкина невеста спустилась от греха подальше, благо без родителей. Помирили, ура! В общем, не июнь, а мама – анархия, папа – стакан портвейна!
«24 июня. 23-00.
Только что вернулась, Дневничок! Из деревни, да. Из Донского, прикинь? Вчера поехала. Всё-таки. Аж не верится. Но отец пристал, надо помочь, надо помочь. Да и по Лене соскучилась, по племяшкам! Мы как дали стране угля – сорнякам прикурить, а «колораду» просраться, а потом. Потом на дискач ходила. Угадай, с кем? Да я и не собиралась, туда идти честно-пречестно. Но встретила…», – я не дописала: раздался длиннющий звонок в дверь. Подскочила от испуга, уронила ручку. Папа – на сутках, Алинка – на свидании. Брат с Машкой уже уехали. Кто бы это мог быть, так поздно?
– Так вот как городские девчонки живут. А чё одна? – мне показалось, что Вадим заполнил собой и лестничную площадку, и коридор. Я растерянно замычала, но он и не слушал в общем-то. – Принимай сюрприз. Смотрю, стоит на перроне – «вся в слезах и в губной помаде перемазанное лицо».
Вадик чуть сдвинулся в сторонку – заплаканная Алина. Здрасте-приехали. Да что ж ещё случилось!
– Заходите уже, – зашипела я, не хватало собрать соседей здесь для полного комплекта, и папа завтра узнает всё, что они думают о его дочери, и о нём самом. Ничего нового, конечно, но хотелось бы обойтись в этот раз, настроение не то.
Ребята наконец ввалились в квартиру. Пока Вадим разглядывал комнату, по-хозяйски, не стесняясь, я утащила Алинку на кухню. Поставила чайник на плиту, достала стаканы, банку с сахаром.
– Что?!
Как много кроется в одном коротком слове. Подруга сразу поняла о чём я спрашиваю, и без предисловий приступила к делу.
«26 июня.
Я не понимаю, что с нами не так, Дневник? Ну, ладно – я. Столько эпитетов слышу про себя с тех пор, как ни стало мамы. Бледная – краше в гроб кладут. И отец не кормит меня (тут он сам виноват, вечно зовёт меня «худай-берды» при других), и с таким папашей я пойду… ой, да куда я только не пойду и по каким только дорожкам – кривым, косым, покачусь, сопьюсь. Плюс стесняюсь до слёз, трусиха, лентяйка – наборчик «найди и выбрось», но – Алинка! С ней что? Красивая – мама-не горюй! Умная. Уверенная в себе. Глаз не отвести. Вокруг неё вьётся парней – успевай отмахиваться. Но как до серьёзки доходит – всё мимо кассы. Кого ни возьми. И тут появился Лёша. А он!»
– А он сказал, – всхлипывала на кухне тем вечером подруга, – что ему пришла повестка из военкомата. Кончилась его отсрочка, призывают. И меня он, значит, освобождает от всех обязательств, ждать ни к чему. Я теперь – свободная на все четыре стороны. Потому что мы взрослые люди, и детский сад с ожиданием из армии ему не нужен. Понимаешь, как он оскорбил меня? Получается, не верит мне заранее, и никогда не верил?
«…и выдала – пусть будет ему хуже, раз такое дело. Закрутит с первым встречным, кто бы это ни был. Потом на кухню зашёл Вадик. С гитарой. Между прочим, взял её без спроса, твоя, говорит? Хотелось сбрехать – моя, и увидеть восхищение (вот зачем оно мне?), но призналась честно – брата. Сто лет ей в обед, она у нас с отцом – «особо ценный веник», дорога, о Сашке напоминает…».
– Не о том вы думаете, бабоньки, – усмехнулся Вадим, настраивая инструмент, – проще надо быть, проще, и люди к вам потянутся. Подрастёте – поймёте. Отпустил Лёха – радуйся. Помер Максим, да и хер с ним. Еда в доме есть? Жрать охота, аж переночевать негде. Щас спою, – подмигнул. Пришлось срочно искать куриную ногу, как тому псу из мультика про волка, чтобы не дать разгуляться любителю эстрады.
«Но Вадик всё равно запел. А мы ж с Алинкой ещё и подпевали, прикинь, Дневничок! Потому что он залез в холодильник и нашёл папкины запасы «зверобоевки». Я махнула рукой. Подруге немедленно потребовалось залить горе и набраться храбрости «перед прыжком в новую жизнь», в доме гость незванный, и вообще. А в частности мы сидели на кухне и орали шёпотом, если можно так выразиться, разные песни!»
Сначала:
– Чаек стон и шум волны передо мной,
Но сегодня мы не встретимся с тобой.
Ты ушла!
– Ушёл! – поправила Алинка, не соглашаясь с автором.
– Ты ушёл, и стала тёмною вода,
Ты ушёл, и не вернёшься никогда.
Но я не стану! – пел Вадик.
– Нет, не стану! – подвывали мы с Алинкой.
– Ждать тебя на берегу!
– Перестань!
– Не перестану! – возражали хором.
– Я жить так больше не могу!
– Объясни!
– Не объясню!
– Зачем уходишь от меня?
– Извини!
– Не извиню!
– Я все равно люблю тебя.
Потом перешли к «а ты опять сегодня не пришла», с колоколами и последними трамваями, и к «я ухожу, сказал мальчишка, и сквозь грусть, ты подожди, я не надолго я вернусь». Закончили на вполне радостной ноте про дембелей: «и куда не взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они». После чего один из артистов удалился спать, второй умчал на первую утреннюю электричку, а конферансье остался заметать следы посиделок и придумывать версию – куда делась бутылка из НЗ.
«29 июня.
Опять еду в деревню. И на дискач пойду, как в прошлый раз, да. Только тогда случайно получилось – встретила Вадика, он и позвал, я решила: пойду. Пойду и всё тут. Может, я надеялась на что? Не знаю. А теперь я еду, потому что. Потому что меня пригласил Вадим. Это так странно, Дневник. Всё странно, что сейчас происходит. Думала, раз я люблю кое-кого… нет, любила, (получается уже), то больше ни в чью сторону не посмотрю. Никогда! Тем более – на Вадика. Совсем не идеал для девушек. Нахальный, прёт, как танк, бабник – говорит Алинка, сразу видно, а мне – пофиг. Я не влюбилась, нет (кажется), но меня тянет! Влечёт, словно воришку в сад за яблоками ночью. Темно и страшно, но жуть, как интересно, и яблок хочется! А самое главное, Дневник! Я снова чувствую. Будто я возвращаюсь. К себе прежней. Живой!
3 июля.
Через 5 дней уезжаю к бабушке Шуре, маминой маме, в Прохладный. Здорово, когда есть две бабушки, есть где спрятаться от событий. Вроде бы. Да, Дневник? То степь, то горы. Разнообразие. Уеду на неделю. Будет время подумать, мне заявили. Над чем? Да над одним предложением. Вадик сказал, что пора вернуться к дебатам «а не годится ли он в женихи?». Помнишь, Дневник, он шутил об этом осенью, когда… ну, тогда! – ты понял. Я вяло отбрыкивалась, но не тут-то было. Получается, в каждой шутке есть доля шутки, остальное – всё правда.
Мы целую ночь просидели во дворе, болтали, смеялись и даже целовались!!! Как я могла? Могла. Как же кое-кто? Я забыла о нём?
«О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!»* – помню. Блин! Помню! И потому – сомнения, и раздвоение. За Алинку ещё волнуюсь, с её закидонами на первых встречных! Хорошо – тоже уезжает, с мамой в Москву. Встречаемся с ней 14-го, она приедет ко мне в Донской. С Вадиком – 13-го, в пятницу, на вокзале – приеду на день раньше. И чуть ли не с вагона, я должна ему сообщить о своём решении. Мама мия, ну, он гонит лошадей! А мне бы – чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…».
Время пролетело как один взмах ресниц. Прохладный, бабушка, день рожденье – на перемотке, не успела ни расслышать, ни рассмотреть, ни понять. Думы об одном, что скажу? Хочу ли? Любить – да, быть любимой – да, но – кем?
В который раз за год я спрыгнула на этот чёртов перрон с неясными надеждами и желаниями. Не жизнь, сплошное дежавю. Пони бегает по кругу, усмехнулась своим мыслям. Обогнула здание вокзала. Там за ним, на площади-пятачке мы договорились встретиться с Вадиком. Ждёт ли?
Ждал. И не один.
– Смотри, кто согласился нас подвезти!
Ты!
Ты стоял рядом с Вадиком, облокотившись на свой «Минск», как ни в чём не бывало.
Ой, мамочки! Что же теперь будет? Куда бежать?
Да никуда! Никуда. Никуда не сбежала, не упала в обморок. А только стояла в оцепенении, и ни буквочки, ни междометия вымолвить не могла. Никто ни о чём меня не спрашивал, но я точно знала, что стою перед выбором сейчас. Ты. Или Вадик.
Кто был бойцом невидимого фронта моей разбитой любви? Кто видел меня во всей красе, в горе и в радости, в пьянстве и в трезвости, и не отвернулся от меня? Кто встретил поздним вечером на вокзале рыдающую подругу и не бросил, а привёл ко мне домой? Кто осенью спас нас от неприятностей с милицией? В конце концов, кто не дал случиться аварии, лобовому столкновению с автобусом, рискуя своей жизнью? Вадик.
А что сделал ты? Скажи мне хоть слово. Скажи, хотя бы – зачем? Зачем предложил или, уж не знаю, как дело было, согласился подвезти нас с Вадиком? Зачем? Чтобы даже не сказать банальное «Привет»? Лишь таращился, будто совёнок, выпавший из гнезда.
– Поехали, – подошла я к Вадику. – Или лучше пешком прогуляемся?
– Да нет уж. Чё ж я зря транспорт организовал? Проедемся, на чём бог послал, – усмехнулся он.
Ты по-прежнему молчал. Так, значит? Ну, значит – так. Вот и решилось.
«18 июля.
В тот момент, когда я села на «Минскач», да и потом, во время поездки, меня не покидало, Дневник, странное ощущение. Или мысль. Не знаю, как это выразить. Ну, вот смотри.
Я ехала с пацанами, вернее между ними, словно тот «миг» из песни, «между прошлым и будущим». И притом я ехала в будущее, но за рулём находилось прошлое. Оно везло. Понимаешь? Путанно, да. Я и сама запуталась, но чувствую, что есть нечто неправильное, абсурдное в этой ситуации, в том, как сложилось. Жалею ли я, что так сложилось? Тоже – странно, но – нет, не жалею. Впервые за долгие недели мне спокойно душой. Только песня всё на уме крутится, как заводная.