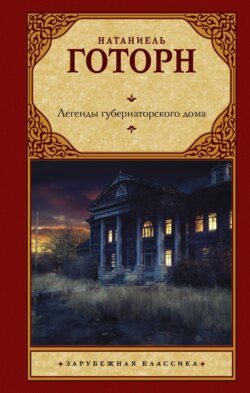Читать книгу Легенды губернаторского дома - Натаниель Готорн - Страница 4
Майское дерево Мерри-Маунта
ОглавлениеВ любопытной истории одного из первых поселений Новой Англии близ горы Уолластон, известного под именем Мерри-Маунт, или Веселая гора, кроется богатый материал для целого философского романа. В предлагаемом читателю беглом наброске сухие факты, обнаруженные нами в анналах Новой Англии, сами собою сложились в некую аллегорию. Праздничные обряды, ряженые и маски, упоминающиеся в рассказе, представлены в полном соответствии с обычаями той поры. Подтверждение этому читатель найдет в сочинении Стратта «Об играх и забавах англичан».
Весело жилось в Мерри-Маунте, когда на майском дереве развевался флаг этой беззаботной колонии! Если бы победа осталась за теми, кто водрузил в поселке символическое дерево, суровые холмы Новой Англии на долгие годы озарились бы солнечным светом, а земля ее покрылась бы неувядающим цветочным ковром. Здесь боролись за власть веселье и мрак. Наступил уже канун Иванова дня – время, когда древесная листва приобретает сочный густо-зеленый оттенок, а розы, которые природа рассыпает вокруг щедрой рукою, пышным цветом своим затмевают нежные бутоны весны. Но месяц май, или, вернее сказать, радость жизни, которую олицетворяет этот зеленый месяц, круглый год царила в Мерри-Маунте: резвилась вместе с летом, пировала вместе с осенью, а долгою зимою мирно грелась у камелька. С мечтательной улыбкой на устах порхала она над миром, полным трудов и забот, и в конце концов нашла себе пристанище среди беспечных колонистов Веселой горы.
Никогда еще майское дерево не красовалось тут в таком роскошном наряде, как в час заката накануне Иванова дня. Стволом ему служила сосна, сохранившая стройную гибкость молодости, но высотой уже соперничавшая с вековыми лесными исполинами. На верхушке развевался шелковый флаг всех цветов радуги. От самой земли ствол украшен был ветками березы и других деревьев, выбранными за особо яркую зелень или красивый серебристый цвет листвы; ветки эти крепились с помощью хитроумно привязанных лент, которые трепетали на ветру двумя десятками разнообразнейших, но исключительно веселых оттенков. Среди зелени, поблескивая каплями росы, мелькали и садовые цветы, и более скромные полевые; и все они имели такой свежий вид, что казалось, будто они сами, как по волшебству, выросли на этой необыкновенной сосне. Наверху же, где кончалось все это цветочно-лиственное великолепие, горело семью цветами радуги знамя колонии. На самой нижней ветке висел огромный венок из диких роз, собранных на солнечных лесных прогалинах, и из роз лучших английских сортов, выращенных в поселке. О жители золотого века! Из многоразличных трудов земледельца главным для вас было разведение цветов…
Но что за невиданный народ толпился, взявшись за руки, вокруг майского дерева? Неужто фавны и нимфы древности, изгнанные из античных рощ и прочих мифических обителей, нашли убежище, в числе других преследуемых, в заповедных лесах Нового Света? Нет, это были скорее какие-то средневековые чудовища, хотя, быть может, и происходившие от древнегреческих богов. На плечах одного из юношей вздымала ветвистые рога голова дикого оленя; на плечах другого скалилась свирепая волчья морда; третий, с человеческим телом, руками и ногами, был рогат и бородат, как почтенный старый козел. Имелся там и медведь на задних лапах – зверь зверем, если не считать красных шелковых чулок и башмаков с пряжками. И тут же – о чудо! – стоял и взаправдашний медведь, хозяин дремучего леса, ухватившись передними лапами за руки своих соседей по кругу, готовый вместе со всеми пуститься в пляс. И в этом диком хороводе его звериная природа не так уж сильно отличалась от людской… Иные лица смахивали на мужские и женские, или, скорее, походили на смехотворно искаженные их отражения в кривом зеркале: у одного свисал чуть не до подбородка непомерно длинный красный нос, у другого ухмылялся до ушей размалеванный рот. Здесь можно было видеть знакомую всем из геральдики фигуру дикаря – волосатого, словно павиан, в юбочке из зеленых листьев. Рядом с ним находился воинственный индеец – такой же ряженый, хоть и поблагороднее на вид, в боевом уборе из перьев, перепоясанный вампумом. Многие из этой пестрой компании щеголяли в шутовских колпаках и позвякивали пришитыми к одежде бубенчиками в такт неслышной для чужих ушей музыке, весело звеневшей в их сердцах. Были там и менее казисто одетые юноши и девушки, но их присутствие среди разномастной толпы не слишком бросалось в глаза, поскольку лица их носили печать всеобщей необузданной веселости. Такое зрелище являли собою колонисты Мерри-Маунта, собравшись при ласковом свете заката вокруг почитаемого ими майского дерева.
Если бы странник, сбившийся с дороги в этом сумрачном лесу, заслышал их смех и гомон и украдкой бросил взгляд в их сторону, то в испуге решил бы, что перед ним сам бог Комус в окружении своих приспешников, которые либо уже оборотились в диких зверей – кто целиком, а кто наполовину, – либо вот-вот оборотятся, а пока предаются неуемному пьяному разгулу. Но для отряда пуритан, наблюдавших описанную сцену без ведома ее участников, все эти шуты и скоморохи были погибшими душами, воплощением нечистой силы, водившейся, по их поверьям, в здешних лесах.
В хороводе чудовищных личин выделялись два ангелоподобных существа, коим бы пристало не ступать по твердой земле, а парить на золотисто-розовом облачке. Один был юноша в одежде, сплошь расшитой блестками, с двойною перевязью всех цветов радуги на груди. В правой руке он держал золоченый посох – знак его особого положения среди присутствующих, а левой сжимал нежные пальчики прелестной юной девушки в столь же ослепительном наряде. В темных шелковистых кудрях у обоих пламенели алые розы, и земля вокруг тоже была усыпана розами – впрочем, возможно, что цветы эти сами расцвели у их ног. Против них, у самого ствола майского дерева, тень от ветвей которого играла на его жизнерадостной физиономии, стоял англиканский священник в традиционном облачении, однако тоже разубранный цветами на языческий лад; на голове у него красовался венок из листьев местного дикого винограда. Его бесшабашно-веселый вид и кощунственное пренебрежение к священному одеянию выдавали в этом человеке главного заводилу праздника: казалось, он и есть сам Комус, собравший вокруг себя чудовищный сонм своих приспешников.
– Служители майского дерева! – возгласил этот странный пастор. – Весь нынешний день окрестные леса звенели эхом вашего веселья. Но теперь настал самый веселый ваш час, дети мои! Перед вами майские король и королева, которых я, оксфордский клирик и верховный жрец Веселой горы, намерен сочетать священными узами брака. Внемлите мне, плясуны, певцы и музыканты! Внемлите, старцы и девицы, и вы, волки и медведи, и все остальные, рогатые и бородатые! Затянем хором нашу праздничную песню – пусть она гремит, как в доброй старой Англии, пусть вольется в нее шум весеннего леса! А потом дружно пустимся в пляс и покажем нашей юной паре, что такое жизнь и с каким легким сердцем надо шагать по ней! Итак, всех, кто поклоняется майскому дереву, я призываю вплести свой голос в свадебный гимн в честь короля и королевы!
Объявленное таким странным образом бракосочетание было задумано всерьез – не в пример обычному круговороту событий в Мерри-Маунте, где потехи и забавы, лицедейство и притворство сливались в беспрерывный карнавал. Майские король и королева – правда, этот почетный титул они должны были сложить с себя в момент заката солнца – действительно собирались стать спутниками на жизненном пути, а вернее сказать, партнерами в жизненном танце, и первые па им предстояло сделать именно в этот радостный вечер. Венок из роз, украшавший нижнюю ветку майского дерева, сплетен был нарочно для них: ему надлежало стать символом их увенчанного цветами союза. Как только священник окончил свою речь, толпа чудовищ разразилась возгласами неистового ликования.
– Начните вы, преподобный отец, – раздался единодушный клич, – а мы подхватим, и здешние леса услышат такой веселый хор, какого еще не слыхивали!
И тотчас из ближних зарослей полились звуки музыки – то запели свирель, контрабас и кифара под пальцами искусных менестрелей, и заразительный их напев заставил даже ветки майского дерева заколыхаться в ритме танца. Но майский король – юноша с золоченым посохом, наклонившись к своей королеве, поражен был задумчиво-печальным взглядом ее глаз.
– Эдит, прекрасная моя королева, – шепнул он с легким укором, – отчего ты так грустна? Или эта розовая гирлянда кажется тебе нашим похоронным венком? О, Эдит, это наш золотой час! Не омрачай же его своей задумчивостью; может статься, до конца жизни у нас не будет ничего счастливее простого воспоминания о том, что происходит сейчас.
– Потому я и грущу, что думаю об этом. Как ты догадался? – отвечала Эдит еле слышно, ибо любое проявление печали в хороводе у майского дерева считалось изменою. – Потому я и вздыхаю при звуках этой праздничной музыки. И знаешь ли, милый мой Эдгар, мне кажется, что я сплю и вижу дурной сон, что вокруг меня одни лишь призраки, и веселье у них не настоящее, и на самом деле ты вовсе не майский король, а я не королева. Какая-то тревога гложет мне сердце…
В этот миг, словно расколдованные от долгой спячки, лепестки вянущих роз дождем посыпались с майского дерева. Ах, бедные влюбленные! Как только в их юных сердцах зажглось пламя подлинного чувства, в души к ним проникло ощущение непрочности и легковесности их прежних забав и утех – вместе со зловещим предчувствием неминуемых перемен. Полюбив, они отдались во власть забот и печалей – обычного удела людей; радость их не была уже безоблачной, и среди жителей Веселой горы они более не находили себе места. Таковы были причины неясной тревоги, охватившей молодую девушку. Но оставим это шумное сборище – пусть священник венчает нашу майскую пару, пусть все пляшут и веселятся: есть еще время до заката, до той минуты, когда угаснет последний солнечный луч и мрачные тени лесных деревьев смешаются с хороводом ряженых. Оставим их – и посмотрим, откуда взялся этот беззаботный народ.
Две сотни лет назад, а то и больше, Старый Свет и его обитатели поняли, что изрядно надоели друг другу. Тысячи людей стали отправляться на запад: одни затем, чтобы менять стеклянные бусы и тому подобные побрякушки на меха, добытые индейцами; другие затем, чтобы покорять неведомые земли; третьи – угрюмые аскеты – затем, чтобы молиться. Но первые поселенцы Мерри-Маунта не принадлежали ни к одной из этих групп, и к отъезду их побудило совсем иное. Во главе их стояли люди, всю молодость проведшие в забавах и увеселениях: даже Разум и Мудрость зрелых лет не могли побороть их суетность и тщеславие – и, более того, не устояли сами перед тысячью житейских соблазнов. Сбитый с толку Разум и вывернутая наизнанку Мудрость нацепили карнавальные личины и принялись корчить шутов. Утратив задор и непосредственность юности, люди, о которых мы ведем речь, решились покинуть родину и на новом месте осуществить идеал своей доморощенной безумной философии: удовольствие превыше всего. Они собрали под свое знамя представителей того ветреного племени, чья повседневность неотличима от праздников их более трезвых соотечественников. Были там бродячие музыканты, хорошо известные на улицах Лондона; странствующие комедианты, дававшие представления в домах знати; скоморохи, канатные плясуны, шуты и гаеры, без которых в доброй старой Англии не обходились ярмарки, сельские пирушки и престольные праздники, – короче говоря, там были все, кто умел потешить публику, а умельцев таких в те времена было хоть отбавляй, и многие из них на собственной шкуре успели испытать, чем грозит им распространение пуританства. Они шли по жизни не задумываясь – и так же, не задумываясь пустились в плавание через океан. Одни, побывав во многих передрягах, впали в какое-то веселое отчаяние; другие отчаянно веселились просто потому, что были молоды – как майские король и королева, – но каковы бы ни были поводы для веселья, все первые поселенцы Мерри-Маунта, молодые и старые, веселились напропалую. Молодежь ничего лучшего и не желала и почитала себя вполне счастливою; люди же постарше, если и сознавали, что веселье не замена счастию, по собственной охоте следовали за этой лукавой тенью, поскольку ее одежды блестели ярче других. Дав обет без оглядки растратить свою жизнь на пустые утехи, они и слышать не хотели о более суровой жизненной правде – даже во имя истинного спасения.
Новосельцы пересадили на другую почву все традиционные забавы старой Англии. На Рождество устраивалась шуточная коронация рождественского короля; во главе праздничного стола величественно восседал председатель «пира дураков». В канун Иванова дня целые участки леса вырубались и шли на костры, и колонисты всю ночь напролет плясали вокруг них в цветочных венках и бросали цветы в огонь. Во время жатвы, как бы ни был скуден урожай, они мастерили из снопов огромное чучело, разукрашивали его гирляндами плодов и листьев и торжественно несли домой. Но главным предметом культа у жителей Мерри-Маунта было, разумеется, майское дерево, и потому история ранних лет поселения читается как волшебная сказка. Весной майское дерево убиралось первыми цветами и молодыми побегами; летом его наряд составляли пышные розы и густая лесная листва; осень приносила великолепие золота и пурпура, превращавшее любой древесный лист в произведение искусства; зима развешивала на ветвях ледяные сосульки и серебрила инеем ствол майского дерева, так что все оно сияло и сверкало, как застывший солнечный луч. Всякое время года воздавало на свой лад почести и платило доброхотную дань майскому дереву. Его восторженные почитатели по крайней мере раз в месяц сходились плясать вокруг дерева, называли его своим алтарем, своей святыней, и всегда на нем развевалось семицветное знамя Веселой горы.
К несчастью, не все в Новом Свете придерживались той же веры, что поклонники майского дерева. Недалеко от Мерри-Маунта находился поселок пуритан – мрачных фанатиков, которые до свету служили заутреню и день-деньской трудились в лесу или на пашне, пока не наступало время служить вечерню. Они не расставались с оружием и пускали его в ход при любой случайной встрече с дикарями. Вместе они сходились отнюдь не для веселья, а для того лишь, чтобы слушать многочасовые проповеди или назначать награды за волчью шкуру или индейский скальп. По праздникам они постились, а в виде развлечения пели хором псалмы. И беда тому юнцу или девице, которые посмели бы выказать желание потанцевать! Старейшина делал знак констеблю – и легкий на ногу преступник уже сидел в колодках, а если и доводилось ему поплясать, то разве что вокруг позорного столба – этого пуританского майского дерева.
Отряды суровых пуритан, с трудом продираясь сквозь чащу, приближались иногда к залитым солнцем владениям Мерри-Маунта. Обремененные железными доспехами, какие впору было бы навьючить на лошадь, они наблюдали из-за кустов, как разодетые в шелк колонисты скачут вокруг майского дерева. То они обучали медведя плясать и выделывать разные штуки, то старались втянуть в свои забавы степенного индейского вождя, то рядились в шкуры оленей и волков, на которых охотились с этой именно целью. Частенько затевалась общая игра в жмурки: всем жителям колонии, включая членов местной управы, завязывали глаза, и все наперебой гонялись за каким-нибудь козлом отпущения, который еле увертывался от своих преследователей, жалобно позвякивая пришитыми к одежде бубенчиками. Говорят, что однажды пуритане видели в Мерри-Маунте похоронную процессию, когда усопшего, убранного цветами, провожали к могиле с музыкой и хохотом. Один покойник не смеялся… В более тихие часы они распевали баллады и рассказывали сказки, просвещая тем самым своих набожных посетителей, или поражали их ловкостью рук, показывая фокусы, или, просунув голову в лошадиный хомут, строили дурацкие рожи. Когда же им приедался весь этот балаган, они, не теряя чувства юмора, устраивали конкурс на самый продолжительный и звучный зевок. Железные пуритане качали головой при виде всех этих безобразий и так сурово хмурились, что весельчаки невольно поднимали глаза кверху, глядя, не набежала ли на солнце тучка, – а солнечным светом они дорожили превыше всего. Пуритане, в свою очередь, утверждали, что, когда из их святилища неслось псалмопение, эхо его, возвращаясь из леса, сильно смахивало на припев озорной песни, завершавшийся раскатом хохота. Кто же так докучал им, если не сам дьявол и его верные слуги – шайка обитателей Мерри-Маунта? Вражда между подобными соседями была неизбежна – и она началась. Со стороны пуритан это была вражда угрюмая и ожесточенная, а со стороны колонистов Мерри-Маунта – настолько серьезная, насколько серьезность вообще допускалась в среде легкомысленных поклонников майского дерева. От исхода этой вражды зависел будущий характер Новой Англии. Если бы нетерпимые праведники одержали верх над беспечными грешниками и установили свои законы, мрачный дух пуританства навсегда превратил бы этот край в царство грозовых туч, унылых лиц, безрадостного труда, псалмов и проповедей. Если же знамя победы взвилось бы над Веселой горой, здесь не бывало бы пасмурных дней; на полях и лугах круглый год цвели бы цветы, и отдаленные потомки колонистов воздавали бы почести майскому дереву.
Покончив с этими историческими отступлениями (за их подлинность мы ручаемся), вернемся теперь к нашей свадебной церемонии. Увы! Мы слишком много времени уделили истории, и события успели приблизиться к печальной развязке. Одинокий закатный луч освещает только самую верхушку ствола и золотит трепещущий на ней радужный флаг, но вот-вот угаснет и этот последний отблеск. На смену зыбкому свету сумерек приходит вечерняя мгла, и из темного леса к Веселой горе со всех сторон подступают зловещие тени. И самые мрачные из них – тени в людском обличье – внезапно врываются в ликующий майский хоровод…
Так завершился последний радостный день в жизни обитателей Мерри-Маунта. Круг ряженых смешался и рассыпался; олень в смущении понурил свои великолепные рога; волк сделался слаб, как ягненок; бубенчики на шутовских колпаках зазвенели от страха. Пуритане вступили в игру, словно им тоже была отведена роль в карнавале их недругов. Черные силуэты пришельцев смешались с толпою ряженых, и вся эта сумятица похожа была на картину человеческого сознания в минуту пробуждения от сна, когда трезвые мысли дня вторгаются в самую гущу не успевших еще развеяться ночных фантазий. Предводитель пуритан стал в центре круга и обвел грозным взглядом сонм чудовищ, которые съежились от страха, словно злые духи при появлении всемогущего чародея. В его присутствии немыслимы были шутовство и фиглярство. Наружность этого человека была так сурова и неприступна, что и душа его, и тело казались выкованными из одного куска железа, наделенного способностью дышать и мыслить; он составлял как бы единое целое со своим шлемом и панцирем. То был пуританин из пуритан – то был сам Эндикотт!
– Изыди, жрец Ваала! – прогремел он, обратившись к священнику и оттолкнув его прочь без всякого почтения к духовному сану. – Я знаю тебя – ты Блэкстон![1] Ты не желал блюсти законы своей же богопротивной церкви и явился сюда проповедовать порок, подавая пример собственными деяниями. Но настал час показать всем, что не напрасно Господь освятил сии пустынные места, даровав их избранному своему народу! Горе тому, кто посмеет осквернить их! И первым делом пора покончить с гнусным алтарем богохульства и идолопоклонства! Мы свалим это разубранное цветами бревно!
И, выхватив из ножен шпагу, Эндикотт нанес сокрушительный удар по славному майскому дереву. Сопротивлялось оно недолго. Унывно застонав, стряхнуло на плечи неистового своего противника целый каскад лепестков и листьев – и стройный сосновый ствол покачнулся и рухнул наземь со всеми ветками, цветами и лентами, как древко побежденного знамени, как символ минувшего счастья. Легенда утверждает, что небо после этого сразу потемнело и тени от деревьев сделались еще более зловещими.
– Конец! – воскликнул Эндикотт, обозревая с торжеством плоды своих трудов. – Конец последнему в Новой Англии майскому дереву! Оно повержено во прах, но это лишь первый шаг: я твердо верю, что подобная судьба уготована всем шутам и бездельникам среди нас и среди наших потомков. Аминь! Так говорю я, Джон Эндикотт!
– Аминь! – подхватили его товарищи.
Но из уст почитателей майского дерева при виде их низвергнутого идола вырвался глухой стон. Услышав этот стон, вождь пуритан обвел глазами пеструю толпу ряженых: маски по-прежнему скалили свои хохочущие рты, но странным образом выражали теперь скорбь и смятение.
– Доблестный капитан, – произнес Питер Пэлфри, старейшина отряда, – что делать с пленными?
– Я полагал, что, сокрушив майское дерево, не стану сожалеть о нем, – ответил Эндикотт, – но теперь почти готов водрузить его на прежнее место и заставить каждого из этих богомерзких язычников еще раз хорошенько поплясать вокруг своего кумира. Отменный получился бы позорный столб!
– Тут и сосен в избытке, – возразил Питер Пэлфри.
– Твоя правда, почтеннейший, – согласился капитан. – Итак, свяжите эту банду идолопоклонников да задайте-ка им плетей для начала; позднее суд назначит им всем наказание по справедливости. Самых отпетых негодяев нехудо бы посадить в колодки, чтобы поразмыслили на досуге, но придется подождать, пока мы с божьей помощью доберемся до одного из наших благоустроенных поселений. Приказ относительно дальнейших мер, как то: клеймение, отрезание ушей и прочее воспоследует в самом скором времени.
– Сколько плетей назначить попу? – спросил старейшина.
– Этого пока оставьте, – ответил Эндикотт, метнув на преступника суровый взгляд из-под насупленных бровей. – Его гнусные злодеяния будет рассматривать Генеральный суд – он один полномочен решить, достаточно ли подвергнуть его обычному наказанию плетьми либо длительному тюремному заключению, или же он достоин более строгой кары. Пусть знает, что получит по заслугам! К тем, кто нарушает гражданские законы, допустимо иногда проявить милосердие, но горе тому нечестивцу, который посягнет на нашу веру!
– А что делать с медведем? – продолжал допытываться старейшина. – Выпороть, как прочих плясунов?
– Сей же час пристрелите его! – распорядился энергичный пуританин. – Я подозреваю, что в этом звере сидит нечистая сила!
– А вот еще пара красавчиков! – добавил Питер Пэлфри, указывая на майского короля и королеву. – Эти, по всему видать, в особом почете у шайки кознодеев, так что заслуживают по меньшей мере двойной порции плетей!
Опершись на свою шпагу, Эндикотт смерил пронизывающим взглядом нашу злосчастную чету. Они стояли перед ним, потупив глаза, бледные и смятенные, но лица и позы их выражали взаимную поддержку и нежное участие, кроткую мольбу о помощи и готовность оказать ее; видно было, что это истинные муж и жена, союз которых благословлен и узаконен. В минуту опасности юноша бросил свой золоченый посох и обнял майскую королеву, которая доверчиво прильнула к его груди, и они продолжали стоять обнявшись, как бы показывая, что судьбы их навеки связаны, что они будут вместе и в радости, и в горе. Поняв, что очередь дошла до них, они сперва взглянули друг на друга, а потом подняли глаза на неумолимого капитана. Это был первый час их супружества – час, когда праздное веселье, олицетворявшееся их товарищами, отступило перед суровыми жизненными невзгодами в лице угрюмых пуритан. И никогда их юная, цветущая красота не представлялась более чистой и одухотворенной, чем в годину напасти.
– Юноша, – произнес Эндикотт, – дела твои плохи: вы оба повинны в беззаконии – и ты, и твоя невеста. Приготовьтесь же – я намерен сделать так, чтобы вы на всю жизнь запомнили день вашей свадьбы!
– О, грозный воин, – воскликнул майский король, – как могу я разжалобить твое жестокое сердце? Будь я вооружен, я сражался бы до последнего вздоха, но я беспомощен и вынужден просить милости. Делай со мной все, что хочешь, но пощади мою жену и отпусти с миром!
– Как бы не так! – возразил неумолимый фанатик. – Не в обычае у нас проявлять преступное снисхождение к полу, который надлежит содержать в вящей строгости. А ты что скажешь, девушка? Согласна ли ты, чтобы твой раззолоченный жених принял на себя двойную кару?
– Пусть этой карой будет смерть, – ответила Эдит, – и пусть она постигнет меня одну!
Эндикотт не погрешил против истины – дела нашей юной четы и впрямь выглядели скверно. Их враги торжествовали победу, их друзья были схвачены и подвергнуты унижениям; вместо крова у них был объятый мраком лес, и проводником их в этих дебрях была жестокосердая судьба, принявшая обличье пуританского вождя. Однако в густеющем свете сумерек они заметили, что железный человек слегка смягчился: трогательное зрелище юной любви вызвало на его губах улыбку, и он украдкой вздохнул о неизбежном крушении юных надежд.
– Невзгоды рано коснулись этой молодой пары, – промолвил Эндикотт. – Посмотрим, как они справятся с первым своим испытанием, прежде чем подвергнутся новым. Если есть среди добычи одежда попристойнее, дайте ее этому франту и его невесте: пусть скинут с себя всю прежнюю мишуру, дабы суетность и тщеславие никогда больше не касались их! Займитесь ими кто-нибудь!
– Не обстричь ли молодцу волосы? – спросил Питер Пэлфри, глядя с отвращением на длинные шелковистые кудри майского короля, затенявшие его лоб и спадавшие до самых плеч.
– Обстригите его немедля, да как положено – наголо! – приказал капитан. – И уведите их отсюда вместе с остальными, но не будьте с ними чересчур суровы. В юноше я замечаю свойства, которые могут сделать из него храброго воина, усердного труженика и набожного христианина, а его невеста, быть может, станет в нашем Израиле добропорядочной матерью и сумеет воспитать свое потомство в более праведном духе, чем воспитали ее самое. Мы живем на этом свете лишь мгновение, и не в том счастье, чтобы тратить отпущенный нам краткий миг на пляски вокруг майского дерева!
С этими словами Эндикотт, самый твердокаменный из всех пуритан – родоначальников уклада Новой Англии, поднял с земли розовый венок, чудом уцелевший среди остатков майского дерева, и своей рукой в тяжелой рукавице накинул его на плечи майского короля и королевы. Этот жест оказался пророческим. Подобно тому как жизненные уроки затмевают недолговечные людские радости, дремучие леса Новой Англии заполонили тот приют беззаботного веселья, где выросли наши герои: их дом подвергся опустошению, и возврата назад для них не было. Но увенчавшая их гирлянда роз сплетена была из самых ярких и душистых цветов во всей округе, и потому в соединившие их брачные узы вплелись все самые чистые и светлые радости их юных лет. Они пошли путем спасения, поддерживая друг друга на этом многотрудном пути, и ни единой мыслью не сожалели о суете и тщеславии, царивших когда-то на Веселой горе.
1
Если бы губернатор Эндикотт не назвал так недвусмысленно этого имени, мы склонны были бы заподозрить в архивной записи какую-то ошибку. Преподобный Блэкстон действительно обладал причудами, но не был, по имеющимся сведениям, человеком безнравственным, поэтому мы оставляем за собой право усомнитъся в его тождестве с выведенным здесь священником. – Прим. авт.