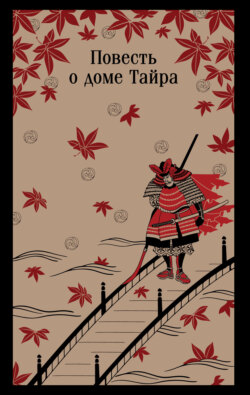Читать книгу Повесть о доме Тайра - Неизвестный автор - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие
IX
ОглавлениеРазностильность «Повести о доме Тайра» привлекала внимание японских филологов с первых же шагов современной японской филологической науки еще на рубеже XX века. В самом деле, в «Повести» наряду с просторечиями используется высокая лексика буддийской молитвы, встречаются сугубо китаизированные пассажи и тут же отрывки, восходящие к хэйанской прозе, написанные в чисто японском стиле (яп. «вабун»); изящные стихи танка соседствуют с бранными словами, которыми обмениваются самураи перед началом битвы, сухой язык исторической хроники сменяется патетическими сердечными излияниями, деловой стиль документальной записи – лирическими описаниями пейзажа… Было время, когда такой разнобой считался недостатком, ныне мы усматриваем в этой кажущейся пестроте характерные приметы средневековой литературы и – да простит нас читатель! – не можем удержаться от того, чтобы еще раз не процитировать академика Д. С. Лихачева:
«…Легко заметить различия в языке одного и того же писателя: философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах – к народнорусизмам. Литературный язык отнюдь не один. В этом нетрудно убедиться, перечитав „Поучение“ Мономаха: язык этого произведения „трехслоен“ – в нем есть и церковнославянская стихия, и деловая, и народно-поэтическая… Если бы мы судили об авторстве этого произведения только по стилю, то могло бы случиться, что мы приписали бы его трем авторам. Но дело в том, что каждая манера, каждый из стилей литературного языка и даже каждый из языков… употреблен им со средневековой точки зрения вполне уместно, в зависимости от того, касается ли Мономах церковных сюжетов (в широком смысле), или своих походов, или душевного состояния своей молодой снохи»[9]. «Этот средневековый этикет в употреблении соответствующего языка или стиля наблюдался не только на Руси, – пишет далее академик Лихачев. – Он еще значительнее в средневековых литературах многих других народов»[10].
«Повесть о доме Тайра» – наглядный пример такого дифференцированного использования разных стилистических «слоев» языка. Словесные формулы, то и дело разбросанные по тексту («Один равен тысяче!» – для описания воинской доблести, восклицание «Ближние да увидят, дальние да услышат!» – перед началом поединка, формула «… припадая к земле, взывая к небу…» – для выражения крайней степени горя), восходят к фольклорным истокам «Повести», в то время как цитаты из стихов Бо Цзюйи или из исторических трудов Сыма Цяня сразу переносят нас в атмосферу высокой литературы.
«Повесть» сыграла важную роль в дальнейшем развитии японской литературы. Прежде всего она написана в основном языком, близким к живому разговорному языку своего времени, в лексический состав которого уже прочно вошли к тому времени многие китайские заимствования. Что касается чисто стилистических фигур, то здесь впервые в японской литературе встречается прямой диалог, не сопровождаемый авторскими ремарками типа «…сказал он», «…спросил он». Наконец, здесь перед нами новый своеобразный жанр, впоследствии широко распространенный в японской литературе и получивший специальное наименование «митиюки» (странствие), – лирическое описание путешествия на фоне сменяющих друг друга картин природы, в духе национальной традиции всегда гармонирующих с душевным настроением человека.
Важную роль играет в «Повести» поэзия, выполняющая функцию как бы музыкального лирического аккомпанемента прозе. В «Повести» представлены почти все разнообразные поэтические жанры, существовавшие к тому времени в японской литературе, и, что особенно примечательно, вновь возродились к жизни после многовекового перерыва длинные стихи неограниченного размера, широко бытовавшие в древности в народной поэзии. Такие длинные стихи еще встречались в знаменитой поэтической антологии VIII века «Манъёсю», но затем надолго исчезли из японской литературы, уступив место кратким стихотворениям танка. Богатая поэтическая традиция предыдущих веков, как фольклорная, так и авторская, привела к тому, что образное мышление героев «Повести» во многом определяется устойчивыми поэтическими клише. Все это усиливало эмоциональное воздействие «Повести», прямо и непосредственно апеллировало к сердцам слушателей (не забудем, что «Повесть» предназначалась в первую очередь для устного исполнения, в особенности – ее наиболее знаменитые лирические отрывки, такие, например, как главы заключительной части).
Передать все это стилистическое богатство средствами современного русского языка – задача сверхтрудная, и переводчики полностью отдают себе в этом отчет. Окидывая мысленным взглядом проделанную работу, нам остается лишь повторить известную поговорку: «Feci, quod potui, faciant meliora potentes»[11].
Перевод (сокращенный) сделан с издания «Большая серия японской классической литературы», тт. 32 и 33. «Повесть о доме Тайра» под ред. И. Такаги, М. Нисио, С. Хисамацу, И. Асоо, С. Токиэда, издательство «Иванами-сётэн», Токио, 1973, а также с издания: «Повесть о доме Тайра» под ред. Хатиро Сасаки, издательство «Мэйдзи-сёин», Токио, 1964.
В основу комментариев положен в первую очередь фундаментальный научный комментарий профессора Хатиро Сасаки, ныне покойного, опубликованный в вышеупомянутом издании, а также труды ученых: перевод и комментарии к «Историческим запискам» Сыма Цяня, выполненный Р. В. Вяткиным и В. С. Таскиным, переводы стихов Бо Цзюйи, созданные Л. 3. Эйдлиным, и ряд других работ востоковедов.
Переводчик считает своим долгом выразить глубокую благодарность господину Масааки Кадзихаре, доценту университета Васэда в Токио, за ценные советы и разъяснения, без которых было бы невозможно осуществление данного перевода, а также господину Юдзиро Иванами, главе издательства «Иванами-сётэн», за разнообразные ценные материалы, во многом облегчившие работу над переводом.
Особо хотелось бы поблагодарить за дружеские советы и помощь ученых – доктора филологических наук П. А. Воронину, кандидатов филологических наук Д. Н. Воскресенского и Л. Е. Померанцеву и в особенности доктора филологических наук В. Л. Рифтина, взявшего на себя немалый труд просмотреть и исправить обширную китайскую часть комментариев.
Только благодаря доброжелательному участию и активному содействию столь многих людей как в России, так и в Японии стало возможным появление русского перевода «Повести о доме Тайра».
Ирина Львова
9
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 86.
10
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 91.
11
Сделал, что мог, пусть, кто может, сделает лучше (лат.).