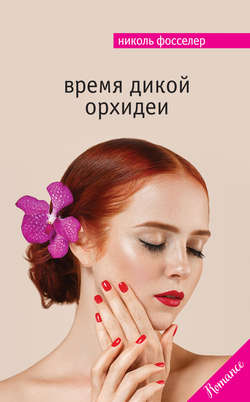Читать книгу Время дикой орхидеи - Николь Фосселер - Страница 2
ОглавлениеВсем мечтателям этого мира, сердца которых необъятны и глубоки, как океан.
Неистовые превращенья страсти я познал, но лишь уху влюбленного отважусь поведать о том, что случилось со мной.
Уильям Вордсворт
Сердце само по себе судьба.
Филип Джеймс Бейли
Небо полыхало.
Яркое пламя горело над горизонтом, взмывая высоко вверх. Первые слои облаков улавливали огонь, и море окрашивалось жаром расплава, капающего с облачных краев.
Отзвуки стрельбы еще потрескивали над водой. Эхо звона клинков друг о друга. Обрывки мужских голосов и криков, разорванных в битве и рассеянных в черноте ночи.
Он сам не знал, как очутился за бортом в тот час, когда бледнели звезды и разрежалась темнота, пока солнце не пробилось сквозь линию горизонта и не подожгло первые искры света.
То ли он потерял равновесие, уклоняясь от удара меча. Или его сбило пулей. Или он просто упал, а может быть, даже и прыгнул, охваченный неукротимой жаждой жизни, подгоняемый постыдной трусостью.
Он камнем ушел в глубину, под темные воды, вонзившие свои соленые клыки в его раны, и разящая боль разметала его.
Мгновение бессознательной пустоты. Бескрайнего Ничто.
Потом вновь забрезжило сознание.
Ребра сдавило, легкие разрывались, он отчаянно стал выгребать вверх. И вынырнул из бездны, жадно хватая ртом воздух.
Ветер оставлял на языке привкус дыма, красной пыли и пепла. Одна сторона его тела была обездвижена, он греб одной рукой, продвигаясь сквозь золотой, как расплавленный шафран, свет, мешавшийся с голубой дымкой раннего утра. Под силуэтами птиц, кружащих над ним, и хриплыми криками, пробуждающих новый день. В сторону острова, куда безошибочно указывал его внутренний компас. Как черепаха, десятилетиями бороздящая океан, находит берег, где когда-то вылупилась из яйца.
Море теряло терпение, подхлестывало его со всех сторон, нещадно швыряло. Он почувствовал приближение волны еще до того, как услышал ее, и покорно отдался ее воле, дал ей захватить себя и потащить, и она накрыла его, увлекла за собой в глубину почти до самого дна. И – будто последняя родовая схватка, что вынесла его на белый свет из материнской утробы – изрыгнула на сушу.
В ушах стоял гул, сердце стучало, как сумасшедшее, он бессознательно полз вперед, прочь от беснующейся воды. Песок больно набился в раны. Камни и колючки царапали кожу.
Гладкая белизна домов отражала свет восходящего солнца, и он ослепленно щурился. Стройные тени оказались деревьями, молчаливыми стражами садов за оградами. Изгородь была низкая, сады были ухоженными, ни одного на отшибе, и меж ними изрядно оставалось пустого пространства, не обещавшего ему никакого укрытия.
Он высмотрел темную гущу листвы в стороне. Уголок дикого запустения, почти нереальный в этом саду, в шлейфе дымки и пара. Там, где змеилась пыльная лента прибрежной дороги, Джалан Пантай, куда достигали волны – изгиб лукоморья.
Слишком измученный, чтобы пробиться к реке, слишком молодой, чтобы сдаться, он медлил.
Вскинув подбородок, с прямой спиной – на пороге дома стояла девочка.
Все они явились в этот знаменательный день. Все мои рыцари и аристократы. Все мудрецы и маги, волшебницы, феи. Из самых дальних краев моего королевства, со всех четырех сторон света они прибыли, чтобы засвидетельствовать мне свою благодарность.
Изящно растопырив детские пальчики, она раскрыла объятия:
– Встаньте же.
Под шорох невесомых шелков толпа поднялась, как море в прилив, мужчины завершили почтительные поклоны, женщины – глубокие книксены. И словно цветы, что поворачиваются вслед за солнцем, все лица обратились к ней.
Подобрав руками узорчатый подол саронга, она медленно спускалась по ступеням.
Корона тяжело давила на голову, но она несла ее с величайшим достоинством. Шелк роскошного наряда шуршал с величественной изысканностью, и каждый ее шаг в расшитых золотом восточных туфлях отдавался от стен, инкрустированных самоцветами. Шаги были легкие, она, казалось, едва касалась подошвами гладких плит пола.
Легкая улыбка блуждала у нее на губах, когда она шла по невысокой жесткой траве.
Толпа благоговейно расступилась. Многоголосый шепот пронесся по залу, затухая меж могучих колонн из темного мрамора и теряясь под сводом из сапфиров и изумрудов, высоким и обширным, как небо.
Сердце билось у нее от волнения прямо в горле, и ей стоило усилий сохранять королевскую стать.
Взгляды толпы обратились в сторону храброго воина, который преклонил колено в противоположном конце зала. Он почтительно опустил голову, будто не зная, ожидать ли ему награды – или наказания за те подвиги, которыми он разрушил чары злой колдуньи. Робко взирал на нее и серебристо-белый единорог, которого он держал за уздечку, не сводя с нее блестящих темных глаз. Совсем так, как будто бы…
– Мисс Георгина! Доброе утро!
Девочка вздрогнула. Роскошный зал стал мерцать и рассеиваться, и ветер подхватил его тускнеющие обрывки, как срывает пыльцу с цветов – понес через кусты и деревья, шелест листьев и птичий щебет.
– Я тебя не испугал?
Георгина молчала. Ах Тонг стоял, опираясь на черенок грабель, среди фонтанов пурпурных цветов, нежных, как китайские фонарики из шелковой бумаги, и улыбался. Лицо его задубело от солнца, кожа была желтой, морщинистой. Просторные брюки и рубашка с длинными рукавами не скрывали худобы его высокой фигуры.
– Что ты здесь делаешь в такую рань?
Щеки Георгины зарделись; пальцы теребили ткань саронга. В груди у нее разом взбурлило все, что она хотела рассказать Ах Тонгу – о феях и рыцарях и об их приключениях в ее волшебном королевстве, так что она чуть не захлебнулась, делая вдох. Но каждое слово так тяжело ворочалось на языке перед тем, как она могла его вымолвить, будто рот ее был заполнен камешками, и она растерянно продолжала молчать.
– Да и правильно, – продолжал Ах Тонг, сгребая пожелтевшие цветы. – Лучше прыгай по саду, пока сухо.
Взгляд Георгины скользнул вверх. Промытые за ночь облака, которым она радостно махала рукой, едва вскочив с постели, уже слегка подкоптились. Они все тяжелее нависали над островом, и небо, недавно сияющее синевой, наливалось мутно-серым потом.
– Я уж и сам смотрю, как бы успеть управиться. – Ах Тонг вытряхивал последние цветы из зубьев. – Иначе на меня обрушится не только дождь…
Ах Тонг нагнулся к ней, так что через плечо упала его тонкая косица.
– …но и гнев нашей госпожи и повелительницы.
Они заговорщицки переглянулись, и, пока кожистое лицо Ах Тонга расползалось в ухмылке, вдвойне лукавой оттого, что его обнажившиеся зубы росли вкривь и вкось, в горле Георгины булькнул смешок. Зажав рот ладошкой, она метнула быстрый взгляд в сторону дома, белый фасад которого блестел, как внутренность раковины. Ибо от зоркого глаза и навостренного уха жены Ах Тонга и няньки Георгины не ускользало ничего, что делалось в доме и вокруг дома Л’Эспуар, которым Семпака управляла железной метлой и доходчивой руганью.
– Смотри. – Ах Тонг сорвал с куста алый цветок, протянул его Георгине: – Только что распустился. Знаешь, как он называется?
Георгина кивнула:
– Бунга райя. – Ее рот освободился от камешков, язык развязался. – Китайская роза. Цху йин. Или гибискус.
– Очень хорошо. – Ах Тонг обрадованно рассмеялся. – Возьми, это тебе.
Он осторожно положил цветок в подставленную пригоршню Георгины, где цветок едва помещался. Она зачарованно разглядывала пестик, облепленный золотой пыльцой, и чувствовала мягкие прикосновения лепестков.
– Спасибо, – блаженно шепнула она.
Обычно Ах Тонг никогда ничего не срывал в своем ухоженном саду; последний букет он срезал когда-то для мамы.
Погруженная в созерцание цветка, она отвернулась и осторожными шагами пошла в глубину сада.
Пылающие факелы освещали огромный храм, воздвигнутый тысячи лет назад. В игре теней и света на колоннах вспыхивали узоры и таинственные надписи. Высеченные из камня демоны, фигуры богов и причудливые химеры неистовствовали на стенах в дикой смертоносной пляске.
– Смотрите, – шептала она, и голос ее от напряжения становился низким и хриплым, – я несу вам священный огонь.
Она сосредоточенно несла перед собой золотую чашу, в которой пылало живое и сильное пламя. Одно неосторожное движение, поспешный шаг или глубокий вздох – и священный огонь, означающий вечную жизнь, погаснет. Навеки. Но недаром она избрана богами жрицей огня. Так обдуманно, так осторожно она делала один торжественный шаг за другим, приближаясь к великой святыне богов, что все ожерелья, что были на ней, ни разу не звякнули. Даже ее облачение не издавало ни шороха.
Ах Тонг провожал ее глазами. Георгина царственно вышагивала мимо живой изгороди из бамбука вдоль синих гроздьев дикого гелиотропа, ее тонкие ножки были похожи на журавлиные, когда птица бродит по мелководью. Кустистые брови Ах Тонга озабоченно сомкнулись над переносицей – ветер донес до него обрывки детского шепота. Георгина медленно опустилась на колени перед мангостаном с развесистой кроной и поднесла дереву цветок гибискуса как жертвенный дар.
Эта девочка была погружена в мир мечты гораздо глубже, чем ребенок обычно бывает захвачен игрой. Как будто лишь там она могла быть свободной и беззаботной. Лишь там забывала печаль, что омрачала ее глаза с тех пор, как не стало мэм.
– Бедное дитятко, – пробормотал Ах Тонг и в который раз погоревал о чудесной дочке туана Финдли.
От искрового разряда молнии каменный храм задрожал и зашатался, а следующий голубой разряд разрушил его. Георгина подняла голову и зачарованно замерла, следя за двумя бабочками, порхающими одна подле другой, созданиями из небесного шелка, пловцами в океане из света и воздуха.
Она провожала их взглядом до тех пор, пока они не упорхнули прочь над огненными язычками гордых лилий канны, потом вскочила. Запрокинув голову, закрыла глаза и раскинула руки. Она вообразила себя крошечной и невесомой, а за спиной у себя – два переливчатых полупрозрачных крыла, и пустилась бежать. Все быстрее и быстрее, устремляясь вверх, к облакам, чувствуя в груди ликование и готовясь в любой момент оторваться от земли.
Из туч полетели первые капли, она ощутила их кожей лица, дождь усиливался, капли собрались в холодящие ручейки, сбегающие на ее вспотевшую от беготни шею. Она с ликованием жмурилась навстречу дождю, скакала и кружилась по траве и бежала дальше, к морю, которое пенилось и бушевало по ту сторону садовой стены. К тому темнеющему пятну, которое лишь вблизи превращалось в густые заросли кустов и деревьев.
Неукрощенный кусочек природы, заколдованный и всеми забытый, над которым качали перистыми лапами, будто благосклонно кивали, пальмы. Здесь было ее царство, только ее одной, Георгины, и никто никогда не забредал сюда. Даже Семпака – она верила, что между корней деревьев живут злые духи.
Дождь барабанил по листьям. Георгина протиснулась сквозь заросли. Застоявшийся воздух накрыл ее как мокрым разогретым платком. Пахло дождем и сырой листвой, промокшим песком и красной землей, и повсюду витал дурманящий аромат диких орхидей, которые светились в сумеречном свете цветными звездами.
Это были ее джунгли, где она временами выслеживала, не крадется ли где тигр-людоед, или заклинала волшебную белокожую королеву кобр, или подстерегала серебристого единорога, который унес бы ее на себе в далекую сказочную страну.
Но самым восхитительным в этом тайном уголке сада был пустой дом, павильон, его кирпичное основание окружал густой подлесок, настолько разросшийся, что дом, казалось, плыл по зеленому морю.
Дом был замком, куда Георгина поселила фею. Старый господский дом, в котором водились и привидения. Необитаемый остров Робинзона. Дворец раджи. Пиратский притон.
Построенный папой для мамы как настоящий дом, павильон тремя своими ветхими стенами жался к зелени. А в сторону моря был повернут открытой верандой, и шершавые, зазубренные скалы, внедренные в живую изгородь с красными цветами у самой стены ограды, служили Георгине то наблюдательным пунктом в пиратском гнезде, то маяком, а то и самой высокой горой Земли, на которую полагалось взбираться в минуты большой опасности.
Георгина вспрыгнула на веранду, молниеносно перебрав босыми ногами ступени. Покоробленные доски скрипели, и трава, проросшая сквозь щели, щекотала лодыжки. За порогом Георгина ощутила знакомый запах сырости, соли и прелой ткани, под которой дотлевало что-то сладковато гниющее.
Природа давно приняла в себя дом-павильон, владея им наравне с Георгиной. Лишайником затянуло кровлю и стены, словно чешуйчатой шкурой ящера. Деревья и кусты просунули в окна свои зеленые руки, затемнив обе комнаты и погрузив их в сине-зеленый мерцающий свет затонувших миров. Углы, куда забились заплесневелые шезлонг и шкафчик с остановившимися часами, были покрыты мхом, а ветер и волны, в сезон муссонов часто перехлестывающие через стену ограды, состарили камень и древесину. Как будто недолгие годы растянулись здесь на века – в этом месте они и впрямь заключали в себе каплю вечности.
Песчинки на полу скрипели при каждом ее шаге – Георгина обходила вокруг стола и стульев, и белая корочка соли, которую море оставляло здесь при своих посещениях, хрустела. Вдруг Георгина остановилась, широко раскрыв глаза и задержав дыхание.
Стали слышны лишь рев волн и шум дождя, проникающего сюда сквозь худую кровлю.
Она растерянно разглядывала фигуру, неподвижно, подобно тени, лежащую перед ней. Это сон? Или явь… Ноги ее порывались бежать. Или позвать на помощь Ах Тонга? Но она не могла сдвинуться с места. Сильное волнение и темный ужас сковали ее… Она не заметила, как присела и опустилась коленями на пол.
Человек, скрючившийся возле нее, не был ни мужчиной, ни мальчиком, а был скорее подростком. Может быть, такого же возраста, как бой Три, заботой которого было чистить до блеска папину обувь. Мальчишка-подросток был худ, хотя не так, как Ах Тонг; удлиненный сноп острых локтей и коленок, жилистых голеней и слишком крупных ступней. На медно-коричневой коже его голого тела она увидела несколько старых рубцов, были и свежие шрамы, на которых соленая вода, высохнув, оставила белые разводы. Он походил на выброшенный на берег кусок древесины, был такой же истертый и такой же омертвелый.
Георгина вспомнила мертвую птицу, которую нашла однажды в саду – растрепанный комочек перьев и лапки, окоченевшие до твердости проволоки. Вспомнила мамино восковое лицо, ее холодную как камень руку.
Разрываясь меж любопытством и страхом, она протянула палец и быстро отдернула.
Его вытолкнуло из темных глубин в облачные сумерки, которые быстро прояснялись, а болезненная пульсация в руке и ноге окончательно вырвала его из сна. Веки его поднялись, и с каждым взмахом ресниц размытая картинка перед его глазами становилась все более отчетливой. Он был не один.
Тело его дернулось. Он хотел сражаться либо бежать, но сильная боль, пронзившая насквозь, пригвоздила его к месту. Он невольно сдался, а его сократившиеся мышцы расслабились лишь тогда, когда он увидел, что светлое пятно рядом с ним превратилось в белую кебайю девочки. Еще ребенок, она уставилась на него во все глаза, прижав к груди кулачки.
– Во… ды, – прохрипел он выщелоченным горлом. Язык его был как высохший лист.
Он бессильно прикрыл глаза, слыша шорох материи и торопливый топоток босых ног – топоток удалялся, смолк, потом стал приближаться. Шелест дождя опять опрокинул бы его во тьму, но тут маленькая горячая ручка прорылась ему под плечо, острая коленка подперла спину, и край сосуда прижался к его рту.
Казалось, жажда, с какой он глотал прохладную дождевую воду, была неутолимой; он мог бы осушить все реки этого острова. Запрокинув голову, он высосал из кружки последние капли, сел и вытер рот и подбородок рукой.
– Ты ранен. – Девочка отодвинулась от него. – Я позову кого-нибудь.
– Нет!
Собственный крик резанул ему слух, и так же резко он схватил ее за запястье. Оно показалось ему тонким, как веточка, готовая тут же переломиться. И вся она была такая худышка. Темные волосы мокрыми прядями свисали ей на лицо, узкое и загорелое, лишенное округлости и мягкости и оттого совсем не миловидное. И даже детским оно быть перестало, недоверчиво исказившись. И поджатые губы выдали ему, как больно он сделал ей, хотя она не издала ни звука.
– Нет. – Он хотел сказать это мягче, но прозвучало все так же грубо, разве что тише. – Никто не должен знать, что я здесь. Ты обещаешь, что никому не скажешь?
Расширив глаза, девчушка кивнула. Странные были эти глаза: темные, но без обычного для черных глаз огня, а с каким-то мерцанием. Обрамленные густыми ресницами, будто кто-то поднес кисточку и провел размашистые линии, и они нежными заострениями поднимались к вискам. Глаза прямо-таки проглатывали его, и пальцы его расслабились.
Он мельком взглянул на длинный зияющий разрез у себя на штанине, края его потемнели и заскорузли от крови и соли. Такой же длины разрез на его ноге с запекшейся старой кровью был перемазан свежепросочившейся, красной.
– Можешь раздобыть иголку и нитки? И что-нибудь для перевязки?
Девочка снова кивнула, на сей раз чуть помедлив.
Кебайя прилипла к спине Георгины – и не только от дождя, пока она бегала к дому и назад, все время боясь, что Семпака застукает ее за тем, как она роется в шкафах и в маминой коробке для шитья, а потом удирает в сад, неся в руках целый ворох тряпья.
Пот струился у нее по вискам, капельками блестел на носу и скапливался в ложбинке над верхней губой; она то и дело вытирала лицо рукавом, а мокрые руки вытирала о юбку. Иголка с большим трудом протыкала кожу, за ней проскальзывала нитка. От напряжения Георгина стискивала зубы; она старалась делать все так, как ей объяснил мальчик, когда она – после нескольких его нервных попыток – забрала иглу из его обессилевших пальцев.
Она давно отвыкла быть в такой близости к кому-нибудь. Причем вот так – рядом с обнаженным телом и открытой кровоточащей раной под ее руками. И более того – с темнокожим мальчиком, у которого был низкий голос мужчины, пропахшего солью, водорослями и высушенными на солнце кожами. Рядом с совершенно чужим ей человеком, даже имени которого она не знала.
– Как тебя зовут?
Георгина вскинула голову; один, два удара сердца она смотрела ему в глаза, черные и блестящие, как полированный камень, и потом снова склонилась над раной на его ноге.
– Георгина, – ответила еле слышно.
Кроме Ах Тонга, мало кто обращался к ней по имени, которым ее нарекли при крещении, да и он часто сбивался на Айю, что делало Георгину чуть выше ростом и заставляло ее щеки рдеть, ибо слово это означало «красавица». Для мамы она была шу-шу или пти анж, а для папы оставалась Георги. Сик-сик Семпаки, означавшее «маленькая мисс», никогда не было дружелюбным, а тем более уважительным, всегда звучало немного презрительно. А когда Семпака очень сердилась, она ругала Георгину Ханту, потому что она громыхала, как привидение, и бесчинствовала, как злой дух.
– Но чаще всего меня называют Нилам, – быстро добавила она.
Так ее называла Картика, единственная женщина в доме, не считая Семпаки; еще Аниш, повар, который приехал тогда из Калькутты вместе с мамой и папой, и три боя, китайцы, как Ах Тонг, с такой же длинной косицей у каждого.
– Нилам?
Георгина кивнула, завязала узелок на последнем стежке и отрезала нитку мамиными заржавевшими швейными ножницами.
– Теперь руку?
Мальчик осмотрел свое плечо: из раны был вырван кусок мяса. Неглубокая, но ужасная рана, как будто выкус.
– Не надо. Так заживет.
Георгина пожала плечами, намочила тряпочку в миске с дождевой водой, отжала ее и осторожно промокнула свежую кровь с раны на ноге.
Не поднимая глаз, тихо спросила:
– А тебя как зовут?
Он смотрел, как она капает на его свежезашитую рану настойкой из флакона коричневого стекла. От этих капель тут же вспыхнул ожог, быстро разгоревшийся по всей ноге, а потом угасший до частых толчков.
Георгина. Если не считать прядей, прилипших к ее вспотевшему лицу и шее, волосы у нее высохли, превратившись в густые беспорядочные кудри, но так и остались темного, почти черного цвета. Нилам.
– Рахарио, – ответил он наконец, произнося непривычные звуки.
Не имя, которое ему дали когда-то. А имя, на которое пал его собственный выбор. Обещание, данное им себе самому, как пророчество, что его мечты сбудутся.
Она лишь коротко взглянула на него, а потом разделала – где ножницами, а где пальцами – лоскут ткани, принесенный из дома. Как будто давая ему понять, насколько самонадеянно имя, предвещающее богатство, для такого оборванца, как он. Щеки его горели, в животе гневно вспыхивало. Тем не менее он согнул колено, чтобы ей было легче перевязывать рану, и неохотно протянул ей руку, чтобы она могла также обработать и перевязать ему то место, где его задела пуля.
Напряжение, которое до этих минут пылко носилось по его жилам и как-то поддерживало его, теперь иссякло, истратив его последние резервы. Вялая невесомость растеклась по всему телу и поднялась в голову.
Плохо было уже одно то, что он зависел от этой маленькой девочки; чтобы не потерять сознание у нее на глазах, он недовольно помотал головой и глубоко вздохнул.
– Вон там стоит кровать, – шепнула она ему на ухо. – Можешь туда лечь.
С ее помощью он поднялся на ноги и шатко двинулся вперед; он пытался делать это как можно легче, но чувствовал, с какой тяжестью опирается на ее худенькое плечо. Пол качался у него под ногами, как рейки перау в шторм, и ему стоило немалых усилий держаться на ногах. Ноги подломились под ним, и он рухнул в мягкое облако, которое давило на его кожу, но было приятно прохладным.
От его храбрости, от его неукротимой воли мало что осталось. Он казался себе маленьким и слабым, совсем беспомощным. Постыдное чувство, зияющая рана в его гордости, единственное утешение состояло в том, что он чувствовал себя здесь в безопасности. В надежных руках.
– Спасибо, – пролепетал он, с трудом приподняв отяжелевшие веки.
Шорох дождя утих. Нежные полоски света, прокравшиеся снаружи, рисовали переменчивый узор на лице девочки и озаряли ее глаза. И он понял, что в этих глазах было таким странным.
– Нилам, – прошептал он. Сапфир.
Губы его успели улыбнуться перед тем, как веки сомкнулись.
У нее были синие глаза.
Георгина села в ротанговое кресло, стоящее в углу в двух шагах от кровати. Оно тихо скрипнуло, когда она подобрала под себя ноги.
Ее губы и язык снова и снова беззвучно складывались в его имя. Рахарио.
Веки его вздрагивали, брови дергались, но черты все же казались расслабленными. В первую очередь губы – теперь, во сне, они казались слишком мягкими, слишком ранимыми для этого лица, в котором спорили между собой выступающая линия подбородка, крепкий, широкий нос и острые скулы. Неготовое лицо, еще не нашедшее свою форму, однако имеющее такой вид, будто он пережил больше, чем когда-либо удастся пережить Георгине.
Лента с коричневым узором, выцветшая и грязная, повязанная вокруг головы, едва удерживала его смоляную, непокорную шевелюру. Солнце, ветер и соленая вода растрепали ее в норовистые вихры и лохмы, концы которых на затылке курчавились. От него исходило что-то строптивое, бурное. Напоминание о безбрежной свободе. Как будто домом своим он не мог бы назвать ни один клочок земли, а только бескрайнюю даль всех семи океанов. Как пират.
Это была все та же комната, знакомая Георгине почти так же, как стук ее сердца. Как ее дыхание, находившее отзвук в шуме моря, сколько она себя помнила. Причудливо проломленные стены и дверь на веранду, постоянно продуваемую ветром, и деревянные полы, отполированные песком, водой и солью. Широкая кровать под дырявой москитной сеткой, простыни и наволочки на подушках все в пятнах и, пожалуй, очень давно не менялись. Разбухшие от сырости книги, к которым Георгина подходила, только когда задвигала под полку кресло, и простой умывальный столик с лампой, помятый тазик и кружка, из которой она давала пить Рахарио.
Комната, куда, пожалуй, много лет никто не входил, пока Георгина не открыла ее для себя.
Комната никогда не казалась ей пустующей. Если где и водились в саду Л’Эспуара привидения, так только здесь, в этих четырех стенах, словно пропитанных таинственным прошлым. Помещение, полное воспоминаний, которые не были воспоминаниями Георгины, насыщенное видениями и безымянными страстями. Смутные, еще не оформленные начала истории, которая терпеливо выжидала, когда настанет время рассказать ее. Которая теперь, с этим чужим мальчиком, может быть, постепенно развернется.
Сердце Георгины беспокойно затрепетало, это было чувство, одновременно и болезненное, и сладкое.
– Сик-сик!
Голос Семпаки разорвал кокон, окружавший павильон, и вспугнул Георгину.
– Сик-сик! Где ты опять пропадаешь? Почему мне всегда приходится вытаскивать тебя из каких-нибудь кустов?!
Георгина пулей выпрыгнула из кресла, испугавшись, что гнев Семпаки может пересилить ее суеверные страхи.
– Завтра утром я снова приду, – шепнула она и натянула москитную сетку над Рахарио. Тот не шелохнулся.
– Сик-сик!
Георгина на цыпочках выскользнула из павильона, протиснулась сквозь кусты и побежала по траве к дому.
Набрякшее небо мрачно давило на сад, поглотив все краски и свет. Ветер хлестал кроны деревьев, и с моря доносились гром и грохот. В Георгине тоже все бушевало. Буря, пьянящая и пугающая, привела ее в замешательство. Во весь дух она бежала наперекор ей. Яростно терла кулаком глаза, в которые набегали первые слезы.
* * *
– Ах Тонг! Ах Тонг!
Крик Георгины, пронзительный от страха, заставил Ах Тонга распрямиться.
Девочка бежала к нему через сад, спотыкалась и падала, опять вставала и бежала дальше. Даже издали Ах Тонгу было видно, какое волнение в ней бушует.
– Мисс Георгина!
Он бросил грабли в побуревшие цветы жасмина и побежал ей навстречу, так что она налетела на него, задыхаясь, с пылающими пятнами на щеках.
– Что такое случилось? – в тревоге спросил он и присел перед ней на корточки. – Что тебя так напугало? Ты не ушиблась? Или…
При мысли о том, что обычно умалчивалось, он запнулся.
Стены ограды вдоль Бич-роуд, с равными интервалами прерываемые то проходом, то решетчатой калиткой, были не очень высоки. Их хватало на то, чтобы оградить сады от моря, а в декабре, когда муссоны с северо-востока бушуют особенно сильно, часто не хватало и на это. И для негодяев они не представляли непреодолимой преграды, тем более что сады соседних участков были отделены друг от друга лишь живой изгородью или полосой деревьев.
А Сингапур был еще молод, намного моложе Ах Тонга, ему не было еще и двадцати пяти лет.
Растущие, конечно, но несовершенные ограды европейских домов, возведенные сотнями арестантов из Индии, для которых лишь в прошлом году было построено здание тюрьмы, и непрочный, ненадежный лоск европейского образа жизни. Среди пестрых портовых складов, забитых товарами со всего света, переулков Ниу Це Шуи, беспокойного китайского квартала по ту сторону реки и малайских хижин из дерева и пальмовых листьев, Сингапур был еще сыроватым городом, неготовым. Как все места, где деньги можно было грести лопатой, он был магнитом для искателей счастья, как и для всякого сброда, этакий шумный восточный базар посреди диких тропиков.
Малайцы и буги, по слухам, то и дело бегали со своими кинжалами в приступах безумия амок. Тигры водились в джунглях в сердце острова и при случае отваживались выходить на побережье, а змеи и скорпионы кофейной расцветки прятались среди травы и листьев. Банды китайских Триад численностью порой до двухсот человек, зачернив лица, врывались ночами в дома, убивая и грабя. Темная угроза, против которой были бессильны как крохотный гарнизон индийских сипаев, так и горстка добровольных дружинников, которые в случае опасности предпочитали спасаться сами. И окрестные воды кишели местными пиратами, жаждущими золота, рабов, а иногда и просто крови.
Ах Тонг испуганно сглотнул, так что кадык дернулся. Он осторожно взял Георгину за плечи и притянул к себе.
– Или… или тебя кто-нибудь обидел?
Георгина отрицательно мотнула головой, но вцепилась в рукава рубахи Ах Тонга.
– Что там опять за крик? – донеслось от дома. – С самого утра!
Ах Тонг подавил вздох и оглянулся. На веранде в наступательной позе – уперев руки в бока – стояла Семпака. Ее – надо признать, миловидное – округлое лицо золотисто-мускатного цвета гнев исказил в уродливую гримасу, темные глаза полыхали недобрым.
– Ничего страшного, дорогая! Мисс Георгина всего лишь испугалась, я сейчас все улажу.
Мина Семпаки сложилась в презрение. Казалось, она готова была изрыгнуть яд и желчь, но удовольствовалась тем, что недовольно фыркнула и вернулась в дом. Ах Тонг опять занялся Георгиной.
– Ну-ну, Айю, ничего, ничего. – Он в растерянности гладил ее по голове. – Ты не хочешь мне рассказать, что случилось?
Мальчик, Ах Тонг! Мальчик, который со вчерашнего дня прячется в павильоне. Рахарио. Вчера он был еще вполне живой! А сегодня… сегодня…
Георгину душили слова, они теснились в горле, и рот ее открылся сам собой.
Никто не должен знать, что я здесь. Ты обещаешь мне, что никому не скажешь?
Она сцепила зубы, разрываясь между необходимостью позвать на помощь кого-нибудь взрослого и своим обещанием, данным Рахарио.
– Лечебные… травы, – выдавила она. – Ты разбираешься в лечебных травах? – Она хватала ртом воздух. – Которые от жара?
Ах Тонг наморщил лоб:
– Немного разбираюсь. – Он склонил голову набок. Девочка была бледна, и казалось, ее вот-вот вырвет ему под ноги. – Тебе нехорошо? Ты захворала?
Георгина с трудом выдерживала тревожный взгляд Ах Тонга, проникающий ей прямо под кожу, и быстро замотала головой.
Лицо Ах Тонга просветлело:
– А, это у тебя… для игры?
Георгина потупилась и кивнула.
– Я сейчас посмотрю, ладно? – Ах Тонг встал. – Средство от жара, ты говоришь?
Георгина снова кивнула.
– Но… но оно должно быть правдашним, Ах Тонг! – крикнула она вдогонку его худой фигуре, удаляющейся широкими шагами.
Ах Тонг полуобернулся, с улыбкой кивнул и обозначил поклон.
– Разумеется. Честное слово, мисс Георгина!
Георгина смотрела ему вслед с колебанием, не побежать ли за ним… Но Семпака ей строго-настрого запретила даже приближаться к жилищу прислуги. Ее колени начали дрожать и взяли тем самым решение на себя. Трясясь и обхватив себя руками, она приросла к месту и мерзла в туманных испарениях утра.
Прижав к себе коричневый флакончик с драгоценным порошком, Георгина примчалась в павильон и неверными пальцами нашарила в шкафчике стакан и потускневшую ложку.
– Сейчас полегчает, – бормотала она, метнувшись в соседнюю комнату. Больше для того, чтобы успокоить себя, потому что Рахарио лежал все так же неподвижно, каким она застала его утром. Лишь его слабое прерывистое дыхание, дрожь, что изредка пробегала по телу, и трепет век выдавали, что он еще жив.
Она тщательно отмерила порошок, размешала его в стакане с дождевой водой, приподняла голову Рахарио и вливала ему лекарство глоток за глотком. Он стал значительно тяжелее, чем был вчера, и горел в лихорадке, так что у нее сдавило грудь от напряжения. Она неловко опустила его голову и скользнула с края матраца.
– Ты выздоровеешь, – шептала она, присев на полу, обмакивая тряпку в дождевую воду и отжимая ее. Обтирала его залитое потом лицо. – Слышишь? Только не умирай.
Она вздрогнула: влажные пальца сомкнулась на ее кисти. Это была жилистая сильная рука в грубых мозолях, под края перламутрово-розовых ногтей набилась грязь. Мужская рука, в которой ее детские пальчики почти совсем исчезли.
– Может быть… может, мне позвать кого-нибудь на помощь?
Рахарио обозначил отрицание.
– Но мне одной не справиться, – жалобно воскликнула она.
Груз, свалившийся на нее с появлением этого чужого раненого мальчишки, будто выброшенного морем на берег, разом показался ей слишком тяжелым. Непосильным для ее неполных десяти лет.
Он сжал ее ладонь, и его брови шевельнулись, как будто он хотел ей возразить.
Георгина сникла, прижалась щекой к матрацу. Простыня пахла плесенью. Ее лицо было так близко к лицу Рахарио, что она видела капельки пота на его коже. Крошечный шрам у крыла носа, еще один под дугой брови и намек на первые темные волоски, пробивающиеся вокруг рта.
– Ты выздоровеешь, – прошептала она в его тяжелое дыхание.
Рахарио слабо кивнул, уголок его потрескавшихся губ едва заметно дрогнул.
Его пальцы сплелись с ее пальцами, все еще сжимавшими мокрую тряпицу, и сжались, словно скрепляя некий немой договор.
Георгина смотрела в темноту.
Сердце билось в груди, то и дело больно спотыкаясь, и потом снова настукивало молотком. Она обливалась потом, он увлажнял ей ночную рубашку и простыню. Ей было тошно, о сне нечего было и думать. Заснуть ей не давал страх. Что будет утром? Что ожидает ее в павильоне? То ли Рахарио станет лучше, то ли он ночью умрет от этой своей лихорадки.
Днем голоса мужчин и женщин придавали дому видимость оживления, их шаги, их мелкие движения и действия, их смех, возня – трудолюбивое копошение, напоминающее суету насекомых в большом муравейнике. А ночью воцарялась паралитическая тишь, которая наваливалась на дом как душитель. Словно душа Л’Эспуара угасла с тех пор, как не стало здесь мамы.
Тишина, которая была для Георгины тем мучительнее, что Семпака больше не спала в ее комнате.
В большинстве случаев Георгина шла на разные ухищрения ради того, чтобы избежать присутствия подле себя Семпаки, которая и раньше-то не отличалась сердечностью, а после смерти мамы прямо-таки казнила ее своим презрением и отвращением. Но в такие ночи, как эта, она была бы рада чувствовать поблизости даже сонное тяжелое дыхание Семпаки.
Ее непрерывно терзали мысли – а вдруг она сделала что-то неправильно, когда обрабатывала раны Рахарио, и от этого ему теперь так плохо. И правдашним ли был тот порошок, который дал ей Ах Тонг, и не ошиблась ли она в дозировке. А лечебный настой арники, которым мама смачивала раньше ее сбитые локти и колени, не выдохся ли за это время и не мог ли только навредить Рахарио. Эти исполненные опасений вопросы и сомнения неотступно терзали ее.
Ей было впору заплакать; она тосковала по кому-нибудь, кто бы обнял ее и прижал к себе. Кому бы она могла все рассказать и кто бы ее утешил и пообещал, что все будет хорошо. Кто-нибудь такой же близкий, как мама.
Какой-то шум заставил ее прислушаться, и Георгина затаила дыхание. Походило на копыта лошади и колеса повозки.
Папа! Недолго думая она отодвинула москитную сетку, вскочила с постели и выбежала в коридор. Папа дома!
Наверху у лестницы она остановилась и прислушалась. Под снова удаляющийся и наконец совсем смолкший цокот копыт и шорох повозки она расслышала твердые шаги и затем голоса. Низкий, сухой – папин – и высокий певучий – боя Один, который вечерами всегда дожидался прихода папы, чтобы забрать у него шляпу и сюртук и подать ему тапочки и что-нибудь выпить, как бы ни было поздно. Когда внизу стало тихо, Георгина выждала еще несколько ударов сердца, полутревожных, полунадеющихся, прежде чем спуститься по ступеням из полированного дерева на мягко освещенный нижний этаж.
Она прошлепала босиком по прохладному полу холла и прижалась к косяку двери в кабинет.
Лампа на письменном столе вырезала из темноты желтый круг. Сумеречный свет и глубокие тени тянулись над стопкой бумаг и писем, оставляли отблески на пустом стакане и еще резче обозначали и без того жесткие черты ее отца. Выдающийся вперед нос, доминирующий в его профиле, и неуступчивый подбородок. Рот, который в последние несколько лет сжался в тонкую полоску. Хотя первый серебряный блеск седины пронизывал его густые волосы, мощные брови были по-прежнему угольно-черными и затеняли его глаза – такие же синие, как у Георгины, только светлее и проницательнее.
– Папа, – тихо окликнула она, и этот зов больше походил на писк.
Он поднял голову от письма, которое держал в руках.
– Георги.
Может, виновато освещение, но Георгине почудилось, что в его глазах вспыхнул свет, но тут же погас. Его брови, всегда напоминавшие Георгине мохнатых гусениц, сошлись на переносице.
– Почему ты не в постели?
Она подняла плечо и теребила подол ночной рубашки:
– Я не могу заснуть. – Одна ее ступня ощупывала порог, но перешагнуть через него она не смела. – Можно к тебе?
В ней зародилась надежда, когда ей показалось, что лицо отца смягчилось, но надежда тут же рухнула: его мина снова посуровела.
– Иди к себе в постель. Уже поздно, – ответил он и снова погрузился в письмо. Голос у него был усталый, просевший. – Спокойной ночи.
– Спокойной, – прошептала Георгина со сдавленным горлом и горьким привкусом на языке.
Поникнув, она побрела в холл, пытаясь не думать о том отце, который был у нее когда-то. Отец, который много смеялся, шутил с ней и умел рассказывать интересные истории. Который поднимал ее высоко в воздух, кружил и всякий раз надежно ловил в объятия, прижимал к себе и целовал в макушку. На чьих коленях она удобно устраивалась, когда вечером все сидели на веранде в свете лампы, одной рукой папа обнимал маму за плечи, и их тихие голоса и мягкая рука мамы, гладившая ее по волосам, постепенно погружали ее в блаженную дрему. И она не понимала, почему она не могла ничего спасти и перенести через ту пропасть, которая разверзлась после маминой смерти, и папа с тех пор стал как пустая раковина.
Посреди холла она остановилась и потерла глаза. Их нестерпимо щипало. Ей так захотелось оказаться рядом с Рахарио, что она испытывала почти боль. Но она еще никогда не была в саду ночью, когда во тьме оживала его дикая сторона. Населенный неугомонными тенями и наполненный мириадами голосов, которые шелестели и хихикали, шептали и реяли. Так же, как море по ночам неукротимо пенилось, накатывая валы и издавая топот, как эхо своих глубин.
– Доброй ночи, Нилам.
Георгина подняла голову. Перекинув через руку почищенный сюртук папы, у лестницы стоял бой Один с сочувственной улыбкой, и лицо его в свете лампы казалось светлым и прозрачным, как китайская фарфоровая кукла.
Георгина смогла лишь кивнуть и медленно пошла по лестнице вверх к своей комнате.
* * *
Ей приходилось прилагать усилия, чтобы не пялиться неприкрыто на Рахарио, когда он ел, а сосредоточиться на том, чтобы рвать на полосы свежую простыню. Ей это не удавалось; она то и дело поглядывала на него в блаженном удивлении, что он после одних суток жара и двух суток сонливой вялости сегодня снова казался бодрым. Он никак не мог насытиться чечевичным супом дал-тадка и рисом, лепешками чапати и бананами, которые она частью приберегла от своего обеда, частью выпросила у Аниша или просто стянула из кладовки с продуктами.
Когда он отставил пустую тарелку – на ней не осталось ничего, кроме банановых шкурок, – Георгина придвинулась ближе. Она осторожно приподняла его штанину и сняла повязку, чтобы обработать настойкой рану с запекшейся кровью и наложить на нее свежую ткань. Ей оставалось лишь надеяться, что Семпака не так скоро обнаружит, как быстро истаивает стопка простыней в бельевом шкафу.
Когда Рахарио вздрагивал, она испуганно замирала.
– Что, очень больно?
Он отрицательно мотал головой:
– Ничего.
Георгина закусывала нижнюю губу, чтобы сдержать все любопытные вопросы, которые так и прожигали ей язык.
– Как же это… – в конце концов не выдержала она. – То есть кто… что… – Не отрывая взгляда от раны, она снова умолкла.
– Бой. На море.
Георгина медленно подняла голову, в животе у нее от волнения дрожали внутренности.
– Ты что, ты… пират?
Один уголок его рта приподнялся в улыбке, обнажившей белые зубы.
– Да что ты можешь знать про пиратов?
Мысли ее заметались по сказкам и приключенческим историям, которые раньше ей читала мама и из которых она быстро выросла. Пираты не были для нее ни лихими мореходами в бриджах, ни грязными бандитами с повязкой на глазу и саблей, плавающими под флагом с черепом и костями. А были вполне реальными морскими разбойниками родом из Китая или с бесчисленных островов за горизонтом.
Гнетущая забота для папы и других торговцев города, но также и для дяди Этьена в Пондишери; не однажды Георгина была свидетельницей, как ее отец говорил со смешанным чувством ярости и безысходности, что снова придется списывать груз, на который возлагали столько надежд. Она знала, что правительство в Калькутте после долгих настояний наконец выслало канонерки, чтобы избавиться от пиратства. Однако морские пути, ведущие в Китай и Японию, Индию, Европу и Америку, которые продевались сквозь Малаккский пролив, как нитка сквозь игольное ушко, как были, так и оставались ненадежными.
Высоко подняв голову, она выдержала взгляд Рахарио.
– В любом случае я знаю больше, чем ты мог бы ожидать от меня.
Рахарио не мог разгадать эту странную девочку.
Она была приблизительно того же возраста, что и его младшие сестры, но та беспомощность, с какой она за ним ухаживала, выдавала, что ей не приходилось действовать там, где нужно было выполнять какую-то работу. Часто она была как маленькая девочка, но все-таки ей не хватало радостной, плещущей через край легкости, знакомой ему по собственному детству. Ее окружала преждевременная серьезность. Почти так, будто тень, которую отбрасывало ее худенькое тело, когда солнце между ливнями засылало сюда свои лучи, была темнее, чем от других людей.
Ее кожа была слишком светлой для ребенка с этого острова или с материка, но по-малайски она говорила как на родном языке. Временами у нее проскакивало какое-нибудь английское слово, но она этого не замечала, а временами какое-нибудь слово и на другом языке, который звучал игриво – возможно, французский.
Ее глаза… Примечательные глаза были у Нилам.
Переменчивые, как небо над островом. И впрямь цвета сапфира, особенно когда они вспыхивали, как сейчас. В зависимости от наклона головы или от угла падения света, а может, и от того, что творилось в ней самой, цвет менялся до темно-фиолетового диких орхидей, которые росли вверху по течению реки. А временами они темнели так, что казались такими же черными, как его собственные или глаза его братьев и сестер.
Голубые глаза могли быть только у оранг-путих, у белых людей, но редко при этом такие темные волосы, как у Георгины, редко такой загар. А главное – среди них почти не было женщин, и Рахарио также никогда не видел белого ребенка, хотя много перемещался по островам.
Девочка с двумя именами, всегда слегка растрепанными волосами, в перепачканной кебайе и с пыльными босыми ступнями была для него загадкой.
После красного затмения лихорадки его захлестывали приливы и отливы бодрствования и дремоты, и всякий раз, когда он приходил в себя, его мысли кружили вокруг этой загадки. Георгина. Нилам. Сик-сик, как ее окликала пронзительным голосом малайская женщина, которой она боялась.
Ему было ясно только одно: что некий оранг-путих, поддавшись зову своих чресл, произвел с островной женщиной эту девочку, которой почему-то разрешалось жить в его большом доме и не приходилось за это работать. Дитя двух миров, которое, пожалуй, не могло пустить корни ни в одном из них. Куда бы оно ни обратилось – оно всюду будет чужим. Неудивительно, что девочка казалась такой одинокой, такой заброшенной.
– Нилам.
Он произнес это имя тихо. Осторожно, как будто хотел проверить, какое из имен ей больше подходит.
Она подняла глаза от пулевой раны в его руке, которую в этот момент перевязывала. Сейчас они были как море в солнечный день, брови в немом вопросе стянулись в изящную арабеску.
– Ты очень хорошая. Навсегда для меня.
Ее глаза вспыхнули и уклонились от его взгляда. Щеки зарделись, а губы сложились в подобие улыбки; первой, какую он видел у нее.
– Ты задолжал мне ответ.
На его лице дрогнула улыбка:
– Оранг-путих теперь могут, если угодно, называть этот остров своим. Но реки и море всегда будут принадлежать нам. Оранг-лаут.
Оранг-лаут. Морские люди.
С тех пор как Георгина впервые услышала об этих племенах, морских кочевниках, которые живут не в домах, а на лодках, плавая по всему морю, она представляла себе этих оранг-лаут в виде мифических существ – людей, у которых вместо ног рыбий хвост с чешуей. Этакие создания, которые на суше выглядят как обычные люди, а в воде превращаются в морских чудовищ. Ее взгляд метнулся к ступням Рахарио: каждый пальчик, каждая выемка и каждый бугорок словно вырезаны искусной рукой из свежей тропической древесины, зачищены наждаком и гладко отполированы.
– Что?
– Ничего. – Кровь снова бросилась ей в лицо.
– Ты почитаешь мне?
Рахарио подбородком указал на кресло, в котором лежала книга, раскрытая на покоробленных страницах, корешок растрепан и загнут кверху, как раскрытый клюв птицы.
Книга, которую Георгина читала вчера, когда охраняла сон Рахарио и ждала, когда настанет время для следующей дозы жаропонижающего порошка Ах Тонга. Она смутно припомнила, что иногда слышала собственное бормотание, чтобы хоть что-то противопоставить тишине комнаты, убаюкивающему шуму моря и дождя. Полагая, что Рахарио спит слишком крепко, чтобы расслышать ее.
– А ты понимаешь по-английски?
Он склонил голову набок:
– Не все. Но многое.
Она чувствовала на себе его взгляд, соскальзывая с края кровати и беря в руки книгу.
– Твой отец… Он англичанин?
– Шотландец. Из Данди. Но он уже давно там не был. Перед тем как перебраться сюда, он много лет жил в Калькутте. Когда-нибудь он вернется туда вместе со мной.
Как будто так и надо, она уселась рядом с Рахарио, откинувшись на спинку кровати в изголовье, согнув колени и положив на них книгу. То был минутный импульс, в котором она быстро раскаялась. Потому что его близость смущала ее так же, как его пытливые взоры, которые он переводил с ее лица на темные полосы буквенных строк и снова смотрел на ее лицо. Собственный голос казался ей чужим, искаженным и слишком высоким, и через каждые несколько строчек она запиналась и начинала заикаться.
– Может быть, ты сам почитаешь? – перебила она себя и с легким смешком протянула ему книгу.
Изучающий блеск в его глазах померк, и мускулы сильных челюстей напряглись, так что обозначились желваки.
– Я устал, – хрипло сказал он, вытянулся и отвернулся.
Веки Георгины задрожали. Потом она поняла – и ее бросило в жар.
– Извини, – прошептала она. – Я не подумала, что ты… Это было глупо с моей стороны.
Рахарио не шевелился. Желудок Георгины сжался так судорожно, что ей стало дурно.
– Если… если хочешь, я тебя научу. Это не так уж трудно!
Закрыв глаза, Рахарио безмолвствовал.
Георгина мягко всплыла из глубокого сна, ее кебайя пропотела, и на щеке было ощущение чего-то липкого. Тяжелый свет раннего вечера висел в помещении, стрекотали цикады; должно быть, дождь на какой-то момент прекратился.
Она сонно сощурилась и окончательно открыла глаза.
Ее щека была прижата к коричневой гладкой груди Рахарио, которая равномерно поднималась и опускалась с его дыханием, сердцебиение было спокойным и ровным – у самого ее уха. Она не помнила, как заснула и как так получилось, что она лежала наполовину на нем, наполовину на его руке. Взгляд ее скользнул по его плоскому животу, по выступающим буграм тазовых костей и с любопытством остановился на тонкой линии черных волосков, что тянулась вниз от пупка под пояс его штанов – до сих пор она не замечала ее. Она быстро отвела глаза и осторожно подняла голову.
Рахарио тоже спал, обняв ее за плечи. Странная, сладкая тоска пронизала ее живот дрожью, и это смутило ее, и одновременно ей стало стыдно, что она невольно оказалась так близко к нему; наверняка это ему неприятно. Она подтянула локти, чтобы опереться на них и встать, вывернулась из-под его руки.
Его тело дрогнуло, и она замерла.
Он взглянул на нее вниз из-под тяжелых век, на губах появилась улыбка. С глубоким вздохом он повернулся к Георгине и притянул ее к себе.
Мгновение недоверчивого сопротивления – и Георгина поддалась его рукам и снова опустилась ему на грудь. Вдохнула его тепло, его запах – моря и водорослей, корицы и кож – и сердце ее чуть не разорвалось от счастья.
* * *
Как камень, упавший в тихую воду, порождает на зеркальной поверхности круговые волны, так и Рахарио полностью перестроил дни Георгины.
Миновало бесцельное меандрическое блуждание пустыми часами. Бескрайний гладкий океан времени приобрел контуры из песчаных пляжей и скалистых утесов, структуру из коралловых рифов и зеленых холмистых островов. Он приобрел имя, Нусантара, описывающее континент из вод и островов, который не охватишь взором.
Галанг. Бинтан. Мезанак. Темианг. Сингкеп.
Острова, названия которых были для Георгины так же новы и непонятны, как некоторые выражения на малайском языке Рахарио. Ночами ей снились подводные миры, свет, мерцающий бирюзой и лазурью, в котором все пестрит и сверкает. В этих снах она парила среди перламутровых рыб, меж морских звезд и причудливых подводных существ, плутала в каменных джунглях кораллов. В невесомой мирной тиши.
Море было домом оранг-лаут, родиной их предков, испокон века их жизненной артерией и их судьбой.
Мир, откуда явился Рахарио, был архаическим, люди жили там так же, как тысячи лет назад. Рыболовствуя, ныряя за сокровищами моря и ведя меновую торговлю. Хозяева моря, воители вод, сегодня они предлагали охранительное сопровождение торговым караванам, а завтра претендовали на грузы, что перевозились на борту кораблей, плывущих под парусами через их воды. Жизнь, которая следовала собственным исконным традициям, ценностям и ритуалам, вплетенная в мелкоячеистую сеть из семьи, рода и племени. Подчиненные теменгонгу султаната Джохора, нептуноподобному владыке, царство которого охватывало куда больше воды, чем суши. Построенное на волнах и песке, а не на камне, оно тем не менее казалось вечным и вневременным.
Георгина жадно впитывала все, что Рахарио рассказывал ей об этом чужом мире, который, казалось, родился из сказки и все же был реальным. Рахарио принес ей приключение, которое она не смогла бы выдумать себе даже в самых смелых фантазиях. И хотя она была все эти дни настолько близко к нему, что не могла сомневаться в реальности юноши из плоти и крови, он все же казался ей иногда мифическим созданием океана.
Юный морской человек. Сын Тритона. Или одно из ластоногих существ, о которых когда-то рассказывал ей отец: они сбрасывают свою морскую шкуру, выходя на берег в человеческом облике.
А Георгина была всего лишь обычной маленькой девочкой, рожденной на суше и приговоренной к земле.
Единственное ее сокровище состояло в знании грамоты, которой с ее помощью овладевал и Рахарио, когда они вместе склоняли головы над страницами книги. Черные значки, тоненькие, как паучьи ножки, сухие, как ломкая истершаяся бумага под ними. Жалкие по сравнению с тем волшебством, которое исходило от Рахарио.
– Когда-нибудь, – тихо сказал Рахарио, устремив взгляд в сторону моря поверх веток с красными цветами, – когда-нибудь я стану богатым. Богатым и могущественным. И у меня будет большой корабль, только мой.
Георгина, сидя рядом с ним на скале, тайком взглянула на него сбоку. Его темные глаза налились тоской – и эта тоска была эхом ее мечтаний. Она еще крепче обхватила руками колени.
– А меня ты возьмешь с собой? – робко спросила она.
Он скривил рот:
– А ты что – плавать умеешь?
Георгина пристыженно качнула головой: нет. Он состроил гримасу разочарования и с сожалением прищелкнул языком:
– Без того, чтобы уметь плавать, – на корабль ни-ни. Даже не думай.
Георгина слабо кивнула, теребя нитку у себя на саронге.
– Но, – быстро шепнул он ей на ухо, – я могу тебя научить. – Он легонько толкнул ее: – Ну конечно же, я возьму тебя!
Неуверенная улыбка задрожала на губах Георгины и взорвалась ликованием, когда Рахарио ей улыбнулся.
Георгина не знала, каким он ей нравился больше: с легкой тенью пушка вокруг рта или с гладким и мягким подбородком после того, как он поколдовал над ним старой бритвой из выдвижного ящика умывального столика. Но ей точно нравились две канавки по уголкам его рта, которые появлялись, когда он улыбался, и то, как ярко вспыхивали ровные зубы на его коричневой физиономии, когда он смеялся. Ей нравилось, как живо двигались его брови, когда он говорил, и ей нравились его глаза – они напоминали ей насыщенные капли черного океана, то спокойные и бездонно глубокие, то бурно кипящие. И когда он смотрел на нее – вот как теперь, – в животе у нее начиналась щекотка, как будто там копошилась горстка жуков.
Она еще теснее прижала к себе колени, не находя применения своим рукам, которые раньше обрабатывали раны Рахарио.
– Как твоя нога?
Двумя пальцами Рахарио раздвинул на штанине прореху и заглянул туда, потом осмотрел розовую кожицу на плече.
– Заживает хорошо. – Он повернулся к ней с легкой улыбкой: – Эти шрамы всегда будут напоминать мне о тебе.
От порыва свежего ветра Георгина поежилась.
Что-то было в глазах Рахарио – когда его взгляд устремлялся через ограду и следил за парусами кораблей, пока они не скрывались за горизонтом, – что-то было такое, что выдавало, насколько гложет его тоска по водной стихии. Беспокойство поселялось в его конечностях, все более сильное по мере укрепления его сил. Как будто для него было пыткой долго находиться на суше.
И Георгина страшилась того дня, когда зов океана станет нестерпимым и она потеряет Рахарио прежде, чем успеет разыскать его тюленью шкуру и надежно спрятать ее.
* * *
Легкими ногами бежала Георгина по саду, и в такт шагам билось ее сердце – свободно и быстро. Прижав к себе миску с дымящимся карри и рисом для завтрака, она пробралась сквозь заросли и взлетела по ступеням на веранду.
– Доброе утро, – крикнула она с порога с новообретенной радостью в голосе.
Комната была пуста.
Она выбежала и бросила взгляд на скалу, жадно посмотрела во все стороны густых зарослей.
– Рахарио?
Закусив нижнюю губу, она вернулась в павильон. Краем глаза заметила, что на полке зияет прореха: двух книг не хватало.
Но вот ее взгляд упал на ветку розовых орхидей, лежащую на кровати, и ей все стало ясно.
Она понуро поставила миску на умывальный столик. Ее шаги по дощатому полу стали тяжелыми, вялыми; без сил она вскарабкалась на постель и свернулась калачиком.
В животе у нее горело, то был алчный, всепожирающий огонь, рассылающий жаркие волны по всему ее телу. Вцепившись пальцами в ткань, она прижалась лицом к простыне и подушке, втягивая следы запаха Рахарио и аромат орхидей, которые она помяла своей щекой.
Каждое утро Георгина приходила сюда, в павильон, с трепетной искрой надежды снова увидеть Рахарио. И всякий раз находила обе комнаты такими же пустыми, как оставила их накануне.
День за днем она сидела на скале перед стеной ограды и смотрела вдаль на коричневую кору острова Батам – ветер в волосах, на коже солнце, соль и дождь. Смотрела на море, на эту вечно одинаковую, вечно переменчивую даль из шелка, жемчужную, лазурную, нефритовую, непостоянное небо пересекали пеликаны, чайки и птицы-фрегаты.
Лошадиные повозки и воловьи упряжки, громыхающие по Бич-роуд и в сухие дни вздымающие пыль, она не удостаивала даже взглядом. Она высматривала рыбаков, которые вытягивали на берег тяжелые сети под взволнованный галдеж птичих стай, – не различит ли она среди них фигурку Рахарио. И провожала взглядом гордые парусники, большие и маленькие лодки, мельтешащие по волнам. Какая-нибудь из них однажды, может быть, направится к берегу с Рахарио на борту, который вернется, чтобы взять ее с собой в огромное, бескрайнее море.
День за днем проходили в приливах и отливах. В приходах и уходах надежды и разочарования и в бесконечной игре волн времени.
Пока неудержимо стремящийся вперед поток жизни не подхватил Георгину и не унес с собой.