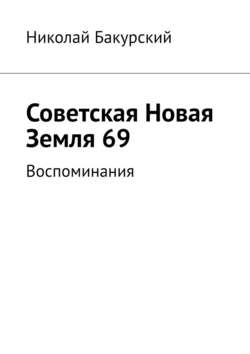Читать книгу Советская Новая Земля 69. Воспоминания - Николай Бакурский - Страница 4
НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОглавлениеВ/ч 77510Д – это научно-испытательная часть (НИЧ), которая проектирует промышленную площадку, а также подготавливает её к проведению испытаний. НИЧ является ответственным исполнителем испытаний спецоружия. Оружие испытывалось на Новой Земле не возле Белушки, а в другом месте, за 200 – 250 километров от неё там, где расположена так называемая Зона. В Зоне располагаются промышленные площадки, на которых вырубают в скалах штольни для размещения испытываемого изделия и сооружают специальные укрытия для аппаратуры управления изделием, а также устанавливают аппаратуру для регистрации параметров взрыва. На промплощадке НИЧ имеет свои специальные сооружения с автоматикой. На удалении от промплощадки имеется военный посёлок с жилыми помещениями. Там во время подготовки испытаний размещаются офицеры НИЧ и инженеры Министерства среднего машиностроения (МСМ). В этом же поселке были общежития для строителей, шахтёров. Личный состав местного гарнизона размещался в казармах. В Зоне специалистами НИЧ работы проводились, в основном, поздней весной, летом и осенью. Зимой и ранней весной специалисты НИЧ занимались проектными и инженерными работами в теплых каменных корпусах в посёлке Белушья Губа, где воинской части 77510Д отведена огороженная охраняемая территория.
В Белушьей Губе корпуса НИЧ расположены на берегу небольшого залива Гаврилова. Пройти к НИЧ в посёлке было просто: выйдя из гостиницы, нужно было повернуть налево и двигаться вдоль дороги, минуя гражданскую столовую, далее, по-моему, пятиэтажный дом для семей старших офицеров, потом двухэтажное общежитие связистов (справа), дизель-электрическую станцию и вертолётную площадку (слева от дороги), а затем вдоль колючего (из проволоки) забора (справа от дороги) до КПП, который встретится по правую же руку. КПП представлял собой деревянный домик за воротами. Окна домика обращены в сторону ограды и к воротам. От калитки деревянный тротуар, ведущий мимо двери домика. Дверь в домик находилась почти посередине длины тротуара. У двери в домик стоял часовой. На КПП нужно предъявить часовому пропуск, он посмотрит, козырнёт, а далее иди куда знаешь.
Чтобы пройти в штаб НИЧ, нужно после КПП, миновав часового, повернуть налево и идти до предпоследнего двухэтажного каменного корпуса. У входа в корпус также стоит бочка с водой и со стереотипной шваброй для мытья обуви. Если пройти мимо штаба, то встретишь двухэтажный каменный корпус, где размещались первый и второй отделы НИЧ. У двери та же бочка с водой. В момент нашего прибытия в часть возле этого корпуса стояла мачта, высотой метров тридцать – сорок, состыкованная из труб, с антенной, направленного действия, установленной на вершине мачты.
Как располагались отделы внутри корпуса? Поэтажно. Нас, вновь прибывших, поначалу почему-то удивило размещение отделов: на первом этаже корпуса – второй, на втором – первый. Почему так? – никто объяснить не мог, а мы не сочли необходимым углубляться в эту проблему, ибо эту проблему мы придумали сами.
Со мной прибыли на Новую Землю мой сокурсник и два выпускника Куйбышевского политехнического института, Один из них был распределен во второй отдел и остался на первом этаже. Второй, вместе с нами, двумя выпускниками Саратовского Политехнического института, поднялся по лестнице на второй этаж в первый отдел. Лестница на второй этаж выходит так, что можно повернуть и направо и налево. В конце коридора было видно окно, возле которого оборудовано место для курения с железной бочкой.
Сопровождавший офицер привел нас в комнату начальника первой лаборатории. Он представил нас капитану третьего ранга:
– Вот, Анатолий Сергеевич, эти молодые лейтенанты распределены в первую лабораторию.
Затем обратился к нам:
– Представьтесь.
Мы поочередно представились. Сопровождающий ушёл, а начальник лаборатории предложил нам сесть и начал беседу.
Он рассказал о гарнизоне, сообщил, что начальник гарнизона вице-адмирал Евгений Павлович Збрицкий, заслуженный человек, прошедший Великую Отечественную войну, имеет массу наград. Теперь вот руководит крупнейшим в СССР ядерным полигоном. В этом году Збрицкий покинет Новую Землю, а на его место прибудет новый начальник гарнизона. Он также сообщил:
– Начальник нашего отдела капитан первого ранга Гуляев. В этом году, уже скоро, Гуляев покидает Новую Землю, и мы ожидаем назначения нового начальника.
Затем последовал рассказ о нашем первом отделе и его роли в подготовке и проведении испытаний. В беседе особое внимание было обращено на технику безопасности при службе на Новой Земле.
– Я обязан вас проинструктировать по технике безопасности при работе как в самой лаборатории, так и вне неё, на открытом воздухе. Это касается и Белушьей Губы и Зоны, где проводятся испытания. Прежде всего, никуда без приказа не лезьте. Кроме радиоактивности вас везде подстерегают шутки местного заполярного климата. Вот вам брошюра. Ознакомитесь, потом обсудим. Вы не смотрите, что за окном тепло и корпуса НИЧ близко один от другого. Все может измениться в одночасье. Я, например, прибыв впервые на Новую Землю, пострадал от своей опрометчивости. Лето кончалось, и периодически появлялась зимняя погода. Штабной корпус, как вы видели, совсем недалеко от нашего – метров сорок или пятьдесят. Это от двери до двери. Как-то вызывают меня в штаб. Надеваю фуражку и бегу. Близко, но за дверью завьюжило, и уши отморозил, – при этом добавил несколько крепких выражений, вызванных тяжёлыми воспоминаниями, – вот тебе и близко.
– Так что, не ищите лишних проблем для вашего здоровья, а следуйте инструкции по поведению в условиях Заполярья. Кстати. Здесь на Новой Земле для всех срок обязательной службы два года. При этом год службы зачисляется как два. После этого можно переводиться на Большую Землю, но если не хочешь переводиться, то можешь оставаться и служить здесь. К примеру, один из наших офицеров желает перевестись в Горький (Нижний Новгород), а вот другой, подполковник, служит здесь уже семь лет и переводиться не собирается.
С таким предисловием нам были выданы брошюры с инструкциями.
– Товарищ капитан, а чем занимается второй отдел, что на первом этаже? – задал вопрос один из нас.
– Не капитан, а капитан третьего ранга.
– Я думал, что это звание обобщенно можно применять к капитанам любого ранга, – пояснил вопрошавший.
– Нет, – последовало резкое возражение. – Капитан – это звание для сухопутных войск.
– Прошу прощения, товарищ капитан третьего ранга.
– Итак, – продолжил руководитель, – у нас в отделе есть и вторая лаборатория в которой подготавливают к работе автономные источники тока. Их используют для бесперебойного электрического снабжения регистрирующей аппаратуры в специальных сооружениях полигона. В качестве автономных источников электроэнергии применяются катерные аккумуляторы 6СТК-180. Все операции по приведению аккумуляторов в рабочее состояние проводят матросы и мичманы, приписанные ко второй лаборатории.
– Что же касается второго отдела, то там занимаются сейсмическими задачами. Руководит отделом доктор технических наук, полковник Завтраков Александр Иванович. Кстати, он лауреат Сталинской премии. Завтраков – участник Великой отечественной войны. Но я бы не рекомендовал вам интересоваться делами других подразделений из-за режимности работ. Для вас может это оказаться лишней головной болью. Вы же только что знакомились с особенностями работ в особом отделе и расписывались в документах. Ну, а теперь пойдем посмотрим наши лаборатории и познакомимся с сотрудниками.
Мы начали обход с каптёрки. Мичман-каптенармус был на месте. Он встал и последовал за нами. После каптёрки обошли всю левую, от лестницы, часть этажа: мастерскую, склад и еще какую-то комнату. Затем перешли в правое крыло. Первая справа комната – подобие актового зала. Затем – дверь в проектную комнату. Там за столом сидел офицер в форме капитана третьего ранга.
– Герман Александрович, представляю вам Николая Николаевича. Он будет служить в вашем подчинении. Капитан третьего ранга встал, протянул мне руку и сказал:
– Очень рад. Приходи после ознакомления с отделом. Расскажу, чем будем заниматься.
Мой непосредственный начальник показался мне человеком крепкого телосложения и решительным.
Вышли из комнаты. Справа окно, а возле него место для курения, оборудованное двухсотлитровой бочкой с песком. Курильщиков не было. Открыли расположенную рядом дверь.
– Это наша лаборатория электронно-измерительной техники.
Вошли. Нас встретил другой капитан третьего ранга.
– Здравствуй, Геннадий Васильевич. Вот наши новые офицеры. А это наш старший научный сотрудник, специалист по радиоэлектронике.
Когда я вошёл в лабораторию, то увидел, что в комнате два больших окна. Узкой частью к каждому окну приставлено по большому лабораторному столу. На таких столах может разместиться вся необходимая для работы электронно-измерительная аппаратура. Стена, справа от двери, без окон, хотя в коридоре на этой стене окно имеется. (Планировка этого корпуса чем-то напоминала нашу гостиницу. Наверняка, все двухэтажные здания, независимо от назначения, строились здесь по единому проекту). Стена, что напротив глухой, была загорожена шкафами, в которых хранится аппаратура. Шла приборка, и матросы заметали под эти шкафы мелкий мусор. Это нарушение сразу заметил сопровождавший нас мичман. Он сделал матросам замечание и заставил вытаскивать весь накопившийся мусор из-под шкафов.
Столы были двухтумбовые с большим горизонтальным ящиком под столешницей. Я подумал, что в такой ящик можно поместить тестер, мелкие детали, инструмент, комплектующие и много всякой мелочи. Столешница была большая, и вся необходимая для работы электроизмерительная аппаратура, могла быть свободно размещена на ней.
Как потом выяснилось, летней ночью в окна комнаты заглядывает с северной стороны ходящее по кругу солнце, причем, стоящее достаточно высоко над горизонтом. Зимой кругом тёмная ночь, и освещение везде искусственное, поэтому вести разговор о зимнем положении солнца бессмысленно.
После обхода помещений нас завели в одну из комнат и стали знакомить с оборудованием.
– К сожалению, начальника отдела нет на месте, поэтому давайте я ознакомлю вас с приборами, которые вы должны изучить, – и начальник лаборатории стал нам показывать набор используемого оборудования.
Набор «приборов» был не особенно велик: соединительный ящик – СЯ (произносили как эС-Я), щит распределительный – РЩ (эР-Ща), щит исполнительных реле – ЩИР. Кроме взрывозащищенного корпуса и клеммных соединителей «прибор» СЯ ничего не содержал. ЩИР также представлял собой взрывозащищенный ящик, но кроме клеммников он уже содержал некоторое количество электромагнитных реле. Распределительный щит РЩ— это почти то же, что СЯ, но больших габаритов. Здесь изучать было нечего и новых знаний при «изучении» не получишь. Правда, была ещё некоторая надежда в освоении новой транзисторной системы телеметрии «Лира», которая должна была вскоре поступить в распоряжение первого отдела.
Наш куйбышевский товарищ был радиоинженером и должен был обслуживать УКВ радиостанции, а также организовывать радиосвязь на промплощадке. Его непосредственным начальником оказался капитан-лейтенант Вячеслав М. В их распоряжении были радиостанции Р-401 и антенные поля.
После введения в курс дел нашего подразделения я подошёл к своему непосредственному начальнику и доложил:
– Товарищ капитан третьего ранга, я прибыл для получения задания.
В комнате был большой стол, на котором лежал огромный лист миллиметровки.
Герман Александрович начал меня знакомить с работой, какую предстояло выполнять.
– Здесь мы будем заниматься проектированием автоматики опытного поля, а после готовности проекта я поеду в Москву утверждать проект. Затем по этому проекту начнётся монтаж испытательного поля согласно утверждённой документации. Тут и система управления и телеметрия. Вот тебе эскизы. На этой миллиметровке необходимо все соединить так, как указано на этих эскизных листах. Вопросы есть?
Отвечаю:
– Есть. К какому сроку нужно сделать?
– Чем быстрее – тем лучше.
– Ясно!
Он мне:
– Не ясно, а « Есть. Ясно». Так говорят на флоте. Это идёт от английского «Yes. Yes Sir!», вроде бы ещё с Петровских времён.
Я просмотрел все бумаги. Это те самые СЯ, ЩИРы и РЩ. Но с указанными на контактах сигналами. Соединить их и пронумеровать жилы кабелей при известных названиях сигналов на клеммах и при заданном распределении этих ящиков на плоскости – тривиальная задача. К концу недели докладываю о готовности схемы соединений. Удивился быстроте исполнения. Проверил. Одобрил и, как я понял, стал готовиться в командировку.
Герман Александрович имел обыкновение разъяснять, как и что будет происходить. Вот и о будущей командировке он немного рассказал.
– Документы, какие мы повезём, – секретные. Потому нас будет двое и с оружием: с пистолетами. До Архангельска, как ты понимаешь, зимой – только самолётом. А там поездом до Москвы. Проезд безденежный, в купе нас будет только двое – это из-за секретности. В Москве нас встретят и спецтранспортом в управление. Кстати, наша часть относится к подразделениям Центрального подчинения.
Спустя некоторое время, видимо из-за появившейся в гарнизоне молве обо мне как о специалисте в области радиотехники, тот старший научный сотрудник, что располагался в лаборатории радиоэлектронных измерений, пригласил меня в свою комнату и завёл разговор о возможных конструкторских разработках в нашей части. Он поинтересовался объёмом моих знаний и предложил заняться творчеством вместе. Я встретил это предложение с энтузиазмом. Мы быстро сошлись взглядами и подружились до такой степени, что перешли на «ты». Он предложил называть меня «Коль Колич», а его звать по имени. Против «Коль Колича» я не возражал. Его же продолжил называть Геннадием Васильевичем. Фактически он стал моим наставником в мире специальной военной техники, посвящая меня в особенности техники ядерных испытаний.
Так как мой наставник жил в той же гостинице, что и я, но в одноместном номере, то в свободное вечернее время, мы имели возможность обсуждать многие отдельские и НИЧевские проблемы.
Человек он был творческий. Его натура не позволяла ограничивать свою деятельность только плановыми задачами отдела, и он отыскивал проблемы, решением которых мог бы принести для НИЧ дополнительную пользу и славу. Ленинградец. В войну его отец-хирург работал в госпитале, где-то под Лугой. Геннадий Васильевич, будучи ещё ребёнком, часто бывал в расположении этой медсанчасти (не исключено, что его родители и проживали на территории госпиталя). По его воспоминаниям в госпитале работали пленные немцы, которые, как оказалось, были мастерами на все руки и учили парня всему, что умели сами. От них он перенял умения портного, скорняка, слесаря, столяра, а также электрика и немного радиотехника. Я так понимаю, что до поступления в военно-морское училище имени Фрунзе он самостоятельно осваивал радио- и электротехнику в объёме, превышающем объём школьного курса физики.
Зимнее время было практически свободным и могло быть использовано для творчества. Офицеры, зачастую, использовали его по своему усмотрению: кто делает стенную газету, кто занимается гравированием, кто повторно ревизует реле и кабели. Кто-то проводил партийную работу с личным составом.
Был интересный случай, связанный с привлечением в КПСС новых членов. Молодой восемнадцатилетний матрос из роты НИЧ, приписанный к нашему отделу, был приглашён для беседы парторгом отдела. Матросу предложили вступить в Коммунистическую партию. Матрос засиял от такой высокой чести, оказываемой ему старшими начальниками. Ему выдали бумагу, и он тут же написал заявление. Однако не всё оказалось так просто. Видимо, вечером в роте матросы-товарищи провели с ним какую-то беседу, и он на следующее утро по прибытии в часть пошёл к парторгу и попросил вернуть ему его заявление. Парторг удивился и стал объяснять матросу, что заявление в партию – это не игрушка. Это дело серьёзное, и уж коли написал заявление, то забирать его обратно никоим образом невозможно. «Иди и обдумай, осознай, что ты уже не ребёнок, а совершенно взрослый человек: ты же преподавал в сельской школе, был наставником, так сказать, молодых умов, поэтому тебе, как никому другому, нужно будет продолжить идеологическую работу с молодёжью, но уже в новом качестве – коммунистом».
Как я уже упоминал, наша часть располагалась в северной части посёлка, минутах в десяти пешего шага от офицерской столовой. По причине близости КПП от мест жительства офицеров мы всегда ходили на службу пешком, в любую погоду. От гостиницы недалеко – метров с тысячу. Тут вообще все рядом. Столовая – напротив гостиницы, ДОФ – чуть подальше. Военторг – рядом. Спортзал с бассейном – тоже близко. Штаб 77510 – метров пятьсот, если через озеро по дамбе. Это рядом. Но можно и объехать озеро по дороге. Это уже существенно дальше. Особенно в плохую погоду.
В 1969 году начальником гарнизона стал контр-адмирал Стешенко Василий Константинович. Адмирал жил в специальной адмиральской гостинице. Адмирал на первых порах тоже ходил пешком в штаб через озеро Шмидта по дамбе, но впоследствии ему доставили на АН-12 из Ленинграда автомобиль «Волга», и он стал ездить в штаб по дороге, огибая озеро.
Если бы от нашей гостиницы провести воображаемую прямую через озеро Шмидта под углом градусов сорок от линии дороги, что ведет в НИЧ, то обязательно можно было бы увидеть на возвышенном месте за озером, за объездной дорогой, памятник В. И. Ленину. Все торжества по поводу военных и советских праздников проводились на площади возле этого памятника. На современных фото, этот памятник стоит возле ДОФа. Как видно из новых фотографий, на указанном мною месте теперь стоит монумент воину-североморцу с автоматом на груди. Видимо, памятник Ленину переставили после раскрытия покушения в 1970 году на целостность монумента со стороны военнослужащих, призванных из союзных республик.
В часть офицеры ходили пешком. Это очень полезно и интересно. Например, весной, идёшь на обед и наблюдаешь рассвет. Идёшь с обеда и наблюдаешь закат. Все это наблюдалось в узком секторе неба над горизонтом. Сейчас это мне кажется восточной стороной, но ведь это явно был юг. С дороги хорошо наблюдались слоистые дымные облака, шлейфом опоясывающие посёлок на горизонте. В городе мы такого не видели и считали, что это чисто Новоземельский феномен. На самом деле такое же явление иногда наблюдается и вокруг крупных городов. Просто в городе не виден горизонт, и неведение о существовании такого типа дымов было порождено невозможностью наблюдать это явление издали: не виден горизонт – нет восприятия слоистости дымов. Но слоистые дымы просматриваются иногда и южнее полярного круга, если наблюдать город с возвышенного места на удалении в несколько километров.
Если же дул сильный ветер, то при ходьбе нужно было уменьшать динамический напор ветра, для чего корпус разворачивали одним плечом к ветру. Это эффективно: и выдувает меньше тепла, и меньше препятствует движению. В хорошую погоду, была возможность при движении на обед не торопиться, чтобы понаблюдать восход и закат в течение нескольких минут. В начале зимней ночи и в её конце восход – это только прелюдия восхода. Солнца самого не видно, однако расцвеченная заря появляется, но тут же – закат, то есть угасание зари. Наблюдать это явление любопытно.
При ходьбе по скользкой заснеженной тропе мы обнаружили, что для уменьшения скольжения ноги целесообразно ставить на грунт всей стопой сразу, а не на пятку. Такая постановка ноги значительно сокращает вероятность вращения стопы на обледеневшей кочке или ямке, а отсутствие малых радиусов вращения уменьшает величину центробежной силы, стремящейся свалить тело человека. Это было проверено при ходьбе по обледенелой, укатанной колесным транспортом, дороге.
При плохой погоде, когда сухой снег режет лицо с бешеной скоростью, и ветер прерывает дыхание, форма одежды – шуба и шапка. При этом некоторые люди, идущие пешком, прикрывали лицо щитками из оргстекла, удерживая щиток рукой за специальную ручку. На местном жаргоне этот щиток называли «экран». Офицеры нашей части, и я среди них, таким «экраном» не пользовались, но иногда можно было наблюдать жителей Белушки, идущих против ветра с таким экраном в руке перед лицом.