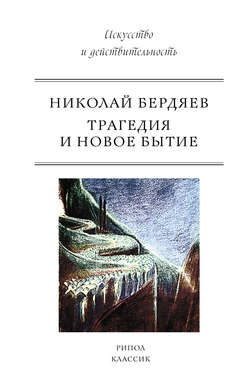Читать книгу Трагедия и новое бытие - Николай Бердяев - Страница 2
Александр Марков. Быт, бытие и сверхбытие Н. Бердяева
ОглавлениеНиколай Александрович Бердяев – философ свободы, готовый приложить к себе даже ругательное «раб свободы»: он предпочитал разделить рабство с несчастными, чем просто кичиться раз достигнутым, – любая остановка на собственных достижениях была для Бердяева подобна смерти. Напротив, он всякий раз вновь пускался в бой, всякий раз начиная борьбу за истину и красоту, чтобы выиграть, правильно рассчитав начальное боевое действие и начальный речевой жест. Враги не могли ему простить ни изъяна дикции, ни безумной любви к собакам, ни французского лоска – а он и был французским дворянином по материнской линии, – ни аристократических крайностей, включая то отчаянный демократизм, то столь же отчаянный антидемократизм, ни его францисканской щедрости ко всем людям и ко всей природе, ни его умения работать достойно, стоя на страже построений пусть не окончательных, но высказанных до конца. Для противников он был философом, несколько раз сменившим политическую позицию: марксист, демократ, консерватор, либерал, пацифист… но они не видели, что Бердяев ровно в той мере занимал каждую позицию, в какой она была щедрой и милостивой, но при этом суровой к смертным грехам. И сейчас иногда Бердяева порицают за то, что он свободно вводит в философию термины богословия, такие как «грех» и «спасение», «церковь» и «мир», «спасение» и «будущий век», – но на самом деле Бердяев просто понимает, что эти термины лучше всего описывают самые общие формы жизни, в которых жизнь не просто принимает некоторое состояние, но вполне состоялась.
Бердяев умел находить вдохновение в любых проявлениях жизни, в зеркалах и магических кристаллах искусства и даже в стремительных эмоциях: по собственному признанию, идея одной из книг пришла ему на ум в кинематографе, в мелькании ускоренных сцен на экране, выхваченных напряженным светом киномишени, – философу сразу стало понятно, как ловить мысль не только остроумными формулами, но и на скорости охотящегося размышления. Если можно выделить бердяевскую школу русской мысли, то к ней будут относиться такие глубокомысленные любители охоты и спорта, как о. Александр Шмеман, обожавший бейсбол по телевизору.
О себе Бердяев достаточно рассказал в книге Самопознание, целью которой было не вскрыть факты биографии, как это обычно бывает в мемуарах, но показать, как именно факты становятся «готовыми», как они заставляют быть наготове, на страже. Родившись в семье кавалергарда в 1874 г. на широких берегах Киева (киевлянами были и его союзники по парадоксальной религиозной мысли – С. Булгаков и Л. Шестов), Бердяев готовил себя к офицерской карьере, но слишком рано постигли его щемящие ощущения тоски, заброшенности, одиночества. Обычные чувства казармы, от Кадетского монастыря Лескова до Душевной смуты воспитанника Тёрлеса Р. Музиля, у Бердяева были осложнены в его случае умением видеть за каждым ощущением что-то большее, чем ощущение: видеть проблему, уже вставшую перед всем человечеством. Он ушел из военной среды в университетскую. Благодаря семейному капиталу и отчасти гонорарам за лекции Бердяев позднее смог посвятить себя литературной работе: говоривший по-немецки и по-французски с детства, он осваивал быстро те вопросы, которые были поставлены в европейской культуре в эпоху Ренессанса или романтизма, такие как вопрос о достоинстве человека, о его речи и символах его бытия, о шансе и успехе человечности, о христоподобии как высшей форме становления личности.
Первые труды Бердяева, на рубеже веков, были посвящены проблематике, открытой русской демократической критикой: народу как проблеме философии – «народ – венец земного цвета», как напишет потом поэт. Философ выяснял, как возможен народ не только как субъект нравственного суждения, но и субъект творческого самоопределения, как субъект исканий и субъект прозрений. Затем, видя то, сколь революционное движение равнодушно к вопросам бытия и даже не может обосновать идеал равенства, которому так страстно служит, не может объяснить, как души могут быть равны в чистоте помыслов, а не в случайном распределении имущества, Бердяев перешел «от марксизма к идеализму». Иначе говоря, философ совершил умственный скачок от экономики народной жизни, скудных законов производственного бытия к политике народной жизни, извечно идеально предзаданной: нельзя построить непротиворечивый град земной, не думая хотя бы немного о граде небесном. В отличие от Павла Флоренского, сберегавшего антиномии как глубинные парадоксы бытия, Бердяев сразу мыслью и мечтой уносился к целям мысли – не к «непротиворечивому», такого в бытии не бывает, но к цели, разглядеть которую уже значит закалить свою мысль противоречиями и полемиками. Бердяев был изощреннейшим полемистом: не из тех, для кого полемика заменяет еду и питье, как для русских революционных демократов, в споре забывавших про обед, – такая халтура была не для Бердяева, но из тех, кто может оседлать полемику в любой момент, как норовистого коня, уверенно и изящно чувствуя себя в крутом седле.
Бердяев между двух революций общается с лидерами новой литературы, с Мережковским и Гиппиус, Вячеславом Ивановым: символисты его привлекали как предтечи новой культуры, но он думал о культуре Духа, которую можно было бы обозначить жестом святой Терезы Малой, когда она в детстве «выбрала всё». С Блоком, правда, он общался мало и позднее вспоминал, как трудно ему было понять речь великого поэта – слишком быструю и мечтательную, для него соразмерную космосу с его взглядом на планету из синевы вечности. Евгения Герцык вспоминала, сколь много читал Бердяев, от средневековых мистиков до современных романов, и сразу делал острый вывод из каждой прочитанной книги, попала ли она в яблочко, которое и есть человек в его непосредственной данности. Бердяев отдал дань и умению Мережковского смотреть на развитие культуры не из современности, но, напротив, из древности, и умению Вячеслава Иванова доброжелательно расспросить о культурных содержаниях всех эпох, даже с готовностью предстать на суд перед ангелами этих эпох, но сам всегда шел дальше. Философ умел смотреть на культуру как на способ самого человека заметить себя, поймать себя в сети мысли, но настолько вдохновенной мысли, что эта ловитва направлена чистым зрением Духа.
В творческих кругах русского модерна Бердяев познакомился с будущей женой Лидией, поэтессой, в молодости пламенной революционеркой, пошедшей в народ, но скоро разочаровавшейся в революционном движении и в первом браке. Лидия стала на всю жизнь верной помощницей философа: она не только вела хозяйство и переписку с издательствами, но и определяла духовный порядок жизни философа. Поэтически и мистически одаренная, она могла сделать каждый день подарком, поместив его в золотую рамку молитвы и поэзии. Накануне Первой мировой войны супруги совершили путешествие по Италии, несколько изменившее стиль мысли Бердяева: вместо былых контрастов отвлеченной и конкретной мысли – яркие замечания, делающие конкретной любую отвлеченность.
Религиозная философия формировалась при прямом участии Бердяева вокруг издательства «Путь». Образцом религиозного философа для Бердяева стал Хомяков – прекрасный хозяйственник, помещик, англоман и при этом богослов, доказавший, что любовь и свобода поддерживают друг друга и в реальности, и в нашей мысли. О Хомякове Бердяев издал книгу, в которой показал, что возможно, располагая небольшим списком теоретических понятий, но при том храня личное благородство, создать философию, в которой человек и общество, природа и спасение найдут себе место. Как и Хомяков, Бердяев охотно производил усовершенствования в быту, хотя бы ограниченном кабинетом, рукописями и домашними семинарами; как и Хомяков, он спорил так, что ни разу никого не задел. Единственный эпизод, когда Бердяев вскипел, – статья «Гасители духа», направленная против жесткого решения Синода о ликвидации афонской общины монахов-мистиков, заподозренной в вольнодумстве. Это было одно из двух неудачных решений Синода, другое – отказ отпевать актрису В.Ф. Комиссаржевскую; и к сожалению, Синод не признал своей частной ошибки, и против Бердяева было заведено дело, прекращенное только с Февральской революцией. Потом в эмиграции Бердяев дал как раз наиболее полное изложение православной веры в статье «Истина Православия», где показал, что догматы – это формулы, позволяющие даже привыкшему удаляться от христианства человеку представить непредставимое, лично узнать то, что продумало и создало его личность от начала и до конца.
Как и на многих современников, на Бердяева произвел впечатление радикализм современного искусства. Увидев произведения Пикассо, Бердяев расценил их как механизмы развоплощения человека: в человека вторгаются машины современной жизни, и не столько он оказывается бесприютным, сколько его тело, его мысли, его воображение. Собрать человека заново уже нельзя средствами былого искусства: требуется новое искусство, в котором созерцание и просветленное прозрение будет одним и тем же. Это световое искусство, для которого средневековое храмовое золото лишь некоторое предвестие. Такое искусство станет почином для ясности в делах и еще большей яркости в литургических размышлениях.
В разгар Первой мировой войны Бердяев публикует книгу Смысл творчества, идея которой довольно проста: творчество делает человека богоподобным, но ровно тогда, когда оно может прямо здесь и сейчас исправить какую-то ошибку. Ошибается и природа, создавая в себе разделение, начиная с полового разделения; ошибается индивидуальный человек, разводя замыслы и воплощение, планы и средства, цели и намерения; ошибается культура, промахиваясь то мимо земли, то мимо неба; ошибаются и люди все вместе, смешивая свою нужду и свое богатство. Творчество – не столько создание нового бытия, сколько исправление этих ошибок, которые даже если были бы исправлены иными средствами, эти исправления не были бы отработаны и выучены.
Поэтому творчество для Бердяева – это меньше всего создание объектов, это создание себя, своей милости и смелости, своего отношения к миру, своей семейственности и своего монашества. Как и для современных теоретиков социального происхождения гендера, так и для Бердяева все различия будут преодолены, но только не в условной области политики, а в безусловной области спасения. Вдохновением для Бердяева тогда стали труды позднесредневекового мистика Якоба Бёме, о котором он узнал из книг самого религиозного из немецких романтиков Франца фон Баадера. Бёме, мистик-самородок, учил, что весь мир осмысленно существует в той мере, в какой вещи не просто значимы, но грамотны: могут вносить поправки в ситуации, блеском своей истины сглаживать искажения в природе и обществе, правильно выстраивать отношения между прошлым, настоящим и будущим. Бёме противостоял зарождающемуся механицизму, но, сверх того, разработал целую систему толкования вещей как провокаций к истине, направляющих сюжеты бытия человечества к идеальным решениям.
После революции Бердяев становится профессором созданной им Вольной академии духовной культуры в Москве, которая была не столько учебным заведением, сколько площадкой для обсуждения целых программ будущего развития культуры. В Петербурге действовала родственная ей Вольная философская ассоциация, Вольфила, в которой вожди были другие, но вопросы те же. Созвучие названия последней организации с именем Вольфилы, священного Волчонка, епископа и просветителя готов, не случайно: предстояло в гуще нового варварства сформулировать строгие правила понимания другого человека, правила понимания книг, писем и вестей. Поэт назвал Гермеса «богом странствий и вестей», и для Бердяева христианство требует странствовать по всему миру, а весть нести и космосу, и истории.
Бердяев, вдохновленный созданной на глазах университетской реальностью, создает концепцию «нового Средневековья», скорого возвращения человечества к бережливому натуральному хозяйству и к чести каждого звания и сословия, каждой профессии. Также он думает о «смысле истории», который усматривает в том, что в истории смыслы развертываются раньше событий: значения пережитого становятся ясны еще до того, как пережитое вступило в полноту своих прав. Бердяев создает феноменологию пророчеств, и это сразу разделяет его с другими феноменологами, стремившимися только к очевидности вещей, а не очевидности огненной проповеди.
Новая власть выдавила философа в эмиграцию: большевики испугались прежде всего благородного консерватизма Бердяева, доказавшего, что консерватизм – не сохранение институтов, но умение работать с тем, что есть, умение найти сокровище и в обычных делах. Бердяева допрашивали лично Дзержинский и Менжинский – оба они начинали как декаденты и, вероятно, опасались Бердяева как преодолевшего декаданс мыслителя. В эмиграции Бердяев вошел в круг французских христианских интеллектуалов, часто связанных с Россией даже родственными связями: скажем, Жан Маритен, католический теоретик искусства и после Второй мировой войны посол Франции в Ватикане, был женат на русской. В чем-то и стиль Бердяева был похож на стиль «новой волны» французских католиков, скажем на Положения и предположения Клоделя. Бердяев участвовал в деятельности Русского студенческого христианского движения – организации, созданной для взаимовыручки молодых русских и совместных созидательных проектов, помогающих учиться и работать; его лекции и идеи более всего способствовали развитию этого движения как школы школ, противостоящей тоталитарному коллективизму.
Лидия Бердяева с тоской воспринимала парижскую жизнь, раздражаясь на Валери и на сюрреалистов, которые старались сделать приемлемой для искусства жизнь в большом городе. Впечатления парижской жизни она подытожила в бесхитростном, но почти кинематографическом стихотворении:
ЛЕТО В ПАРИЖЕ
Шестиэтажный дом…
В раскрытых окнах
Плечи, руки, лица
Над улицей повисли.
Дом веселится.
Шарманка воет у ворот,
В четвертом стонет Тино Росси,
В третьем вальс Шопена
Кружится с джаз-бандом.
Визжит певица.
Дом веселится,
И лишь один, там, на шестом,
От чахлой музыки,
От пошлости людской изнемогает…
Вдруг… окно он распахнул.
Взмахнула крыльями душа,
А тело шлепнулось о мостовую.
Март 1938
После благодаря небольшому наследству Бердяев купил дом в Кламаре, в несколько окон, где устроил кабинет, так что рассеянный свет окна или лампы вдохновлял его учитывать сразу много вещей. В книгах периода эмиграции Бердяев пишет как математик или физик, помнящий сотни формул и только некоторые выписывающий на доске. Друзья немного посмеивались, что Бердяев, экзистенциальный философ бесприютности, стал домовладельцем. Но в доме Бердяеву был важен не столько уют, сколько умение быть внимательным: как другие внимательны к жизни природы, к биологическим видам или геологическим породам, так он внимателен к содержанию прочитанных книг и к интуициям еще не прочитанных.
В поздних книгах главная забота Бердяева – реальность духовного мира, которая мыслится не как окружающая привычные нам вещи или проникающая в них, но как бросающая вызов привычному расположению вещей, заставляющая иначе быть расположенными к вещам, иначе комбинировать вещи и идеи. Здесь Бердяев мыслит не как живописец, а как архитектор, которому важно, как будет восприниматься его здание, даже как оно будет выглядеть на картине или фотографии, как оно будет подсвечено и как вдохновит на понимание природы света. Ненамного переживший жену, он умер в 1948 г.
Философия Бердяева может быть передана в одной фразе: свобода заявляет о своей реальности бытием, бытие это как табличка или знак в руке свободы, а Дух есть само будущее бытия, сам календарь, вдруг открывшийся на будущих числах, и мыслить Духа «настоящим», а не «будущим» – угашение Духа. Свобода для Бердяева и есть само сознание человека и мира, и уже из этого сознания развертывается бытие, взятое на учет природой или обществом, и потому никогда не бывающее вполне чистым. И только Дух проходит чистотой, как, скажем, колесо проходит колеей, то есть идя по колее и оставляя колею. Где Дух прошел, там уже культура сразу сказала свое слово, от удивления перед Духом.
Философия творчества Бердяева тогда будет изложена так: существует замысел Духа о бытии; и такой замысел, даже не успев реализоваться, уже делает бытие сверхбытием. Но нужно для этого сделать ложное бытие истинным бытием, и этим занято искусство, которое наделяет фантазии смыслом, а из различных версий одного и того же события избирает наиболее вдохновенную. Тем самым искусство – это пророчество, но существующее в мире различных версий, в отличие от пророчеств философа и богослова, которые существуют в мире, где по преимуществу одна версия событий уже дала о себе знать.
Стиль Бердяева часто называют афористичным, но на самом деле нет большей противоположности афористичности романтического стиля, чем письмо Бердяева. Для немецких романтиков афоризм, фрагмент, парадокс заключал в себе целый мир, как напряженно переживаемое явление лика бытия; для Бердяева мир не может быть заключен даже во всей совокупности остроумных высказываний, а явление лика бытия должно вдохновлять, а не напряженно переживаться. Поэтому смысл такого стиля другой – сказать не только, как всё есть, но и как всё «бывает», когда сбывается несбывшееся, и даже сбывшееся еще раз сбывается, чтобы напомнить о своем смысле. Отсюда, от этого повторения того, что уже дано, но должно быть и задано нам как задача, и некоторая темпераментность стиля философа.
Также Бердяев любил употреблять слова не самого общего ряда, образцом был здесь для него Владимир Соловьев, который ввел в русский язык, например, гностический термин «сизигия», в значении духовной реципрокности, взаимозависимости, и отчасти Николай Федоров, говоривший, скажем, о Пасхе и Пятидесятнице как об общем будущем человечества. Поэтому, читая у Бердяева или его последователей об эпифании, социоморфности или мистагогичности, нужно понимать, что это не блеск слов, а эксперимент, насколько слова могут вместить не только указания на знакомые вещи, но и события и процессы с неизвестным концом. Этим опровергается и порицание Бердяева за то, что он, считая старую философию несостоятельной для новых задач мысли, пользуется ее терминами – эти термины понадобились философу для обозначения не вещей, но того, как привычные вещи взламываются игрой смысла, которая только в виде пробных партий была разыграна в старой философии.
Чтение работ Бердяева – всегда опыт знания и понимания: это не испытание себя, а скорее проверка того, что тебе «дала» очередная охота за мыслью. Не только впечатления и не только добыча, но и умение сказать и объяснять, вынесенное из рассуждений мысли о самых разных предметах, – вот урок Бердяева. Приступим к этим урокам прямо сейчас.