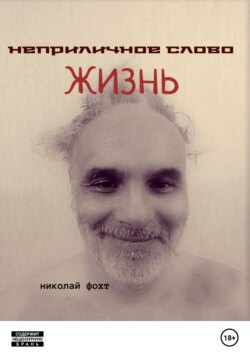Читать книгу Неприличное слово жизнь - Николай Фохт - Страница 3
Где меня всегда можно найти
Тверской бульвар
ОглавлениеС нежностью вытянуться во всю длину, от памятника до памятника. Навзничь: в голове закат, в ногах рассвет. В прорези, в прицеле ни черта – ни звезд, ни других небесных тел. Луна левее, луна – немного отойти, через дорогу, под арку, ближе к помойке, к котам. Все по размеру, почва под поясницей достаточной мягкости и изрядной температуры. Ноги упираются в культовое сооружение, голова в холоде, голова на видном месте.
Заветная старина, ночные всхлипы хромой старухи, утренние ее синкопы до умывальника. И не в детстве было, а помнится уже всю жизнь. И эти открытия на неприспособленной для крупных открытий, по всем статьям односпальной кровати. Зачем ты шипишь об обманщиках коварных – ты не видишь что ли, перед тобой уже мужчина, неспособный на скупую слезу, способный уже отделить одно от другого. Зачем разбиваешь сердце лишним рассказом, мертвым сюжетом. Снеси его в Голливуд, на Мосфильм; отрой Довженко и доложи ему коллизии. Мне не кино ставить, мне жить, возможно долго, по возможности счастливо. Как после твоих подмосковных баек смотреть в глаза серьезным девушкам. Возьми себя в руки – чувствуешь? О какой первой любви, о какой недавней девственности ведешь ты свои лукавый разговор. Лучше я вступлю.
Есть среди вас, обманщиц, и смелые. Есть циничные, но мы о смелых. О своей девственности они тоже начинают красиво. Но видя в глазах усталость и покорность, меняют сюжет на глазах. И вовсе не в десятом классе – в пять лет бежала она по стерне. Зачем? За опоздавшим журавлем, за августовской звездой – да только бежала себе девчурка, не подозревая о смысле мужчин, о материнской доле, не испытав счастья воздушного поцелуя. Бежала наобум, растопырив руки – как чайка над скошенным морем хлебов. И на тебе – ковырнулась, споткнулась о ком засохшей земли. Ничего худого не подозревая, девочка, ангел, стала падать. Да так удачно она упала, что не упала даже, а села на попу. А я ведь предупреждал вначале, что стерня, жесткая, бескомпромиссная стерня – то же, что и солома, торчащая из земли на 6-7 сантиметров. Девчурка конечно укололась и более того, один укол зашел настолько далеко, что невинный ребенок в одночасье стал женщиной, как Монголия из феодализма перемахнула сразу к нам, в социализм. Мария в полях господних кусала свои святые локти, озорник Зевс посмеивался в дедморозовы усы. Сама рассказчица заканчивала исповедь с улыбкой Мадонны на устах. Еще бы, с пяти лет практически загодя отпущен был первородный грех.
Вот какие правдивые истории нам важны, а не этот сопливый пересказ страшилки, услышанной перед сном в палате пионерского лагеря от старшей, курящей девочки. За то можно и стакан "Фетяски" получить, а за это даже на утренний кофе трудно рассчитывать, с бутербродом, во всяком случае.
Юрец стоит на коленях перед черной ночной лужей. Он не пьян – все впереди. Юрец хочет запить лужей водку с тяжелым именем "Привет". Да, вышли неподготовленными на бульвар. Да, скрав бутылку со стола, где французы перемешались с друзьями, позабыл я о запивке. Без запивки Юрец, как известно водку не пьет. Пиво там, бутылку сухого, портвейна несладкого – запросто, из горла, на фоне проходящего отряда пионеров, до дна – без запивки. Но не водку, но не "Привет".
Итак, повинно склонив голову, Юрик примеривается. Ночь, вода кажется прозрачной, чистой. Водка льется в Юрика медленно, звуком обозначая все изгибы глотки, пищевода, шипит, попадая на связки; вскипают две-три капельки, брызнувшие на легкие; звучным шлепком падает 150-170 граммов в принципиально пустой Юриков желудок. Друг не скрывает, что ему страшно: он громко, на весь дворик кричит, жмурится, жадно,
как секунду назад водку глотает тяжелый московский воздух. Щекой припадает Юрик к асфальту, касается губами начала воды и грубо вдыхает лужу. Юрик не встает с колен, на лице улыбка, в комментариях – удовлетворение, в скупом жесте – предложение последовать примеру.
Я могу не запивать водку – другая у меня беда: не способен пить из горлышка. Поэтому достаю из сумки очечник (эх, зрение, зрение) непослушными пальцами растворяю пучеглазую пластмассу – выпивать из очечника фирменный стиль.
В очечнике давно нет мягкой тряпочки, подкладки – очки здесь никто уже не держит. Две впадины в этом сосуде, два полушария. А значит, начертано сделать два глотка. Очечник только на вид неказистый – он емкий, граммов 110 вмещает, по 55 на каждый глаз. Как только водка ляжет в углубления, начнется неотвратимая реакция, запахнет полимерами. Поэтому пить надо быстро, чтобы не причинить организму вреда. Другой на моем месте засуетился бы, затрясся, пролил бы в смятении половину. Я не такой, я отчаянный: медленно, вдыхая губительный химический аромат отвожу локоть в сторону, как пионерский трубач, затем поднимаю локоть повыше, практически выше головы. Это знает каждый: особый угол между предплечьем и плечом, локоть обязан находиться в высшей точке – чтобы придать веса кисти, чтобы кисть одним движением, мимолетным, нежным и твердым опрокинула водку в рот. В очечном варианте геометрия и механика достигают невиданной важности: счет идет на микроны – выпить содержание одного углубления, не дав водке из другого воспользоваться креном и нахлынуть. Ловко, как яйцо из двух скорлуп бросаю водку в рот, на гортань. Важно задержать ее здесь – от гортани и до головного мозга недалеко. Пусть пары затуманят непосредственное серое вещество, подкорку, мякоть, баунти нашего старого доброго мозга.
И потом уже, шагая по Тверскому, замысливали разные штуки, в результате которых лично я оказался на Ярославском вокзале, а Юрик под поливальной машиной на Проспекте Мира. Лично я собирался ехать в Пушкино, а Юрик очень хотел посикать. Внезапно его обуяла стыдливость: нет чтобы по-людски поссать на видавшие виды покрышки КАМАЗа, бросить соленое словцо припозднившейся домохозяйке, лягнуть присоседившуюся собачку. Юрик же занял укромную позицию под днищем гиганта. В процессе его там и застукали два пьяных чуваша, имевших отдаленное отношение к поливальной машине. Юрик хотел истолковать чувашам свои действия, но те принудили его распить с ними полбутылки портвейна – без объяснений.
В общем, Юрик вернулся к французам, которых в ответ на "сава бьен" обреченно облевал. Потом хотел кончить жизнь прыжком из окна; допить сухое; уснуть. Французы остались довольны. Юрик тоже, потому что утром он успел выскочить из квартиры безнаказанно и купить в "Российских винах" бутылку "Совиньона".
Мы пересекали Тверской полчетвертого утра. Женщину, идущую немного впереди я цепко отслеживал периферическим зрением.
Олеся почему-то, парашютистка. Об этом я узнал позже. Как угораздило? Вопрос имеющий много ответов. Самый правдоподобный: алкогольное опьянение, что и исказило действительность. Как бы там ни было, парашют возникал периодически. Купол раскрывался внезапно, что называется, в неподходящих места: в булочной, в гостях, во сне. Раскрытие и последующий полет до земли сопровождались всхлипами, какими-то воспоминаниями, отдававшими женской казармой. Мелькали названия спортивных самолетов, пилотов и парашютистов противоположного пола. Ясно было: Олесе хотелось в небо.
В ней вообще чего-то не хватало, женского. В самые тихие и нежные минуты не покидало ощущение, что противоестественно для себя ласкаю подростка, трахаю, одним словом, мальчишку, сорванца. Каждый раз перед тем как начать, забавы и утехи, рукой проверял контрольные точки – вроде, все в порядке, а ощущение не пропадало.
Но дело не в этом. Мы пересекали бульвар и вдруг – рассвет. Даже местный истукан, бронзовый натуралист Тимирязев вздрогнул – такой цвет пошел, зарево такое, схватки – новый день рождался в муках.
Такое дело – осень, так уж случилось. Иди, иди, девочка, я догоню. Думаешь не знаю, что ровно через 23 дня ты возьмешь билет и улетишь вверх. Рядом будет и пилот, и мастер спорта, и еще пара любителей. Не жди меня, поднимайся одна, разогрей чай, я сейчас – здесь такие дела, тут такие фрагменты! Осень возвращает одиночество, публичную радость, единственный доступный смысл. Зря лелеял надежды, зря представлял, как пройдемся вместе по любимым закуткам, как разделим ложе, преломим хлеб – и так многократно, наслаждаясь однообразием, в котором и есть вечность, в которой и есть только – любовь. Не объяснить, что воссоединение плоти больше, чем "акт", чем истома, чем страх залететь, чем лужица на простыне, чем сигарета после, чем спасибо перед сном. Попытка стать единой плотью, внедрение в чужие, холодные, серьезные пределы, где спрос превышает предложение, а надзор не ослабевает. Как заставить вызубрить, что ревность – это отраженный сигнал из смежной черноты: там восседает тот самый Бог в виде йети и джойстиком своим пытается напустить диггеров прямо на нас. Я вижу, старик Тимирязев, что ты за меня, зря что ли ты тут под бомбежкой стоял, спинным мозгом чуя, как варвары перетаскивают коллегу Пушкина через дорогу. Дай прижмусь виском к ледяному холоду твоего хитона. Куда идти, когда такой рассвет, когда до заката целый день. Как прожить, продержаться как. Все вроде перепробовал…
И так всегда: вместо рассвета – белесый, готовый практически к употреблению день, новые, бля, сутки. Иди ты в жопу, мудак лысенковский. Что же ты, козел, сдал Александра Сергеевича, Мент позорный? Где ты был в ночь на 20 августа и третье октября? Равнодушно наблюдал за кувырками демократии? Блядюга, ты замочил неповинных дрозофил? Ты запретил телевидение и пейджеровую связь, ты не допустил факсы? В глаза, блядь, смотреть! Что руки на мудя опустил – стыдно? Раньше надо было дрочить, когда генетики нуждались в подручном материале. Если бы ты не встрял, глядишь она, генетика, наука в общем, шагнула уже так далеко, что тебя не из железа бы отлили, а заморозили, как Майкла Джексона, чтобы разморозить в другой эпохе. Вечно бы жил, а не как сейчас.
Что мне прикажешь теперь делать? Нырнуть под парашют без кислородной подушки? А если не раскроется, он у нее не всегда раскрывается? Я ведь когда об землю ебнусь, вряд ли соколом обернусь. Чай пить? Заснуть? Забыться? Видеть, может прикажешь, сны? Эх, братец… Зачем ты все это устроил? Зря. Тяжело мне теперь на сердце, мне грустно, Тимирязев.