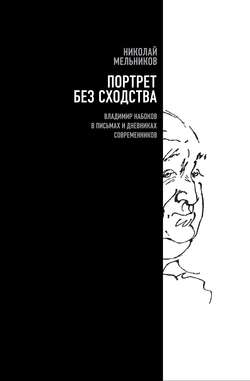Читать книгу Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников - Николай Георгиевич Мельников - Страница 4
1930-е годы
ОглавлениеИз дневника Веры Буниной, 19 января 1930
<…> Вечером читали «Защиту Лужина». Местами хорошо, а местами шарж, фарс и т.д. Фокусник он ужасный, но интересен, ничего не скажешь. Но мрачно и безысходно. Но Лужин это – будет тип. В каждом писателе, артисте, музыканте, художнике сидит Лужин. <…>
Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 14 марта 1930
<…> Я Вас очень прошу написать одну страничку (или даже меньше) для «Современных записок» (до 28-го) о Сирине «Возвращение Чорба». Я считаю, что это Ваш долг обратить на Сирина внимание публики. <…>
Илья Фондаминский – Марку Вишняку, 15 марта 1930
<…> Посылаю тебе «Соглядатая» Сирина. Мне нравится меньше, чем «Лужин», но все-таки и это талантливо. Т.к. мы брали «на корню», то я ему написал, что роман будет напечатан осенью – в летней книжке надо сделать перерыв (так мы думали в редакции). Он очень просит напечатать всё в одной книжке (всего 4 листа) – я написал, что постараемся, но не уверен. Обещал ему выслать деньги при первой возможности – не позже чем через месяц (по старому условию мы платим при получении рукописи). <…> Я просил Ивана Алексеевича [Бунина] написать страничку для «Современных записок» о «Возвращении Чорба» Сирина. Это надо обязательно, ибо Сирина совсем замалчивают или несправедливо ругают (Адамович). Если Иван Алексеевич не согласится, попроси Осоргина. Обязательно сделай это. <…>
Александр Кизеветтер – Марку Вишняку, 2 мая 1930
<…> Для оценки повести Сирина нельзя обойтись без экспертизы двух спецов – по шахматам и по психиатрии. Это говорит уже не совсем в пользу автора. Художественное произведение должно быть убедительно для читателя помимо всяких профессиональных экспертиз. Спец по шахматам у меня под рукой. Мой зять – довольно крупный шахматист. Он остался доволен шахматной стороной повести. И даже находил, что многое там напоминает одного современного маэстро – не из самых первачей. Спеца по психиатрии у меня под руками нет. Итак, по этой части я беспомощен в оценке.
Однако вот «Красный цветок» Гаршина для меня убедителен, несмотря на мою беспомощность в области психиатрии. Что же это означает? А вот остается немотивированной любовь М-me Лужиной к ее нелепому супругу. Конечно, «любовь зла – любят и козла». Бывает, что именно нелепость мужчины вызывает страсть в женщине. Но в повести любовь является без всякой почти художественной мотивировки, каким-то капризом автора. <…>
Вадим Руднев – Марку Вишняку, 9 мая 1930
Дорогой Маркуша,
вчера получил твое письмо с рукописью Сирина и вчера же ответил: «pas d’objection»29. «Не возражаю», если Вы по тем или иным причинам считаете это нужным, – хотя как будто у нас в портфеле есть что-то принятое из мелочей.
По существу же вещь Сирина эта мне не очень понравилась (как, впрочем, и все его рассказы). Однообразен он очень, и печатать подряд его журналу, по-моему, невыгодно. Однообразен, всегда пуст душевно, – это утомляет и отвращает. Да и с точки зрения репутации журнала полезнее больше пропускать разнообразных имен. Но, повторяю, не возражаю, если у Вас обоих есть основания стоять за Сирина. <…>
Вадим Руднев
Из дневника Галины Кузнецовой, 15 октября 1930
<…> После завтрака пошли каждый по своим делам. Я ходила в библиотеку. На вопрос мой, что теперь больше всего читают и спрашивают, библиотекарша ответила:
– Конечно, бульварное. А потом книги, где нет революции. Так и просят: «только, пожалуйста, без революции!» Хотят отдохнуть на мирной жизни. <…>
Я спросила о Сирине.
– Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы «Машенька». Ехала-ехала и не доехала! Читатель таких концов не любит! <…>
Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 22 октября 1930
<…> Был в <…> Праге, Дрездене, Берлине и Данциге. Видел много стран и людей – о чем и доложу Вам при свидании. <…> Ближе познакомился с Сириным. У него интересная жена – евреечка. Очень мне оба понравились. Написал новый большой роман – надеюсь, что отдаст нам <…>.
Из дневника Галины Кузнецовой, 2 ноября 1930
<…> Мы всю дорогу говорили о Сирине, о том роде искусства, с которым он первый осмелился выступить в русской литературе, и Иван Алексеевич говорил, что он открыл целый мир, за который надо быть благодарным ему. <…>
Из дневника Веры Буниной, 15 ноября 1930
<…> Говорили о Сирине. Д[митрий] С[ергеевич Мережковский] сказал: «Боюсь, что все это мимикрия <…>. Нужен только тот писатель, который вносит что-то новое, хоть маленькое» <…>
Из дневника Галины Кузнецовой, 27 ноября 1930
<…> После завтрака Дмитрий Сергеевич [Мережковский], по обыкновению, ушел отдыхать, Володя отправился заказывать билеты, а мы втроем остались с З.Н. [Гиппиус]. <…> На этот раз она была мила и старалась говорить откровеннее и понять нас. Говорила, что теперь нет ничего интересного для нее в молодых писателях, что все «Фельзены и Поплавские ее разочаровали». <…>
Потом говорила о Сирине. Он ей тоже не нравится. «В конце концов так путает, что не знаешь, правда или неправда, и сам он – он или не он… И так хочется чего-нибудь простого…»
…4 января 1931
Фондаминские приехали вчера, и вчера же вечером Илья Исидорович поднялся к нам. <…>
В Берлине он провел вечер (свой самый приятный вечер там) у Сирина-Набокова. Он живет в двух комнатах с женой «очень хорошей, тонкой», и по некоторым мелочам живут они трогательно.
Любезно-нервен? Или нервно-любезен? – спросил И.А. [Бунин].
– Да… как вам сказать… Он благожелательный человек… Так приятен, хотя и производит такое впечатление, что в нем то же, что в его романах, – он в них раскрывается до конца, дает всего себя, а что дальше?
Вот за это, признаться, стало, глядя на него, страшно.
– Ну а внешность? Худ, как черт!
– Худ, как черт! <…>
Из дневника Веры Буниной, 4 января 1931
<…> И.И. [Фондаминский] рассказывал. Мы слушали. <…> О Сирине: «Очень приятный, и жена его евреечка, образованная, знает языки, очень мила. <…> На отца не похож. И.Ал. [Бунина] обожает. Показывал бабочек. Влюблен в них. <…>»
Илья Фондаминский – Марку Вишняку, 6 апреля 1931
<…> Нельзя давать больше 50 стр. Сирина – это чтение не для всех. <…>
…27 мая 1931
<…> Сирин превосходен (Ив.Ал. [Бунин] находит его роман первоклассным), но недостаточно занятен. <…>
Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 19 августа 1931
<…> В «Современных записках» пойдет новый роман Сирина «Camera obscura» – изумительно талантливый и интересный. Из немецкой жизни. <…> В Берлине много провел времени с Сириным. Он очень хочет перебраться во Францию – на юг, в Ниццу. Я пытаюсь ему это устроить. <…>
Из дневника Веры Буниной, 10 октября 1931
<…> Прочла Сирина. Какая у него легкость и как он современен. Он современнее многих иностранных писателей. Вот у кого <…> есть «ироническое отношение к жизни». Вот кто скоро будет кандидатом на Нобелевскую премию <…>
Из дневника Сергея Бертенсона, 3 января 1932
<…> Ходил знакомиться с Набоковым (Сириным). Сказал о желании Майльстона привлечь его к писанию сценариев для Холливуда (вернее, «стори», которые могут быть переработаны в сценарии). Он очень этим загорелся. Сказал, что буквально обожает кино и с увлечением смотрит фильмы. Дал мне рукопись своего нового романа «Камера обскура», который печатается одновременно по-русски в «Современных записках» и по-немецки отдельной книгой. <…>
…7 января 1932
<…> Прочел «Камера обскура» Набокова. Вряд ли это пригодно для американского фильма. Чересчур эротично, и нет ни одного положительного лица. Герой, что называется, «мокрая курица», а героиню, чтобы возвести ее в центр фильма, надо сделать хотя бы и отвратительной, но более значимой.
Сегодня завтракал у Набоковых и расстался с ним на том, что он пришлет мне пересказы тех своих вещей, которые он считает пригодными для кино. <…>
Илья Фондаминский – Марку Вишняку и Вадиму Рудневу,
11 февраля 1932
<…> Мы обещали Сирину, если будут деньги, послать аванс за «Camera» – он голодает. Пошлите ему сейчас же возможно больше. «Camera» находится у Ильи Ник. Коварского – он отдал ее переводчику. <…>
Михаил Карпович – Владиславу Ходасевичу, 12 апреля 1932
<…> На днях видел здесь Сирина (который мне, между прочим, понравился – он оказался гораздо проще и милее, чем я почему-то ожидал), и вот он рассказывал, что недавно в Берлине советский писатель Тарасов-Родионов, убежденный коммунист, по собственной инициативе добился свидания с ним, Сириным, и в разговоре очень хвалил его писания, с которыми он (Тарасов) познакомился давно за границей, убеждал Сирина, что он совсем не «буржуазен», и старался уговорить его ехать в Россию! Не думаю, чтобы ему подобное задание могло быть дано ГПУ. Для чего и кому Сирин в России нужен? <…>
Из дневника Галины Кузнецовой, 8 июня 1932
<…> И.А. [Бунин] читал вслух рассказ Сирина, не принятый «Последними новостями» будто бы за неприличность. Ничего особенного там, однако, не было. Но жестокая вещь. Сирин делается действительно жестоким. Называется рассказ «Хват». <…>
Александр Амфитеатров – Вячеславу Иванову, 16 августа 1932
<…> Читали «Защиту Лужина» Сирина-Набокова? Хороша. <…>
Владимир Деспотули – Александру Бурову, 24 сентября 1932
<…> Человек, способный так тонко чувствовать, как Буров, – для меня во сто крат дороже прилизанного Сирина… Что же толку, когда от него у меня на душе холодно… Сердцем я ему не верю. Он не знает страдания и копается в сортирных мелочах. Может быть, жизнь его со временем стукнет хорошо башкой о стенку горя и страданий – тогда, вероятно, и он сможет затронуть душу. <…>
Вера Зайцева – Вере Буниной, 14/27 ноября 1932
<…> Ты меня спрашиваешь, что я думаю о Сирине. Он, конечно, талантливый очень… но что дальше? Теперь уже есть, но все-таки хотелось бы еще. Он «Новый град» без религии (что мы под этим разумеем – наше поколение). Глядя на него, не скажешь: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое», – на это Алданов ответил: «Ему материально тоже очень трудно». Одним словом, он очень модерн. Но изящный, воспитанный, и я думаю, что знает, «откуда ноги растут». Нам он очень понравился. Читал блестяще, очень интересный отрывок. Народу было полным-полно – 3300 франков собрали, а зал маленький. Илья Исидорович милейший смотрит на Сирина влюбленно <…>
Из дневника Веры Буниной, 30 декабря 1932
<…> Потом мы всю дорогу говорили о Сирине. Он [Леонид Зуров] мне говорил: «Я не хочу разблестываться, как Сирин, я даже вычеркиваю очень удачные сравнения, я как комнату свою просто держу, так и писать хочу. В этом я и от И.А. [Бунина] отличаюсь. У него только этот блеск временами, а за ним есть что-то серьезное. А у Сирина только блеск. Он взял эту особенность у Бунина и разблистался. Теперь другие даже и сравнивают Сирина с И.А. И.А. это может быть неприятно. Раньше он один умел так, а теперь и Сирин стал то же делать, да только еще чаще». <…>
…1 апреля 1933
<…> Сирин написал роман «Отчаяние» и хочет, чтобы «Последние новости» печатали его <…> на последней странице, а к августу он окончит роман для «Современных записок». Не слишком ли? Мне как-то страшно за него как за писателя. Правда, это современно, но ведь когда писатель очень современен, то это очень опасно – выдержит ли он, когда эта современность пройдет? Если даже он все время будет идти в ногу с современностью, то как после смерти? <…>
Оскар Грузенберг – Марку Вишняку, 2 июня 1933
<…> Удивляюсь статье Адамовича (в № «Последних новостей» от 1 июня) о «Camera obscura» Сирина. Роман этот исключительно талантлив – и именно поэтому он мне неприятен: как Вы знаете, я не терплю повоенной Германии, а она в его романе показана с достаточной правдивостью в интимной жизни. Однако не об этом хотел сказать, – а вот о чем: конец романа превосходит все, что было талантливого, а порою и гениального в русской художественной литературе. Такой сцены, какою Сирин закончил свой роман, нельзя назвать даже гениальной (это не то слово!): тут уже колдовство, ибо я никогда не думал, что человеческое слово может быть так выразительно. Я читал эту сцену вчера днем – и мне стало так страшно <…>, что я от страха выбежал на улицу. Между тем, Адамович, которого люблю за абсолютный вкус (как бывает абсолютный слух), этой сцены как будто и не заметил… Попомните мое слово: Сирин окончит сумасшедшим домом. – Разве можно так переживать, так писать! <…>
Илья Фондаминский – Вадиму Рудневу, 5 августа 1933
<…> Если И.А. [Бунин] не даст 2-й части [«Жизни Арсеньева»], или Алданов не даст совсем, очень убеждаю вас печатать Сирина. Вещь может понравиться или нет, но Сирин первоклассный писатель, и мы не провалим номер. Если же мы заполним номер Зайцевым и рассказиками, мы снизим наш уровень. <…>
Константин Сомов – Анне Михайловой, 5 октября 1933
<…> Читаю я теперь меньше – так всегда, когда работаю. Последняя книга – это Сирина «Защита Лужина». Очень мне не нравится этот писатель, с претензиями и самовлюбленный – так чувствуется это. <…>
Сергей Горный – Александру Амфитеатрову, 12 ноября 1933
<…> Вы спрашивали в последнем письме об Ирецком и Сирине. <…> Сирин, – мастер, ювелир, взысканный Богом художник, в жизни «энглизирован», сдержан, – несколько опьянен успехом, поэтому чуть-чуть генеральствует (это, должно быть, скоро пройдет); учтив, чуть аффектирован, насквозь джентльмен (кровь отца), но, как и в творчестве своем, холоден абсолютно. Тепло, мягкость к людям – для него просто «неряшливость» характера, вроде расстегнутого воротника или распахнутого пальто. Человеческое тепло ему органически чуждо. От него веет предельным холодом, но общение с ним («светское») весьма приятно. Сказывается воспитание Оксфорда. Как писателя я ставлю его на одно из первых мест. Человек? С «человеком» хотел бы встречаться только в «салоне».
Душевно Ваш Сергей Горный
Александр Амфитеатров – Ивану Бунину, 1 января 1934
<…> русские писатели начинают очень забывать язык. Не исключая даже именитых. В. Сирин очень талантливый беллетрист, но о присланной мне им «Камере обскуре» я откровенно написал ему, что если это не «нарочно», то надо взяться за словарь и синтаксис. Язык подстрочного перевода с английского или немецкого. Ужасно жаль. <…>
Сергей Горный – Александру Амфитеатрову, 6 января 1934
Дорогой Александр Валентинович
По целому ряду «пунктов» Вашего последнего письма мне хочется с Вами безоговорочно согласиться – правы Вы, говоря о Сирине (верно, что «Камера обскура» значительно ниже предыдущего). <…> У Сирина самое сильное: оптика. Зоркость его поразительна. Изящная, тончайшая отделка раз увиденной детали – изумляет. Понятно, это мастер Божьей милостью: и когда он «видит» благодаря внутреннему толчку («clairvoyance!»)30 – он неподражаем. Но бывает, по-видимому, так, что этого внутреннего толчка, этого озарения почему-либо в данный момент – нет. И, – о, ужас! – Сирин начинает «вспоминать» – как он «это делал» «в прошлые разы»… А «делать» это нельзя. Исчезает волшебство, тайна божественной оптики. Сирин делается надуманным, кривым, напряженным. Это у него редко, но – бывает. Есть отдельные вещи сплошь не озаренные таким вольным и воздушным «видением». Зато – какая радость, когда он отдается во власть своей «оптики» (например, почти все в «Защите Лужина»). Тогда забываешь, что в сущности Сирин холодноват, – по-видимому, не очень любит людей, замкнут и почва его душевная, обильно покрытая блестками (тоже, ведь, созданными Богом) ничем внутри не оплодотворена. В ней нет влаги. Ему в конечном счете «наплевать» на своих героев. Жалости, мягкости, – улыбки доброй или горестной – в нем совсем нет. <…>
Сергей Горный
Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 16 февраля 1934
<…> Последний № «Современных записок» удачно составлен. <…> Что до «изящной словесности», то раз нет продолжения «Жизни Арсеньева», то на первом месте, конечно – Сирин. Сейчас он достиг предельной виртуозности и этим подчас прямо-таки захватывает. Но я не могу сам себе объяснить, почему все же что-то в нем отталкивает, не то бездушие, не то какое-то криводушие. Умно, талантливо, высокохудожественно, но – безблагодатно и потому вряд ли не эфемерно. <…>
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу