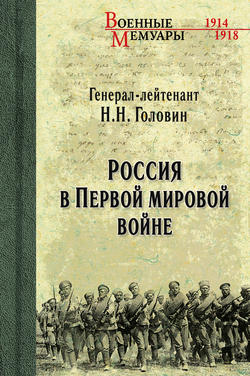Читать книгу Россия в Первой мировой войне - Николай Головин - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья
Условия, затруднявшие надлежащее устройство и оборудование российской вооруженной силы
Несостоятельность расчетов мирного времени
ОглавлениеБлокада во время войны являлась для России тем более чувствительной, что слабое развитие русской общей промышленности не было в состоянии ответить колоссальным требованиям современной войны в области вооружения, огнестрельных припасов и сложного, многочисленного технического оборудования и снабжения. Отсюда следует, что по сравнению с остальными европейскими государствами от России требовалось:
а) принятие в мирное время гораздо больших норм для мобилизационных запасов,
б) наличие гораздо большего числа казенных военных заводов.
Посмотрим, насколько эти требования были выполнены.
Сопоставление расчетных норм, сделанных русским Военным ведомством в 1910 г., с требованиями, предъявленными Ставкой в 1916 г., приведено в нижеследующей таблице:[47]
Отсюда мы видим, что во время войны требования превысили предположения:
в наличности орудий…………………………………………….. в два раза,
в годичном поступлении новых орудий
(не считая ремонта)…………………………………………….. в девять раз.
Если мы обратимся к рассмотрению вопроса о количестве имеющегося к началу войны артиллерийского огнестрельного запаса и сравним с теми требованиями, которые были предъявлены в течение войны Ставкой, то мы увидим следующую картину:[48]
Отсюда мы видим, что годовая потребность по исчислению Ставки оказалась большей, чем было предположено Военным ведомством в мирное время:
Несомненно, что в своих требованиях Ставка в конце 1916 г. под непосредственным впечатлением переживаемой катастрофы в артиллерийском снабжении грешила некоторым преувеличением. Но столь же несомненным является самый факт, что принятые нашим военным ведомством нормы оказались в несколько раз меньшими действительной необходимости. Было бы несправедливо обвинять русское артиллерийское ведомство в том, что оно совершенно не предвидело колоссальных потребностей предстоящей войны. Ошибка, конечно, была сделана, но в этом отношении русское артиллерийское ведомство мало отличалось от таковых же во Франции и Германии.
Как мы указывали выше, Россия вследствие своей промышленной отсталости и легкой осуществимости блокады должна была иметь наибольшие нормы запасов. Но вот что происходило при всякой попытке увеличить эти нормы.
Число «выстрелов» мобилизационного запаса измерялось всего 1000 на орудие.
Главное управление Генерального штаба подняло об этом вопрос. Заседали комиссии, шла переписка, и наконец в конце 1912 г. начальнику Генерального штаба удалось выхлопотать для Главного артиллерийского управления специально для усиления боевых комплектов для 3-дм пушек – 10 000 000 рублей. На эту сумму, при тогдашней цене за выстрел в 20 рублей, можно было заготовить 500 000 патронов, что составляет ничтожное увеличение запаса – на 8 %.
Около того же времени генерал-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба уведомил начальника Главного артиллерийского управления, что во французской армии решено увеличить боевой комплект полевой артиллерии до 3000 выстрелов на пушку.[49]
«Если бы мы, – пишет генерал Маниковский,[50] – захотели последовать этому благому примеру и довести свои комплекты хотя бы до двух тысяч выстрелов на пушку, то на 6500 пушек это потребовало бы нового дополнительного ассигнования в 6500 × 1000 × 20 = 130 000 000 рублей. А если бы комплекты довести до 3000 на пушку, то потребовалась бы сумма вдвое большая, т. е. 260 миллионов рублей.
На такие суммы сверхштатных ассигнований никакой военный министр, даже при всей поддержке Государственной думы, конечно, рассчитывать в те времена не мог, особенно ввиду того, что тут речь шла только о выстрелах для орудий 3-дм калибра».
Но, кроме только что требовавшихся указанных единовременных расходов, вопрос значительного увеличения мобилизационного артиллерийского запаса осложнялся еще другим обстоятельством.
«Чем больше боевой комплект, – пишет далее генерал Маниковский,[51] – тем дольше его освежать, а значит, тем большей порче он подвергается за продолжительное время своего хранения».
При вышеуказанных нормах боевых комплектов боевые припасы могли быть освежены в следующие сроки:
«С уверенностью можно сказать, что ни боевые заряды, ни дистанционные трубки столь долгого хранения не выдержат, так как существующий у нас бездымный порох с трудом дотянет без существенной порчи в южных округах до 10, а в северных до 15 лет (особенно при хранении в патронах), дистанционные же трубки не выдержат и 8–10-летнего хранения. Что касается собственно зарядов и взрывателей (не снаряженных), то они, конечно, могли бы храниться без порчи многие годы, но при непрерывном прогрессе в конструкции их они, конечно, скоро устарели бы и потребовали бы замены их более современными образцами.
Единственный, казалось бы, при таких условиях выход – соответственное увеличение размера отпуска на практические стрельбы – оказывался не осуществимым вследствие значительного дополнительного расхода, недопустимого опять-таки по финансовым соображениям.
И вот в заколдованном кругу финансовых и технических затруднений мы топтались до самой войны».
47
Заимствовано из таблицы генерала Маниковского (ч. II, с. 58), причем исправлен итог последней графы, неверно подсчитанный у Маниковского.
48
Маниковский. Боевое снабжение Русской армии в 1914–1918 гг. Ч. III.
49
В действительности Франция не смогла осуществить эти решения и имела к началу войны всего 1400 выстрелов на орудие.
50
Маниковский. Указанное сочинение. Ч. III. С. 9.
51
Там же. Ч. III. С. 9 и 10.