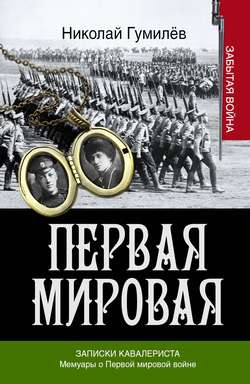Читать книгу Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой войне - Алексей Алексеевич Брусилов, Николай Гумилев - Страница 4
Н.С. Гумилев
Записки кавалериста
Глава 4
ОглавлениеНемецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, – дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.
Немецкое военное снаряжение
На другой день уже смерклось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охраненья. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стреляли. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я – по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыханье, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное уменье подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение – и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля ноет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов тра-тра-тра, и пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба не действительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но увы! – ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако, ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной, головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие, диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи. Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу Землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цыгарку и с наслаждением выкуривал ее в руках: курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.
В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.