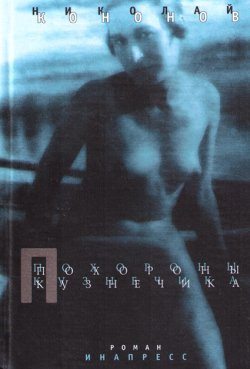Читать книгу Похороны кузнечика - Николай Кононов - Страница 2
1
Оглавление...Я снимаю с плиты ковшик, полный только что зашевелившейся закипающей воды...
Это был один из тех вечеров, когда я точно знал, что не имею права ошибиться в строгом процессе кипячения и обязан поймать, засечь именно ту самую точку, именно тот крайний миг так называемого белого ключа, когда сразу вослед гудению начинают подниматься к поверхности, чуть задрожавшей концентрическими мускулами, словно от брошенного камушка, самые первые пузырьки.
Я стою над плитой и грею лицо в восходящем паре, слушаю, вернее, пытаюсь уловить водяной звук.
Иногда, а в тот вечер совершенно определенно, на меня нисходит прямо-таки ритуальная скрупулезность в идиотически элементарных бытовых вещах. Например, в заваривании чая лишь только абсолютно правильно закипевшим психиатрическим кипятком.
Обычно я задним умом сознаю, что эта тщательность – как бы синоним глубокого душевного хаоса, раздрызга и раздрая, которые таким манером столь просто мне хочется привести в разумное состояние целесообразности и стройности.
Правда, я тут же заметил, что, что насыпал все правильные неравные пропорции двух сортов чая и мяты в заварочный чайник, полный вчерашних спитых, словно бы подгнивших чаинок, ну и бог с ними; так вот, наконец, держа в руке чайничек, проливая на линолеум крупные желтые капли заварки, так как и правильного кипятка я все-таки налил несколько больше, чем надо, я увидел нечто, поразившее меня в самое сердце...
Впрочем, надо было бы сказать еще, что и день, предшествовавший всему тому, что далее произойдет, был днем совершенно обычным, не из ряда вон, без каких бы то ни было происшествий, с обычной итоговой, накапливающейся к вечернему темному времени усталостью где-то на самом дне зрения, и это тоже было совершенно обычным делом и поэтому не очень интересным...
Так вот, к вечеру совершенно обыкновенного дня, заполненного поездкой на тихую службу, самой водянистой, мерно устоявшейся службой, мерным бездумным возвращением со службы, то есть к концу дня, знаменательного лишь тем, что тенденция к его завершению была проявлена в нем с полной очевидностью угасающего вечернего времени, оставшегося на отдых и безделье, приведя всю описанную выше исковерканную церемонию с чайником, полным заварки, в руке над стальной кухонной раковиной, зычно отвечающей маленькому йодистому дождику, стряхиваемому с носика, в сумерках кухни я был привлечен чем-то еще, якобы происходящим за моей спиной, давшим о себе знать мягким шлепком кошки, спрыгнувшей откуда-то на пол, а может быть, шорохом жесткого полиэтиленового пакета, оседавшего, как матрос в каком-то памятном киноэпизоде, почему-то я поймал себя на этой мысли.
Услышав это шуршащее, какое-то темное тканое перемещение воздуха и, подумав, на что это может быть так похоже, я отчего-то обернулся на этот звук, не сходя со своего места, проливая из чайника узенькую пунктирную струйку заварки, то есть, попросту говоря, я посмотрел через плечо и могу поклясться, что где-то на самой периферии зрительного поля, у самых дальних садов, туманных лесопосадок, холмов – так далеко за границей внятности, что голову мне приходилось поворачивать, напрягая уже не только мышцы шеи, но и перекручивая сухожилия правого плеча, я это вполне отчетливо ощущал, и даже более того, начал поворачиваться всем корпусом, – я увидел мою бабушку в распахнутом мятом цветном халате, совсем неодетую под ним, полуголую бабушку, непричесанную, с гнутым гребнем в руке, – она пугающе смотрела прямо на меня, но совершенно и очевидно не видела, проницала, смотрела сквозь, – так глядятся в зеркало, собравшись расчесывать волосы, поправлять там брови и вообще приводить себя в порядок, – не видела она меня еще и оттого, что мутные глаза ее явно и вопиюще косили...
Сколько это длилось?
Трудно сказать.
Но когда я опять посмотрел перед собой, то чайник был совершенно пуст, заварку я из него вылил всю – желторжавая лужица стояла на стальном поблескивающем дне раковины, так как она была установлена, как и все в нашем новом доме, криво, и какая-то муть в ней постоянно застаивалась...
Где вы все? Где ты? Где же? Где, где, где, где...
Господи, но ведь моя дорогая бабушка умерла несколько лет назад, как говорится, на моих руках.
И можно сказать про этот промежуток времени: уже давно...
И я уже почти все про это позабыл.
И я понимаю всю сомнительную правдоподобность вышеприведенной сцены, но мне дает на нее право тот крайний край зрения, где все это происходило, разыгрывалось, та периферия роговицы, та окраина, та даль, где кончается зримая жизнь, где она иссякает, где в силу этого бог знает что происходит. Кострища в лесопосадках, горелые шины, трупы собак и кошек, битые бутылки, то есть все ужасы, отринутые за границу зримого, обжитого, переведенные в инфантильный план иллюзий, страхи, смещенные к дельте кровеносных сосудов, похожих на контурную карту Месопотамии.
Где вы все?
Где ты? Где? где, где, где, где, где все, начиная с маленького обломка горелой спички, хитро вставляемого в косую боковину нашего почтового ящика – плоского, голубого, фанерного, с набычившейся головастой цифрой «девять» на фасаде.
Не от кого запирать тощие, по-холостяцки благоухающие типографией газеты, письма с астенически плоской грудью, украшенные сизой татуировкой чернильного адреса, – их не от кого скрывать, так как внушительная часть наших корреспондентов уже не может воспользоваться этим способом сношений, ну а те, кто рылся в чужой почте, утратили и тень интереса, обломав в тысяча девятьсот таком-то и таком-то году свой старческий ноготь, разгадывая спичечную головоломку запора не рискуя попросту дернуть на себя дверку ящика, страшась прилюдного разоблачения на кухне при свете восьми газовых свистящих конфорок, и вообще-то уже тогда, если быть точным, ни у кого из них не было и тени мужества для подобного риска.
Где же?..
Испарина испуга, мгновенно выступившая отчего-то между лопатками, клейкая, неотделимая, так и осталась; оказалось, что ее невозможно промокнуть, она все время существовала как бы с изнанки тела и потому ощущалась постоянно.
Мне следовало бы сказать, что все мои дальнейшие, еще не случившиеся, но предугадываемые действия, как бы прокручиваемые мной в сознании, оказались чреваты оскорбляюще легковесной иллюзорностью.
Ведь подлинное состояние определялось совсем иным – уж точно не зрелищем подступающего небытия, ведь оно все же было cуммарно, предощутимо, интеллектуально, что ли, а совсем другими, никогда не подмечаемыми подробностями и знаками.
Например, невыводимой легко-сладкой атмосферной мочи.
Она какой-то дряхлой, но настойчивой нотой тихо заявляла о себе еще при самом входе в жилье, на кухне с кипящими выварками. И она разворачивалась дугой спирали, словно бы протянутой через темный коридорчик в наши комнаты. В первый миг мне показалось, что этот запах немного сдавливает грудь.
Еще какой-то неживой ландшафт нашего вытертого верблюжьего одеяла.
Оно слишком тяжко прогибалось от пальцев ног к животу, весомо напоминая о той тяжести, угнетающей человека всю жизнь, но проявляющейся так монументально лишь в определенных случаях.
И все это нельзя предугадать.
То есть нельзя предугадать некоторый совсем невеликий набор сигналов, непосредственно вызывающий в нас короткое замыкание прямого отчаянного страха, внятной душевной муки, давшей знать о себе подступающей тошнотой, вмиг помутившимся зрением.
А только что в кабине такси это же зрение было четким и примечающим бог знает какую глупейшую мелочь – армейскую татуировку «ГСВГ» на запястье веселого пузатого таксиста.
Оказалось, что все это работает помимо нас, самовольно пребывая где-то в отдельной силовой стихии до известного момента, так сказать, до встречи.
Это все разворачивалось и медленно проступало видимым кишением чего-то такого очень важного, еще неназываемого по имени. Тут, перед моим взором в комнате, где я когда-то жил, точнее, только ночевал, так как она была самой проходной из всех трех принадлежащих нам в полуподвальной коммуналке.
Важность случившегося или происходившего как бы подчеркивалась самим местом – напротив двери, немного по диагонали.
Так что ни одному входившему не удалось бы уклониться от этого зрелища: в комнате все было так же, как и всегда. Лишь на диване лежала бабушка, ее за четыре дня до моего приезда разбил паралич.
Теперь она лежит с закатившимися глазами, перекошенным, как-то съехавшим вбок, полуоткрытым, криво лыбящимся ртом, будто грузная лодка. Она лишь иногда резко вскидывает белую заголившуюся руку, как мачту, и несколько минут держит ее совершенно жестко, вертикально. Потом, слабея, рука медленно стекает по пестрой диванной обивке, так, видно, и не уловив ободряющего привета из жаркого летнего эфира, который должен был бы уместиться в ее ладони.
Через розовые слабые занавески.
Она покоится, а не лежит в странной позе, лицом вверх, словно тяжкая-тяжкая баржа на отмели. Дышит хрипло и глубоко с каким-то животным присвистом, будто еще один, прежде не существовавший орган иногда подключается к дыханию. Она иногда стонет, словно бы издалека видя себя, окончательно беспомощную, на этом диване, и голос доносится до нас с мамой и, может быть, даже до нее самой каким-то неправдоподобно сокрушающимся эхом – охххоо...
Может, действительно, она узнала, увидела себя со стороны и не нашла сил удивиться и ужаснуться, и губы сложились в первую необдуманную фигуру, неправдивую, дико-улыбчивую гримасу, не отражающую безнадежности всего этого дела.
Я по-идиотски криво улыбаюсь, стоя рядом с нею.[1]
Об этой неуместной улыбке я догадался, перехватив быстрый, скользнувший по моим щекам сухой кисточкой мамин взгляд. Я отвернулся.
Но перестань я улыбаться, точно уж разрыдался бы, так как сдерживающих сил при всем этом зрелище оставалось лишь на то, что бы проглатывать слюну, толкать ее мелкими глотками в желудок, запирая таким образом слезные железы, а лицевые мышцы были отпущены на все четыре.[2]
Эта замкнутость бабушки, ее безответность,[3]
Я помню, как мокрый стяг холстины оставляет на половицах зеркальные холодные следы, выравнивая цветовую палитру пестрого, многократно крашенного разной краской пола, приводя его к одному влажному, поблескивающему универсальному смыслу тупого объекта моих усилий, истребляя потускневшие, вытоптанные в древесине дорожки от двери к буфету, от буфета к дивану, от дивана к телевизору и телефону.
Он просто влажен и чист.
От него восходит прохлада.
Он лишен, пока не просох, свидетельств жизни – усердной и повторяемой – жилиц этой квартиры.
Его никто, кажется, не топтал по ежедневному маршруту, никто не оставлял старческого пунктира мочи на его свежей сияющей поверхности.
Мне хочется везде навести порядок, вернее, не навести, а наводить, чтобы простая функция уборки затмила своей возобновляемостью гнусный пугающий цвет воды в цинковом ведре, где я беспрестанно полощу и отжимаю тряпку, воды, хоть и прошедшей всякие водопроводные завитушки и фортели, все равно – речной, почвенной, имеющей самое прямое отношение к холоду, праху и уничтожающей все, в том числе и прах и холод, силе.
Но это чувство быстро уходит, когда, сделав шаг в сторону, я продолжаю возить по полу влажное серое полотнище.
Я словно перешел через какую-то незримую границу любви. Поцелуи согревали меня лишь в момент осязания других влажных взволнованных губ, трепещущего языка. Но и они исчезли без следа, растаяли, перевалив за тонкую границу осязанья.
Ничего не хочется повторять, мучаясь усладой, усладой, столь далекой от привязанности и компромисса.
Это словно наслаждение наоборот – мучительное и ранящее, оно затмевается повторяемостью совершаемых нами действий: мытьем, едой, стиркой и прочей повторяемой ерундой.
Потом, много позже, зимой я увижу огромную оснеженную, с загнутым пробитым носом лодку-гулянку во дворе дома, где живет мама, бесконечно мертвую на четырех утонувших в снегу колесиках, вытащенную, видно, из воды много лет назад и брошенную так неповторимо и мрачно, что смотреть на нее пристально, впрямую было как-то неловко, нельзя, – на это публичное мерное умирание.
Умирание бабушки происходило в замкнутой комнате, в этом розовом, чуть закисшем сыром аквариуме, где она лежала у стенки, на диване, – опрокинутая на спину черепаха под тяжелым панцирем одеяла, чьи складки поправлять было не надо, так как двигаться, поворачиваться, откликаться на что бы то ни было она не могла.
Да и складок, резких ложбин, обычно сопутствующих спящему человеку, не было; чувствовалось, что над этим диваном даже сила тяжести мощнее и необоримое, нежели в полуметре, где лежит на полу каким-то случайным живым эфемерным шалашиком газета.
Стоило кому-либо из нас отлучиться – мне или маме – или какое-то протяженное время просто не подходить к бабушке или не смотреть в ее сторону, как одеяло почему-то самопроизвольно, не меняя общей картины тяжелых складок, как-то само по себе совершенно незаметно сползало на пол, стекая с бабушки, словно глетчер с горы.
Я, когда приходилось поправлять его, видел, что это соскальзывание невозможно соотнести с совершенной пассивностью бабушкиного тела.
И, может быть, это единственное изменение всей общей окаменелой картины словно шептало на войлочном языке что-то о чудной уступчивой изменчивости жизни, еще теплившейся тут, намекало на невидимую тяжелую тектоническую борьбу, тут происходящую, еще не упраздненную.
В комнате, в этом погашенном аквариуме, все-таки полном пыльного, едва шевелящегося, словно животного, света, никто из посторонних не смотрел на то, как есть бабушка уже не могла, лишь две-три чайные ложечки киселя.
Как для этого надо было приподнять ее голову в сбившихся, липких, распрямившихся волосах, тяжелую и отчужденно жесткую, какую-то керамическую и хрупкую.
Как с трудом, медленно с задержками, будто в останавливающемся кино, она глотает. Как весь процесс обычного глотания распался на с трудом связуемые напряженные видимые фазы, как вообще все стало разрозненно, и мы с мамой переговариваемся замедленным шепотом – мы ощущаем плотность этого сгустившегося времени, не чреватого ничем посторонним кроме главного, теперь неотвратимого события.
1
Так, впрочем, случается со мной и при вполне обыденных обстоятельствах.
Я не раз ловил себя на том, что, говоря с безразличным или неприятным мне человеком, я легко владею мимикой, складывающей лицевые мышцы в нейтральные выражения. Но так много трачу на это сил, столь много думаю о бровях и так сосредоточиваю взгляд на переносице собеседника или мочке его уха, усердно минуя его ответный взор, что голосовые модуляции вырываются из-под неполного контроля. И вот, как зверьки, своевольно расползаясь, выдают меня с головой. Всего лишь на полтона выше звучат мои уверенья, как обнаруживается вся их мнимая, якобы соболезнующая участливость, и еще жестче проступает скрываемые холодность и безразличие. Куда лучше не вызывать такие ноты, от которых должно, по всем законам, запершить в горле – ведь плакать теперь придется настоящими, неинтеллектуальными слезами. Поэтому я перестал со всем этим бороться и в минуты настойчивого волнения всегда двусмысленно, недопустимо, почти цинично, на взгляд посторонних, улыбаюсь.
И я не могу согнать эту подлую гримасу со своего лица.
2
Одинокий старый человек, чье одиночество будет явлено нам в долгом многодневном лежании на этом диване, шаг за шагом, вздох за вздохом доберется до явного отрицания всего, что не является им самим, – она не будет замечать нашего присутствия, не будет реагировать на смену дня и ночи, она не захочет есть, так как почти не сможет это делать, она в конце концов замолчит, замкнувшись в себе, в створках своего безмолвия; дни и календарные числа для нее – уже не мера текущего времени, так как своим бездействием, одиноким существованием она снимает саму идею времени с повестки дня, да и ночи тоже, проникая в пространство снов с их одномоментностью и обреченностью на полное забвение.
3
Именно поэтому мы все время будем хотеть чем-то занять себя, ввести самих себя в круг привычных мотиваций – бесконечным мытьем очень чистых полов, бессмысленным приготовлением незамысловатой еды, к которой не испытываем аппетита, или еще чем-то, но непременно строго регламентированным и простым, уж не чтением, конечно.
Ее непонимание складываются в ранящее нас – меня и маму – безразличие, жестокое своей невозмутимостью, унижающее, неприемлемое.