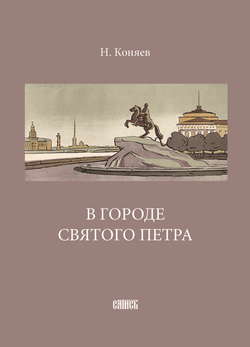Читать книгу В городе святого Петра - Николай Коняев - Страница 11
Заступник российский
Глава первая
Оглавление1
Уезжая в 1236 году княжить в Киев, Ярослав Всеволодович посадил на новгородском столе Александра. 7 февраля пал Владимир. И здесь все жители города были перебиты. В соборной Богородичной церкви захватчики заживо сожгли епископа Митрофана, великую княгиню с детьми, народ, набившийся в храм в поисках спасения.
К концу февраля пали Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь, а татаре «идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, а ини на Волгу на Городец, и ти плениша все по Волге, даже и до Галича Мерьского, а ини идоша на Переславль и то взяша и оттоле всю страну и гради многа плениша»…
Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович начал собирать тогда войска, чтобы дать совместными силами отпор врагу.
На реку Сить к нему пришли со своими дружинами князь Юрьевский Святослав Всеволодович, князь Ростовский Василько Константинович, князь Ярославский Всеволод Константинович, князь Угличский Владимир Константинович…
Но 4 марта татары обрушились на еще не изготовившиеся к сражению русские войска, и каждая русская рать приняла тогда смертельный бой там, где и стояла.
Возле Божонки… Возле Могилицы… Возле Колегаево… Возле Станилово… Возле Семеновского… Возле Сить-Покровского…Возле Юрьевского… Возле Городища… Возле Игнатовой… На ручье Войсковом… От верховьев до среднего течения Сити, где сейчас село Красное, потекла, захлестывая берега, кровь.
Погиб тогда основатель Нижнего Новгорода, пятидесятилетний великий князь Владимирский святой Юрий Всеволодович.
Князь Ростовский святой Василько Константинович (в крещении Василий) попал в плен и был убит в Шеренском лесу между Кашиным и Калязиным.
Убили и святого благоверного князя Ярославского Всеволода.
С тех пор и стали кладбища, как утверждают путеводители, особой чертой ситского пейзажа. Если увидишь островки соснового леса среди полей, знай, что это непременно курганные группы…
2
А татары шли дальше, и везде, где стояли цветущие города, распускали свои черные крылья пепелища. И зарастали русские дороги бурьяном, колючки семян которого принесла на Русь на лошадиных хвостах татарская конница…
Всего в ста верстах от Новгорода – татарской коннице хватило бы и дня, чтобы покрыть это расстояние! – раскинулось село Игнач Крест[3].
Здесь татарская конница неожиданно повернула назад.
Злая участь, ожидавшая Великий Новгород, досталась тогда Козельску. Все жители его были безжалостно истреблены. Погиб при штурме и малолетний князь Василий. Он утонул в текущей по улицам крови.
Историки считают, что татары отвернули от Новгорода, опасаясь новгородских лесов и болот.
Может быть, и так…
Хотя непонятно, конечно, почему этот страх охватил татар, когда уже столько русских болот и лесов осталось за спиной…
А может быть, не надо приискивать лукавых объяснений?
Может быть, просто надо повторить такие простые и такие мудрые слова, что «нельзя не удивляться судьбам Божественного Промысла, сохранившего для России невредимым князя Ярослава Всеволодовича и его семейство, точно Ноя в ковчеге, среди ужасов гибели и разорения»…
И великой заслугой Ярослава Всеволодовича должно считать то, что он сумел правильно распорядиться этой Божией милостью. Мы знаем, что хотя Новгород и не был разорен татарами, но уже в 1239 году отправился новгородский князь в Орду, чтобы установить на востоке мир, под прикрытием которого и удастся его сыну – Александру отбить нашествие крестоносцев с запада.
3
Великая судьба была уготована Александру Ярославовичу…
Всего один год разделяет день, когда повернула вспять у Игнач Креста монгольская конница, с днями, когда напишет ярл Биргер Александру Ярославичу:
«Если можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою!»
И этот год не впустую был потрачен новгородским князем.
Самое подходящее слово для этого года – укрепление. Укреплялись новгородские рубежи, укреплялась княжеская дружина, укреплялся сам князь…
В 1239 году он обвенчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Родственница преподобной Евфросинии становится женой князя, которому предстоит стать святым…
О венчании известно немного.
Было две свадьбы, или, как говорили тогда, две каши.
Само венчание происходило в Торопце, перед чудотворной Корсунской иконой Богоматери, написанной, по преданию, евангелистом Лукой…
Главные же торжества прошли на берегах Ильменя.
Здесь, на свадьбе князя Александра Ярославина с Александрой Брячиславовной гулял весь Великий Новгород. Вельможи и воеводы, купцы и иереи, кузнецы и плотники праздновали превращение своего князя в мужа.
Семь столетий спустя, в такую же страшную для России годину испытаний, великая русская поэтесса Анна Ахматова скажет:
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Час мужества наступал в 1240 году и для Великого Новгорода, и для его князя – Александра Ярославина…
4
Именно в ту страшную для нас годину татарского нашествия, папа Римский и собрал крестоносцев, чтобы нанести удар в спину израненной Руси.
Разгром и покорение нетронутой татарами Северной Руси готовилось Западом планомерно и целеустремленно.
Орден меченосцев усилили слившимся с ним Тевтонским орденом. Рыцарям пришлось пожертвовать частью владений в Ливонии, но взамен Римский понтифик разрешил им вознаградить себя покоренными псковскими землями.
На восток, в псковские пределы, и устремились немецкие рыцари.
А на соединение с ними, с севера-запада, двинулись шведы. Шведских героев папа Римский сулил вознаградить новгородской землей.
Ярд Биргер, бывший, по преданию, зятем короля Эрика, возглавил крестовый поход[4].
– Туда спешите, братья! – показывая на вставшую на востоке комету, торопили римские эмиссары. – Вот вам – небесная путеводительница!
Война, даже когда готовишься к ней, никогда не бывает вовремя.
Но крестоносцы Биргера сумели выбрать особенно неудачное для новгородцев время – великий князь Ярослав Всеволодович находился со своей дружиной вдалеке от Новгорода…
И времени, чтобы собрать ополчение, тоже не оставалось. Слишком быстро, «пыхая духом ратным», надвигался ярл Биргер.
В начале июля 1240 года шведские корабли вошли в Неву и встали в устье Ижоры, ожидая приближения немецких рыцарей, чтобы совместно с ними и приступить к покорению новгородской земли.
Нельзя было допустить этого соединения сил неприятеля. Противостоять объединенному войску крестоносцев Новгород бы уже не сумел.
Юный князь Александр Ярославич не растерялся в минуту грозной опасности. Когда пришло известие о высадке шведов, он первым делом отправился в храм Святой Софии.
Мерцали перед образами свечи…
В гулкой тишине звучали слова молитвы вставшего перед алтарем князя:
– Владыка прещедрый! Слыши слова похваляющихся разорити святую веру православную! Стань в помощь мне! Ты бо еси Бог наш и на Тя уповаем!
Новгородский архиепископ Спиридон благословил князя, и когда Александр Ярославич вышел из Корсунских ворот, перед которыми выстроилась его небольшая дружина, он уже знал, на какую войну предстоит идти.
Не только себя, не только Великий Новгород предстояло защитить ему. Предстояло отстоять от злого врага западные рубежи Русского Православия.
– Не в силе Бог, но в правде! – прозвучали над притихшей площадью великие слова.
Грозная упругость лука, в который уже вложили стрелу, была в этих словах двадцатилетнего князя. Как стрела, пущенная рукою Господней, и устремилась навстречу врагу дружина Александра…
5
Ярл Биргер, отправляя надменное послание Александру, ещё и потому так откровенно глумился над ним, что знал: силы, которыми располагает князь, не смогут противостоять его войску. Знал Биргер, что и помощи из разоренной татарами Руси не будет Новгороду.
Оставалось только дождаться немецких рыцарей – и тогда уже никому не разжать будет клещи, сдавившие северо-восток Руси…
Гордо белели на берегу шатры крестоносцев…
Привязанные бечевами к берегу, лениво покачивались шведские шнеки…
Даже и представить себе не мог ярл Биргер, что несколько часов спустя это выбранное для отдыха место превратится в поле кровавой битвы…
Неведомо было надменному крестоносцу, что Александр уже «разгорелся сердцем… и восприим Псаломную песнь рече: суди, Господи, обидящим мя, возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, стань в помощь мне».
И представить не мог Биргер, что Александр двинулся в поход «в мале дружине, не сождався со многою силою своею, но уповая на Святую Троицу».
6
Когда Александр приближался к устью Ижоры, его встретил ижорский старейшина Пелгусий, крещенный в Православие и нареченный Филиппом…
Пелгусию было поручено наблюдать стражу, и он всю ночь провел без сна и на восходе солнца услышал грозный шум.
Прямо по небу плыла ладья, на которой в багряных одеждах стояли святые мученики Борис и Глеб. Руки святых лежали на раменах друг у друга, а гребцы были как бы одеты мглою.
Князь Александр, слушая рассказ ижорского старейшины, смотрел на солнце, встающее над лесом…
Там, за лесом, находился лагерь ярла Биргера.
Первые лучи уже упали на землю, согревая ее, и над землею клубился легкий дымок…
– И я слышал, – держась за княжеское стремя, рассказывал Пелгусий. – Слышал, как Борис сказал: «Брат Глеб! Вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру Ярославичу»[5].
Поверх головы Пелгусия смотрел князь на встающее солнце, и ему открывалось то, что не мог постигнуть ижорский староста… Сыновья его прапрадеда, равноапостольного князя Владимира, великие страстотерпцы, положившие животы свои, чтобы не было раздора на Русской земле, приплыли к нему на помощь.
Всё выше поднималось из-за леса солнце.
Уже разгорался день 15 июля 1240 года.
День, когда празднует Русская Православная Церковь память святого равноапостольного князя Владимира, прапрадеда Александра.
Князь тронул застоявшегося коня.
– С Богом! – сказал он и взмахнул рукой.
7
Как гроза Божья, как стрела, пущенная рукою Господней, летел впереди дружины юный князь.
Подобным удару небесной молнии был его натиск.
Не успели шведы опомниться, как новгородские дружинники уже прорвались в центр лагеря.
Князь Александр «собственным копьем возложил печать» на лицо Биргера, а отрок Савва в это же мгновение подрубил топором столб, поддерживающий златоверхий шатер надменного ярла.
Преследуя бегущих шведов, дружинник Гаврила Алексии верхом на коне взлетел по трапу на корабль за врагами. Его сбросили с конем прямо в воду, но Гаврила остался невредим и, выбравшись из воды, продолжал рубиться мечом со шведским воеводой.
Отважно крушили шведов дружинник Сбыслав Якунович и ловчий князя Яков Полочанин. А новгородец Миша прорвался со своей пешей дружиной на шведские корабли и начал топить их[6]…
Разгром был полный и сокрушительный.
Остатки шведских отрядов бежали на уцелевших судах.
Так бесславно и завершился этот крестовый поход на Русь.
Потери шведов оказались огромными, а новгородцы потеряли убитыми чуть больше двух десятков человек…
Каково же было удивление дружинников, когда на следующий день они обнаружили на другом берегу Ижоры ещё одну поляну, усеянную трупами врагов.
Кем были сражены они?
Не Ангелом ли Господним?
И отвечая сами себе, уже как пророческие, повторяли дружинники слова князя, сказанные на Соборной площади в Новгороде…
– Нас мало, а враг силен. Но не в силе Бог, а в правде!
3
Нынешние Крестцы.
4
Исследователи справедливо отмечают, что на «крестовый» характер похода указывает отмеченное летописью наличие в войске, пришедшем на Неву, нескольких «пискупов». А ведь в шведском государстве на то время насчитывалось всего шесть епископов, включая и Финляндского.
5
Пелгусий стоял «при крае моря, стрежашеть обою пути, и пребысть всю нощь во бденьи; яко же нача всходити солнце, и слыша шум страшен по морю, и виде насад (судно) един гребущь, посреде насада стояща мученику Бориса и Глеба в одеждах червленных… и рече Борис: брате Глебе! повели грести, да поможемх сроднику своему Александру».
6
Подвиги воинов Александра Невского запечатлены в миниатюрах Лицевого летописного свода. Это миниатюры, изображающие подвиги Гаврилы Олексича, новгородца Сбыслава Якуновича, Якова Полочанина, новгородца Миши, и младшего дружинника Саввы, и подвиг Ратмира.