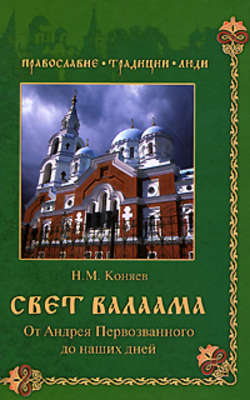Читать книгу Свет Валаама. От Андрея Первозванного до наших дней - Николай Коняев - Страница 19
Книга первая
Апостольский колокол
Часть вторая
Глава четвертая
ОглавлениеБожьим чудом называется то, что удалось совершить игумену Дамаскину за сорок лет настоятельской деятельности.
Словно, чтобы вразумить «разбуженное декабристами» население столицы Российской империи, расцветает вблизи нее осиянный Божественным светом архипелаг.
«Теперь на каменистых горах Валаама в обилии растут разных сортов яблони, сливы, вишни, арбузы, дыни и прочее, – восхищенно говорит современник. – По островам стадами ходят никем не тревожимые красивые северные олени. Леса превратились как бы в обширные сады, разрезанные широкими, удобными дорогами. Повсюду видны святые кресты, часовни, домы. Повсюду благоухает богоданная жизнь, повсюду слышится славословие Божие…»
1840 год. Перестройка скита Всех Святых. Строительство восьми одноэтажных небольших каменных корпусов и ограды.
1847 год. Начало строительства гостиничного дома на 100 номеров.
1849 год. Строительство в скиту Всех Святых двухэтажной церкви по проекту А. Горностаева.
1853 год. Строительство церкви Николая Чудотворца на Крестовом острове, переименованном по этому случаю в Никольский.
1855 год. Строительство церкви во имя святого Александра Свирского и создание Александро-Свирского скита на Святом острове.
1856 год. Строительство Странноприимного дома.
1858 год. Строительство двухэтажного корпуса на Никольском острове и создание Никольского скита.
В этом же году началось устроение Предтеченского скита на острове, называвшемся Серничаном… Для этого из Старой Ладоги перевезли на Валаам деревянную полуразрушившуюся церковь, выстроенную еще при царе Алексее Михайловиче. Ту самую церковь, которую возвели в монастыре Василия Кесарийского валаамские иноки, уцелевшие после шведского разорения в 1611 году.
Тут, видимо, надо прервать схожий с размеренной поступью богатыря-гиганта перечень строительств, осуществленных игуменом Дамаскиным, и сказать, что он не только проявил себя мудрым наставником, решительным и вместе с тем осмотрительным руководителем, способным поддерживать и развивать отношения с влиятельными людьми и жертвователями, но и обнаружил, что ясно слышит то, чего другие не слышат; прозирает то, что остальным не дано видеть.
Ни архитектурной, ни материальной ценности полуразрушенная церковь не представляла, но хозяйственно-рачительный Дамаскин пошел на достаточно большие (дорого стал перевоз церкви, а кроме того, в Васильевском монастыре пришлось отстроить новую церковь взамен) траты, потому что понимал: эта церковь смыкает прервавшуюся связь времен, соединяет прошлое монастыря с настоящим…
К лету 1858 года все работы, связанные с восстановлением церкви, были завершены, и 20 июня Высокопреосвященнейший митрополит Григорий освятил храм.
Надо сказать, что предшествовавшие Дамаскину валаамские игумены мало обращали внимания на историю монастыря.
Как справедливо заметил Н.П. Паялин, «самым ревностным собирателем древностей, относящихся хотя бы сколько-нибудь к Валаамскому монастырю, был известный своей строгой жизнью приснопамятный игумен монастыря отец Дамаскин… Его заботливая рука коснулась и библиотеки. Она находилась до отца Дамаскина в запустении. Будучи библиофилом, отец игумен не жалел средств на приобретение различных рукописей и нужных книг для библиотеки.
Он поощрял литературные труды монахов, издавал их, входил в сношения с известными историками по интересующим его вопросам относительно родного ему монастыря. И самой заветной мечтой этого игумена было найти рукописное житие преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев…»
Действительно…
Сколько сил и средств потрачено Дамаскиным на поиски так называемого «делагардиевского сундука с Новгородскими актами», где, как предполагается, находятся и документы, связанные с Валаамскими островами, и который был вывезен в начале семнадцатого века в Швецию!
Но словно на бесчувственные камни натыкается это движение души валаамского игумена на чиновничье равнодушие.
Поразителен в этом смысле письменный диалог Дамаскина с Петербургской Духовной академией.
«Не имея никаких памятников о своем прошлом, – пишет Дамаскин. – Мы осмеливаемся нижайше просить Ваше Высокопреосвященство утешить нас возвращением к нам означенных Св. Четвероевангелия и Пролога, так как они не могут иметь особенного значения в археологическом отношении и потому не важны для Академии, для нас же – неоценимо дороги, как единственно родные и священные остатки нашего прошедшего. Молим, святой Владыка, обрадуйте!»
«В Академической библиотеке упомянутые рукописи, – гласит текст резолюции, – надежнее сохраниться могут».
А как обрадовался Дамаскин, когда в «Православном собеседнике» в 1859 году появилось сообщение, что древнее рукописное житие валаамских чудотворцев Сергия и Германа передано из Соловецкого монастыря в Казанскую Духовную академию.
Дамаскин буквально закидал казанских архиереев обращениями, прошениями и напоминаниями. И опять началась бесконечная волокита.
Архиепископ Казанский и Свияжский препроводил прошение в академию, а там его положили под сукно.
Дамаскин просил, требовал, умолял…
«Тягостно грустно полугодовое молчание Академии на такой важный вопрос монастыря… – пишет Дамаскин. – Умоляю Вас, Ваше Высокопреподобие, благословите ускорить исполнение нашего прошения, с этим исполнением связан величайший и священнейший интерес монастыря…» (выделено нами. – Н.К.)
Дамаскин умоляет, Дамаскин тоскует в этих прошениях.
Житие преподобных Сергия и Германа для него не исторический памятник (как и церковь, перевезенная из Старой Ладоги), а святыня, в которой братия сможет почерпнуть новые духовные силы для созидательных трудов на благо обители, на благо всей Русской Православной Церкви.
Удивительно, но спокойный и мудрый голос игумена Дамаскина: «Ведь наши древности, находящиеся то там, то здесь, составляют как бы одно целое с монастырем…» – по-прежнему актуален сейчас, как и многие годы назад.
Другое дело, что и жизнь игумена Дамаскина, давно уже ставшая неотъемлемой частью истории Валаамского монастыря, сейчас, когда переживает Валаам свое третье возрождение, так же плохо известна, как и та история, постигнуть которую стремился сам игумен Дамаскин…
Еще не достроен был Предтеченский скит, еще не выявился до конца замысел игумена привести в соответствие с небесным устроением топографию монастыря, а уже двинулись из глубины веков святые иноки, словно расслышав гул апостольского колокола, бьющегося пока только в груди Дамаскина.
Рассказывали о видении, бывшем валаамскому иноку.
Шел он по Назарьевской пустыни…
Вдруг вдали послышалось погребальное пение старого образца, гнусавое. Инок, изумленный, остановился. Было это среди белого дня. Вдали из зеленой чащи, залитой солнечным светом, показалось шествие черноризцев в два ряда. Шли они, сложив руки на груди, «образом же были пресветлы и очи имели кротости несказанной»…
Только когда шествие приблизилось к монаху, он увидел, что все черноризцы обрызганы кровью и покрыты ранами.
Там, где прошли они, трава оказалась непомятой…
К этому же времени относится первые документальные свидетельства о чудодейственной силе молитвы игумена Дамаскина.
В октябре 1860 года случилось ему быть по делам в Петербурге. Рано утром выехали на тройке с подворья. Путь лежал через Троицкий мост.
Мост – по Неве шли суда – развели, и пришлось долго ждать. Лошади озябли. Когда подняли шлагбаум, они сразу сорвались с места…
Но, о ужас! – оказалось, что шлагбаум подняли слишком рано, еще не сведены были плашкоты. Гибель казалась неминуемой. Однако «в эту невыразимо ужасную минуту» Дамаскин не растерялся.
Он перекрестил несущихся лошадей, и тут же пристяжная поскользнулась и упала под ноги коренной. Та остановилась.
«Это было просто чудо, даже страшно и вспоминать про эту потрясающую душу картину. Подождав немного, благополучно переехали через мост, только пристяжная лошадь пострадала, потому что ее помяло».
А вот другой случай…
Произошел он 25 мая 1871 года, в день обретения главы Иоанна Крестителя.
В час пополудни игумен Дамаскин выехал на своем пароходе из монастыря на остров Вощеной. Не доехали до него вёрст восемь, как вдруг поднялся шквал. Заревел, засвистел ветер. Вода поднималась пылью, и в воздухе сразу стало темно. Острова пропали из глаз. В течение получаса переменилось четыре ветра. Шкипер растерялся, не зная, что делать…
Положение усугублялось тем, что пароход буксировал большую лодку, нагруженную рабочими. Все они кричали от испуга. Необыкновенно сильный гром с треском разрывал небо над головою. Страшные молнии освещали темную воду… Волны подымались и рвались на пароход. Шум разбушевавшейся стихии, крики людей сливались в одно.
И вот, посреди этого разгула стихии, посреди криков о помощи, игумен Дамаскин как бы на минуту погрузился в себя, потом перекрестился и начал ограждать крестным знамением все четыре стороны. Погода начала стихать и совершенно стихла…
Благополучно возвратились в монастырь.
Будучи простым иноком, семь лет провел Дамаскин в пустыни. Немало потерпел здесь от искушений бесовских…
Нередко в осенние ночи являлся к нему враг в виде исходящего из озерка с растрепанными волосами человека… Иногда враг нападал, нагоняя уныние и скуку. Молитвою и крестным знамением оборонял себя инок Дамаскин.
Молитва и крестное знамение защищали и игумена Дамаскина.
Сама его административно-хозяйственная деятельность – тоже непрерывная молитва, славящая Творца, и дивную красоту этой молитвы и доныне хранит Валаам.
«Благодарение Богу – собор наш украсился вполне; засеребрились прежде мрачные его главы и купола, и очерневшие доселе кресты его великолепно заблистали золотом! – Радостен он, когда в золоте крестов и в серебристых главах играют лучи солнечные и обливает их тихим сиянием луны, и по ним бегут светлые облака. Величественен, когда повивает их белым густым туманом и когда отражается в них синева небес. Во всех переменах времени, днем и ночью, собор прекрасен, и наполняет радостию сердца всех нас».
Это не стихотворение в прозе. Это письмо игумена Дамаскина В.М. Никитину, купцу, с помощью которого золотились кресты и серебрились купола соборного храма.
Великая тайна административно-хозяйственных успехов Дамаскина в том и состояла, что он не хитрил, не изворачивался, добывая необходимые средства, а возвышал жертвователей до своей молитвы, делал их участниками этой молитвы…
1858 год. В главном монастырском заливе, на отвесной гранитной скале противоположного от монастыря берега, вырублен футшток для производства наблюдений над уровнем воды в Ладоге.
1859 год. С первого января заведены на Валааме ежедневные наблюдения за колебанием воды Ладожского озера. Они велись непрерывно восемьдесят лет до 1 декабря 1939 года.
1863 год. Выстроено и оборудовано каменное здание водопровода и слесарно-механических мастерских. (В войну 1939–1940 гг. это здание было сожжено и разрушено, сам водопровод испорчен.)
1871 год. Выстроен каменный дом для рабочих с конюшнями для лошадей и сеновалом.
1877 год. Устроена каменная гранитная лестница к пароходной пристани в 62 ступени, а также и чугунная решетка с гранитными столбами по берегу главной площадки пред святыми вратами.
Величественная поступь богатыря ощущается в хозяйственых свершениях Дамаскина.
На крутой скале, возвышающейся над Монастырской бухтой, вырос водопроводный дом. В нем поместилась водоподъемная паровая машина, кузница, столярка, литейная мастерская, мельница, прачечная… Вода поднималась из колодца, соединенного трубой с проливом. По трубам, проложенным в туннеле, вода подавалась во все жилые монастырские помещения, на кухню, в погреба, в хлебную и больницу.
Приобретаются, вопреки сопротивлению финских властей, старые монастырские острова.
Остров Сускасалми становится островом Святого Германа.
Остров Пуутсаари – островом Святого Сергия.
Воссинансаари – Тихвинским.
В 1867 году остров Лембос преобразился в Ильинский остров. Здесь вырос деревянный храм и Ильинский скит.
В 1870 году, невдалеке от пустыньки, где в совершенном уединении семь лет работал Господу немолчною молитвою и строгим постом инок Дамаскин, вырос Коневской скит. 25 сентября освятили деревянный храм во имя Коневской иконы Божией Матери.
В 1873 году устроен скит святого преподобного Авраамия Ростовского. 9 октября здесь освящена деревянная церковь.
В этот же год для монастырского соборного храма на заводе госпожи Стуколкиной в Санкт-Петербурге отлили тысячепудовый колокол. В память святого апостола, водрузившего на Валааме крест, назван был этот колокол Андреевским.
Дивной была работа литейщиков… На колоколе разместились барельефы Святой Троицы, Преображения Господня, Успения Божьей Матери, святителя Николая, преподобных Сергия и Германа и самого святого апостола Андрея Первозванного с крестом, который он установил на Валааме.
Когда колокол подняли на колокольню, услышали и его голос.
«Как от апостола Андрея во всю землю изыде вещание и в концы вселенной глаголы его, – восхищенно записывал современник, – так и от колокола этого не только на всю Валаамскую землю исходит вещание, но и за пределы озера: в Финляндии и Карелии, за сорок верст слышится звон его, причем всякий верующий, огласившись благодатным звуком его, молитвенно сердцем и умом славит Бога!»
И откликнулись апостольскому колоколу колокола Никольского скита, этого маяка и стража Валаама, вставшего на островке, на отлете, у входа в Монастырскую бухту…
И откликнулись колокола похожего на крепость скита Всех Святых.
И в Предтеченском скиту, суровым утесом, выдвинувшемся в озеро, заговорил колокол…
А следом зазвенели колокола в скиту на Святом острове, где подвизался преподобный Александр Свирский…
В Коневском скиту…
В Авраамиевом скиту, строительство которого только что завершилось…
Неземной гармонией и подлинным величием был исполнен замысел монастырского строительства, затеянного Дамаскиным. Теперь, когда зазвучали колокола, это стало явно всем.
Говорил «Апостол Андрей Первозванный», и откликались на его голос святые ученики и последователи. Ликующе звенели над Валаамом колокола…
Считается, что колокольный звон очищает воздух, убивая болезнетворные микробы… Перезвон валаамских колоколов очищал от микробов воздух нашей истории.
И трудно удержаться тут и не процитировать еще раз слова профессора Санкт-Петербургской Духовной академии А.А. Бронзова, сказанные им в начале двадцатого века о валаамских святых и подвижниках.
«Их имена, относящиеся почти исключительно к прошедшему столетию, конечно, ничего не говорят людям, незнакомым с историей Валаама… А если бы они были широко обнародованы, вызвали бы массу подражаний, кто как мог бы, конечно, уподобиться этим великим героям духовным. О таком опубликовании следовало бы, очень следовало бы позаботиться не ради самих подвижников, которые вовсе не нуждаются, разумеется, в людском их прославлении, а ради – повторяю – того благотворного влияния, какое их высокая жизнь могла бы оказать и оказала бы на массу народную. Ей обычно суют разные глупые просветители биографии безмозглых Марксов, Прудонов, Бебелей, Каутских, Лафаргов, Кропоткиных и т. п. с придачей пресловутых Толстых, Михайловских и пр. Хорошему, – нечего сказать, – научат да уже и научили эти господа! А биографии Валаамских подвижников научили бы только добру, любви христианской, терпению, воздержанию, прощению, нестяжательности, трудолюбию, терпению, послушанию… И жизнь “мирская” в конце концов устроилась бы совсем иначе, бесконечно лучше. Легче всем бы и дышалось. Не знали бы хулиганства и людского озверения. Ложь не была бы возведена даже в принцип в жидовских и жидовствующих листках и изданиях».
В этом высказывании мы позволили бы не согласиться лишь с утверждением насчет подвижников «исключительно прошедшего столетия». Как заметил святитель Игнатий (Брянчанинов): «Во все исторические просветы, в которые от времени до времени проявляется существование Валаамского монастыря, видно, что иноки его проводили жизнь самую строгую…»
И примером этому, прежде всего, сам Дамаскин…
Семь лет спасался в пустыни инок Дамаскин.
Сорок лет учил спасаться других… Он шел по пути, проложенному апостолом Андреем Первозванным, преподобными Сергием и Германом Валаамскими, Авраамием Ростовским, Арсением Коневским, Корнилием Палеостровским, Савватием и Германом Соловецкими, Александром Свирским, Адрианом Ондрусовским, Афанасием Сяндемским, Германом Аляскинским…
Вместе с их голосами и его голос звучал в разносящемся по окрестным странам звоне большого Апостольского колокола…