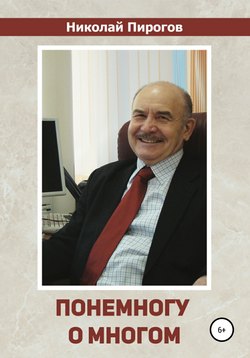Читать книгу Понемногу о многом - Николай Леонидович Пирогов - Страница 10
II. Повесть. Хорошо в деревне летом…
Генка и Галька
ОглавлениеРядом с домиком Тихона располагалось хозяйство семьи Козленко: муж – Генка, жена – Галька. Лет им было в начале 80-х не больше 35, их сыну Лешке – годов 5. Генка был малорослый, но крепкий мужичок. Галька – выше его на полголовы и тяжелее пуда на два. С большим бельмом на правом глазу и могучей фигурой производила впечатление главы бандитской группировки. Начинала говорить – и мнение в этом укреплялось: лающая манера изъяснения и каждое третье слово – матом. Работала в совхозе в полеводческой бригаде, а когда он развалился – переключилась целиком на свое хозяйство. Генка трудился где-то в лесничестве. Пьянствовал, его выгоняли, а потом снова брали на работу – людей не хватало, а он в трезвом виде считался толковым работником: понимал и в плотничном деле, и в печном, да и к тому же неплохо разбирался в технике, имел права на управление трактором и автомашиной.
Когда началось фермерство, он сразу же включился в эту работу. Оформил землю в аренду, быстро соорудил для скота помещение и разместил там купленных в совхозе двадцать бычков. Землю засеял пшеницей. Пить бросил напрочь. Вертелся на работе вместе с Галькой от зари до зари. Если раньше дружил с Володькой, нашим соседом, объединяясь с ним общим интересом по поводу выпивки, то теперь связь эту оборвал. Стал к нам прибиваться: как свободная минутка появится – идет в нам в гости вместе с Галькой и сыном. Поим их чаем, знаем, что спиртного – ни-ни, не предлагать. Жалуется на Володьку: тот смириться не может, что потерял собутыльника. Все, говорит, в драку лезет, как увидит меня, так и норовит подраться. Слыша это, Галька реагировала всегда одинаково: «Увижу такое дело, Володьку прибью, так ему и скажи». Но Володька, видно, имел это в виду, оттого, кроме скандальных разговоров, ничего и не предпринимал.
Генка вел с нами умные разговоры экономического характера: о расходе кормов на бычков, о ценах на мясо в живом весе, об урожае пшеницы, да сколько он соберет зерна, сколько заработает. Считал все правильно. Слушал я его и душа радовалась. Вот, думал, нашел себя человек. А Галька, сидя у нас, откровенно маялась: ругаться нельзя, глупости молоть тоже нежелательно, да и говорить криком не пристало. А беседовать-то надо, и ее, бедную, от такого напряжения даже пот прошибал. Долго не выдерживала, полчасика, не больше.
Генка продолжал уверенно двигаться по пути к успеху. Упорно трудился: заготавливал сено для бычков, добывал для них комбикорм, устроил поилку, провел электричество в коровник и постоянно старался что-нибудь рационализировать, улучшать. Дорогу к своему дому выровнял щебнем, ограду, не ремонтировавшуюся лет десять, привел в порядок. Всем стало видно, что это – усадьба серьезного человека. Даже Галька изменилась: стала опрятней одеваться, меньше говорить, больше работать. Приятно было смотреть на эти изменения. Думалось – вот наглядное влияние свободного труда, без какого-либо принуждения, работа на себя, а не на дядю или государство.
Наступила осень, пришло время собирать урожай и получать дивиденды за напряженный труд. Бычки, по словам Генки, дали «нормативный привес». Сдал он их заготовителям с Калужского мясокомбината. Увезли бычков на нескольких автомашинах. С ними же уехал и сам хозяин. На комбинате после взвешивания скотины дали ему справку, а деньги обещали только дней через десять, не раньше. Такой вот был у них тогда порядок. Ну, а не хочешь – не сдавай, занимайся сам и забоем, и продажей мяса.
Для Генки эта ситуация стала серьезным напрягом. Он поскучнел, затих. Впереди, однако, его ждало еще более серьезное испытание. Пшеница на его пяти гектарах созрела и зерно начало осыпаться, нужно было срочно убирать урожай. С совхозом была договоренность, что после уборки урожая на своих полях отправят комбайн на Генкины пять гектаров. Но единственный комбайн постоянно ломался, и дело не двигалось. Генка нервничал. Поле было рядом с деревней, поэтому всем было видно, что урожай пропадает. Генка не вылезал из приемной директора совхоза, ловил его на дороге, просил, умолял, объяснял, что урожай может погибнуть. Но директор бы непреклонен: «Уберем свое, а потом – к тебе».
Деревня сочувствовала Генке и кляла бессердечное начальство. На Генкино поле комбайн пришел, когда уже выпал первый снег. Потери зерна были, конечно, большие, но все же то, что собрали, в результате дало приличную прибыль. Зерно Генка сдал на совхозный ток и стал ждать получения за него денег. Это время стало для него, очевидно, самым трудным в жизни. Калужский мясокомбинат срывал обещанные сроки выплаты, дозвониться туда было очень трудно. Совхоз тоже не торопился рассчитываться, откладывая это дело со дня на день.
Сочувствие односельчан Генка стал оборачивать себе на пользу. Идет кто-либо в сторону Гусево, Генка даст ему просьбу-поручение – нажми на директора, пускай не тянет с оплатой. Как-то вечером пришел ко мне и говорит: «Назавтра надо ехать в Калугу, на мясокомбинат, ты давай, отвези меня». Это была не просьба, а сообщение о работе, которую я должен сделать. Язык не поворачивался отказать, разъяснить, что я занят, да и в Калугу можно съездить на попутке, как все ездят. Отвез я его, за что он дал мне канистру бензина – двадцать литров.
Кончились Генкины мытарства тем, что ему чуть ли не одновременно выплатили положенные деньги и за бычков, и за зерно. В руках у Генки оказалось полтора миллиона рублей. Таких денег у него не было никогда в жизни. На удивление всем стал он совсем другим человеком. Ходил спокойно, важно, говорить стал медленно и рассудительно. Пришел как-то к нам уже не как раньше – послушать хорошего совета, узнать что-то новое, а как равный к равному, сообщить о своих планах. Деньги, говорит, положу в банк под шестьсот процентов годовых. То время было лихое – инфляция бешеная, расплодилось много фирм, разными завлекательными обещаниями выманивающих деньги у клиентов, множество частных банков обещало фантастические проценты по депозитам.
Осторожно разъясняю Генке, что для выплаты ему шестисот процентов годовых банк за этот год должен смочь заработать сам значительно больше, а с учетом инфляции – вообще страшно подумать сколько. Спрашиваю: «Ты сам-то знаешь хоть одно дело, занимаясь которым можно заработать подобную прибыль?» – «Не знаю, но знать-то мне это зачем? Вон сколько у меня вырезок из газет, смотри. Все предлагают большие проценты. Некоторые даже больше шестисот годовых». И, поучающе: «Думать надо. Очень много когда предлагают – это может быть обман. С такими иметь дело нельзя. Вот так». Ясно стало, что Генка, как положено бизнесмену, изучил вопрос, и переубедить его вряд ли удастся. «Ладно, – говорю, – раз все знаешь – действуй». Мое «разрешение» воспринял с усмешкой, дескать, мы и сами с усами.
Отнес он почти все свои деньги в калужское отделение какого-то московского банка. Оставил немного на текущие траты и зажил с этого момента совсем другой жизнью. С Галькой на пару стал выпивать, причем запах шел от него, поддатого, совсем не сивушный, а благородный – коньячный, и курил он уже не «Приму», а красивые длинные сигареты с фильтром. На барахолке в Медыни купила ему Галька белый свитер. Выглядел в нем он очень импозантно.
С неделю Генку никто не видел. Это время он сидел в избе и занимался расчетами. Сделал, как потом рассказывал мне, несколько вариантов. Все они касались его предполагаемых контактов с банками. Идея была такая: через год он получает свои деньги, выросшие в шесть раз, часть тратит, а другую – распределяет по трем-четырем банкам с разными депозитными условиями. Где-то будет брать проценты ежемесячно, в каком-то банке вклад будет выигрышный, а еще наметил держать часть денег в банке в валюте. В общем, разработал целую программу, с которой меня и познакомил. Главное в его программе было то, что работать физически он больше не будет. Хватит, потрудился, поломал спину. Умные люди и жить должны по-умному. Переедет в Медынь, купит там квартиру. Сына Сережку определит в Калуге в платный интернат с математическим уклоном. У пацана ведь явные способности к математике: нет и семи лет, а до тысячи считает запросто. Галька станет домашним хозяйством заниматься.
Стал к нам захаживать чаще обычного, а деревенских сторониться. Ясное дело, он теперь им не ровня, понимать должны. По условиям банковского договора некоторую небольшую сумму Генка мог получать раз в месяц. Прошло какое-то время, отправился он в Калугу и там узнал, что отделение банка закрыто и ехать нужно в Москву. Не откладывая, на следующий же день отправился в столицу. С трудом нашел этот банк, но туда его не пустили. Разговор шел через окошечко в двери. Дали номер телефона и твердо заявили, что общение с клиентами – только по телефону. С трудом дозвонился. Работник банка себя не назвал, но сообщил, что у банка трудности и позвонить можно не раньше, чем через две недели.
После нескольких бесплодных телефонных контактов и попыток встретиться с работниками банка убедился Генка, что, скорее всего, деньги его пропали. Когда стал угрожать по телефону всякими неприятностями за мошенничество, вежливый женский голос посоветовал обратиться в суд. Это был конец… Остался Генка у разбитого корыта, как та старуха в сказке о золотой рыбке. Что в дальнейшем делала старуха, поэт не написал, а вот что делал Генка, видела вся деревня. Начал пить. Раньше, бывало, выпьет лишнего, но до дома доходит. Теперь пьет, пока с ног не свалится, и не важно, где и в какую погоду. Бриться стал от случая к случаю, выглядел неприлично. Но самое главное – озлобился на всех и больше всего – на меня, он ведь поведал мне все свои сокровенные мысли, я его отговаривал, убеждал, а он в открытую посмеивался над моими опасениями. И вот я оказался прав.
Деревенские его жалели. Один Володька откровенно радовался грехопадению Генки и возвращению его в «дореформенное» состояние. Прежняя дружба их снова наладилась, и нередко видели их вдвоем, когда изрядно пьяные шли они из Гусева, бессвязно горланя какую-то песню.
Все же пришлось Генке работать. За глаза его продолжали звать «Генка-фермер», но фермерскими делами он больше не занимался. Остался у него один бычок, вот его и содержал, ковырялся на подворье и сосредоточился на воровстве. Тянул все, что мог и откуда только мог: сено, комбикорм, силос, дрова, доски, проволоку, трубы. Делал это, как стемнеет. Завозил ворованное на тракторе или автомашине. У нашего дома на столбе висел уличный фонарь, свет он давал хоть и не сильный, но доходящий до Генкиного двора. Совсем недавно это ему нравилось, а теперь стало здорово мешать. Его не устраивало, чтобы кто-либо видел, что он привозит. Стал скандалить, требовать, чтобы фонарь убрали. Он, дескать, светит в глаза, когда Генка работает в коровнике. Говорил со злостью и ожесточением, явно не желая помнить недавние ученые беседы «за жизнь», норовил все полезть в драку. Успокоился только тогда, когда в одну из ночей скрытно залез на столб и обрезал провода.