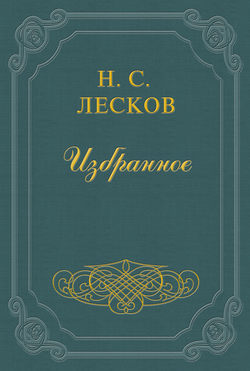Читать книгу Воительница - Николай Лесков - Страница 2
Глава вторая
ОглавлениеЯ непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.
Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, впоперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.
– Дама я, – говорит, – из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон – аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не высплюсь – ничего не почувствую.
Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, не мало от него перенесла горестей и несчастий.
Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые – седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновкы словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбудительною утреннею росою. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится, как бесноватый, так и закричит:
– Ай грецкая глаза, совсем грецкая!
Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.
– Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! – отвечает она, бывало, весело турку. – Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.
Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонек: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала: но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны – одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны бесспорно составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? – так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!
Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.
– На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, – говорила Домна Платоновна: – мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.
– Всех дел ведь сразу не переделаете, – скажешь ей бывало.
– Ну, всех, хоть не всех, – отвечает, – а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай – до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, – и сама, действительно, так и побежит скороходью.
Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.
– Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взыграет, как вижу дело какое есть.
Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.
«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!» бывало; только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять, она бегает и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.
Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.
Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупщиков на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.
Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «повбжно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.
Главное дело, что Домна Платоновна была художница – увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих – вот что было главное, и за этим просматривались и деньги, и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.
Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я зазнал драгоценную Домну Платоновну.
Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белою каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! – само смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.
– Без этого, – говорила она, – никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья, или каналья.
К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастие вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.
Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».
– Скажи ты мне, – говорила она, – что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?
Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:
– Отчего это в самом деле?