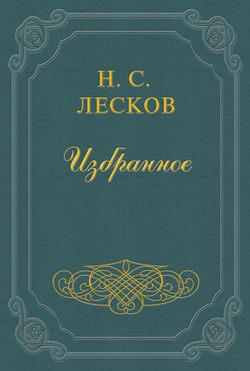Читать книгу Письма Н. Лескова (сборник) - Николай Лесков - Страница 26
Письма 1871 года
П. К. Щебальскому
Оглавление16 апреля 1871 г., Петербург.
Некоторая многосторонность Вашего письма, уважаемый Петр Карлович, требовала собрания некоторых сведений, прежде чем ответить. Я так и сделал и вот отвечаю Вам пунктуально:
1) Милюкову я прочел строки Вашего письма, касающиеся его критики и его повести. Он Вам ответит на все это сам и сегодня же.
2) Замеченная Вами действительно хорошая статья в «Заре» под буквами №№ писана стародавним сотрудником «Русского вестника», ныне губернатором, Громекою!
3) Статьи моей о книге Общества любит<елей> росс<ийской> слов<есности> в «Биржев<ых> ведомостях» вы не увидите, потому что Трубн<иков> боится, что это «поссорит его с цензурою», с которою ему хочется дружить. Усов этим очень сконфужен.
4) Вместо того чтобы просить Краевского, я взял набор моей заметки из «Биржев<ых> ведом<остей>» и отдал его Милюкову с просьбою включить в первый его библиографический отчет в «Голосе», где он постоянно ведет библиографию и журналистику. Все это исполнено вчера. Милюков обещался сделать это через неделю, а набор своей заметки я дал ему потому, что у него нет книги, да и этак короче.
5) На редакцию «Р<усского> в<естника>» трудно не жаловаться, ибо сами же Вы видите, что приходится лепить, да перелепливать тожде да к томужде, и ото всего этого не выходит ничего иного, кроме досады, охлаждения энергии, раздражения, упадка сил творчества и, наконец, фактических нелепостей и несообразностей, вроде тех, которые Вами усмотрены. Одним словом, я дописываю роман с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. Может быть, я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью. Надо же было, кажется, пожалеть и эту впечатлительность, а не раздражать ее бестолковейшими хамскими приемами, после которых я чувствую только одно, что роману уже нельзя быть таким, каким я его задумал и вел в первой части. Он убил меня, этот «милый сердцем невежда», которому не понятно ни одно живое человеческое отношение. Мне не позабыть, как его ужасало, что Форов считает себя «нигилистом». Он думает, что можно заблуждаться все только в одну сторону… Да нет; уж лучше оставим и говорить про это! Не только кровь бросается в лицо, как у людей, а даже
Все кошки в негодованье
У меня вертятся в брюхе,
как у лохматого Атта-Троля. И еще: я даже и Вам не верю в Вашу искренность, когда Вы говорите, что это «ничего». Это «ничего» стоит того «ничего», которое говорят парни неопытным девушкам, вызывая их «ночку коротать – разговаривать». Это то «ничего», которое, по пословице, «девок портит». Вы говорите: «это миф», – хорош миф, который дело портит и которого люди как черта боятся!
6) Статья Ваша, озаглавленная «Если бы», напечатана передовою статьею в страстную субботу 27 марта. Посылаю Вам ее вырезанную из «Бирж<евых> в<едомостей>». Барышни, значит, просмотрели, что и вполне свойственно их блаженной юности.
7) Критиков, помимо Милюкова, не знаю, где искать. Между дудышкинскими людьми есть некто Зарин, но он не подойдет, а другие все боятся Николая Алексеевича. Вчера мы обедали у Палкина (мы собираемся обедать два раза в месяц: я, Милюков, Маркевич, Данилевский и еще человек пять единомыслящих), и я укорял Милюкова за небрежение зовом, а Гр. Данилевский и многие другие заговорили, что «при Любимове нельзя писать критик», и вот Вам все и разговоры! И это «миф»? Впрочем, Милюков напишет «о непроизводительности в современном искусстве» и пошлет статью Вам. Не знаю уж, ловко ли это? Впрочем, Маркевич находит, что «ничего», а я опять повторяю мужичью присказку, что «ничего» девок портит. Впрочем, моя хата с краю, и я буду только радоваться, если критики, наконец, появятся в «Р<усском> в<естнике>». Катков обласкал Милюкова, и тот очарован Михаилом Никифоровичем, а М<ихаил> Н<икифорович> здесь все повторяет, что «Р<усскому> в<естнику>» нужна критика. Поимейте-ка это в виду! Я же остаюсь при своем, что из всех способнейший человек к критике это Вы, и Милюков все-таки не принесет той пользы литературе, которую принесли бы Вы, если бы сами взялись за это дело.
8) «Смех и горе» в отдельном издании уже заказаны в типографии Каткова, и Лавров прислал мне два первых листа корректуры, но на том все и стало. Прошу Вас: узнайте, пожалуйста, что сей сон обозначает? «Смех и горе» и здесь возбуждает у всех большое сочувствие. Могу сказать, что ни одна моя работа не шла при таком полном внимании читателей, как эта, которую «миф» «Русского вестника» продержал год под столами, все норовил откатнуть се ногой. Благодарю Вас за приятнейшее для меня желание Ваше видеть «Смех и горе» посвященным Вам. Ничего я не делал с таким удовольствием, как делаю это посвящение Вам, моему просвещенному руководителю, моему сердечнейшему поощрителю и драгоценнейшему и после смерти Дудышкина ни с кем несравнимому моему литературному другу. (Не бойтесь этого последнего слова, – моя дружба почтительна и помнит границы всех очертаний.) Я Вам пришлю посвящение, которое не хочу ограничить одним упоминанием Вашего имени на титуле книги, а напишу Вам несколько строк, определяющих характер драгоценнейших чувств, Вами во мне зарожденных и воспитанных. Кроме того, я скажу в том письме и о «Смехе и горе», по поводу одного весьма неприятного мне явления; все видят его «смех» и хохочут, но никто не замечает его «горя». Это мне очень досадно, и я ли тут виноват, или же и тут опять «и смех и горе»? Я пришлю это письмо к Вам, с тем чтобы Вы его обсудили, обдумали и, поправив, дали бы тиснуть в типографии и прислали мне. Надеюсь, что Вы все это сделаете, а теперь пока спросите Лаврова: за чем же стало дело? и скажите, чтобы печатали не 1800 экземпл., как было говорено, а 2400, то есть по-ихнему ровно два завода. Книжники к этому поощряют, и я рискую издать издание большое. Кому бы доверить московскую продажу? Вы хвалите Кольчугина. Как бы с ним уладить это дело? Молвите при случае слово. Условия я прошу те, что и Вы.
9) С Семевским об экземпляре «Старины» переговорю «при случае», как Вы сами того требуете.
Теперь рапорт весь отрапортован.
Далее позвольте начать грубить Вашему превосходительству.
Ваш «виноград», наверное, никуда не годится: это в Вас,
…своеволием пылая,
Мятется юность молодая,
Опасных алча перемен.
У литературы есть своя «священная мерзость», которою мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите Вы и рассуждайте: почему бы уличной женщине не сделаться хорошею женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет женою, но на деле она все-таки останется виконтессой Дюшкуранс! Это верно и подтверждено самыми беспристрастными наблюдателями. То же и с литературой: Вы со всем Вашим умом заблуждаетесь, что, садя виноград, Вы уже и «не заглянули бы ни в газету, ни в журнал». Нет-с; этот «разврат», которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не даст нам силы обречь себя на целомудренное молчание. Не быть из литератора вертоградарю, особенно же из литератора такого живого и чуткого, как Вы. Писемский вчера прислал мне большое и задушевнейшее письмо, в котором сетует за меня, что «нет руководящей критики», и потом говорит, что «путь наш тернист». Да; противный, гадкий, колкий и голодный путь:
Жизнь без надежд —
Тропа без цели,
а все-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда ни повернем, везде скиксуем и потянемся опять пошляться на своей поганой литературной улице, и это наше благо. Почему? а вот почему-с, по бывалым примерам. Ни из одного литературного человека хозяина не вышло и не выйдет, а тем паче сельского хозяина. Рожь и виноград (все равно) зреют не так, как наши мысли, и разочарования в них не менее, чем на нашем тернистом пути. У меня был отец, большой замечательный умник и дремучий семинарист, в которого, однако, влюбилась моя мать, чистокровная аристократка. Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел, женился и при его невероятной наблюдательности и проницательности прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, и уважение, и все что Вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно Вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но… неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, сделанных им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально). Второй пример есть Нестор Васильевич Кукольник, потом Степан Степанович Громека, которого вот, как видите, литературный разврат выводит из стен его губернаторского кабинета, где его никто не смеет обругать и облаять. Нет-с, равви мой благий, это Вы не дело затеваете, и Вам на этом не опочить! Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий «утробу» вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы «утробу лекаря и съели». Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что «чту, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после г….ца хочется». Вот Вам подобие силы литературной жизни, к которой тянет и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого «г….ца хочется», а то застой, коснение, измельчание. Почему измельчание? А потому, что хозяйничать хорошо или с хорошими и не малыми средствами, или со святым смирением мужика, а у Вас не может быть ни того, ни другого, и Вы скоро почувствуете тягость сугубую от сил неодолимых и от людей, имени человеческого не заслуживающих. Я это говорю не только с верою, но и с убеждением, которое не лжет мне, когда я думаю о Вас, о Вашей семье, счастье которой мне дорого и мило, и при этом припоминаю Русь такую, как я ее знаю от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру. Нет; нет; хлопочите, берите виноградник, но не делайте бесповоротного шага от литературы, сколь бы она Вам сею порою ни опротивела. Опять и это вспомянется и поманится. А ко всему этому… (Христа ради, простите) у Вас дочери девушки, девушки милые, чудесные: за что это их-то прочь от людей и в виноградник? Ведь им жить надо; нужны люди, а не виноград. И далее… дальше все-таки Мирра Александровна станет заниматься тщательным хранением ножниц, которыми бабушки обрезывают пупочки внучатам, а в свободное время будет вязать свивальники и обрубливать подгузочки из ваших выслуживших сроки рубах. Как же: ей тоже в виноградник? За что? Нет, это так не будет.
Л.